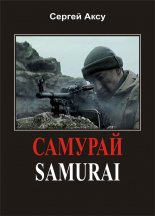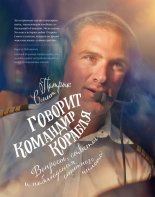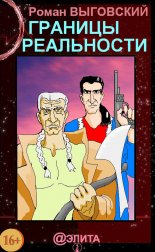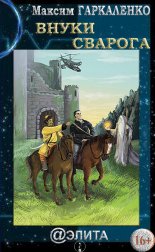Слово о полку Игореве – подделка тысячелетия Костин Александр
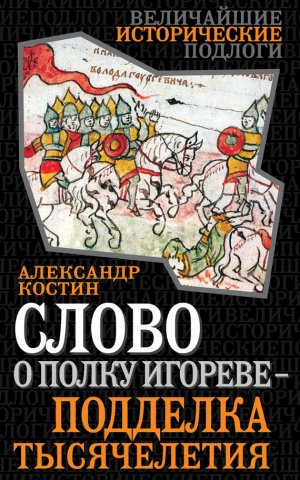
Предисловие
Воспитание «слоВом»
В Советском Союзе (России), наверное, каждый человек рано или поздно, в той или иной степени, соприкасался с поэтической жемчужиной – «Словом о полку Игореве», далее для краткости будем говорить о «Слове». Произведение изучалось в 8 или 9 классе средней школы на уроках «Русской (Советской) литературы», а поскольку в стране практически была решена задача всеобщего среднего образования, то послевоенное поколение советских людей не только читало «Слово», но отдельные его фрагменты заучивало наизусть. Старшее поколение людей слышало о «Слове» от своих детей и внуков, когда те «проходили» «Слово» согласно школьной программе, заучивая отдельные фрагменты наизусть. В течение всей своей жизни мне не приходилось встречать ни одного человека, который бы абсолютно ничего не знал об этом шедевре. Мало того, всякий раз, когда по той или иной причине возникал разговор о «Слове», окружающие тебя люди замолкали разом, лица людей облагораживались и после небольшой паузы кто-то обязательно, сначала тихонечко, как бы вспоминая что-то близкое, заветное, начинал декламировать: «Нелепо ли ны бяшеть, братие…» и т. д., кто сколько мог, вспоминал заученные когда-то наизусть в школе бессмертные строки зачина «Слова». Затем начинался шумный разговор на тему – кто может больше вспомнить строф памятника старины. Кто-то пытается наизусть прочитать «Плач Ярославны», другой с «пятое на десятое» пытается пересказать «Мутный сон Святослава» и т. п. Иногда в такой компании «попадался и настоящий «словолюб», который под всеобщее одобрение зачитывал наизусть целые фрагменты из повести, а затем делился своей радостью, что недавно по случаю приобрел редкий экземпляр такой-то книги о «Слове», с текстом «Слова» и обширным комментарием к нему. Иногда между участниками этой, стихийно возникшей дискуссии завязывались дополнительные связи, как то: у кого-то оказался на руках редкий экземпляр книги о «Слове», и он с удовольствием даст ее почитать или снять ксерокопию; у кого-то вообще оказалось два «двойника» некоей книги со «Словом», и он может уступить один экземпляр и т. д., и т. п. Расходились после подобной дискуссии, немного стесняясь друг друга, что чуть было не впали в детство, с одной стороны, и в то же время как бы повязанные друг с другом невидимыми нитями светлой памяти о своем прошлом, о своей родине – с другой.
Мне здорово повезло на самом первом этапе знакомства со «Словом», которое состоялось на первом уроке литературы в 8-м классе. Наш классный руководитель, он же учитель литературы, Анатолий Анатольевич, зашел в класс в каком-то приподнятом настроении в тщательно отглаженной полувоенной «форме одежды» (он был участник войны и инвалид II группы, потерявший на фронте правую руку и левый глаз) и торжественно заявил, что сегодня мы приступаем к изучению литературного памятника Древней Руси – «Слова о полку Игореве». Потом он как-то вдруг преобразился, встал к классу полубоком, вскинул вперед свою единственную руку и начал наизусть читать: «Нелепо ли ны бяшеть, братие…».
Класс затих, слышен был только шорох листьев за открытыми окнами (было начало теплой осени) да жужжание пролетавших мух. Мне казалось, что притихшие ученики, равно как и я сам, думали и переживали за то, не забудет ли А. А. какую-нибудь строку и не станет ли заглядывать в учебник. Где-то на 10-й минуте урока это чувство исчезло, и теперь все внимание было сосредоточено на том, чтобы вникнуть в слова этой песни, понять хотя бы отдаленно их смысл. Слова завораживали, звали в какую-то неизвестную даль, казалось даже, что они гипнотизировали нас. И когда было произнесено слово «Аминь», казалось, что класс вздрогнул, очнувшись от гипнотического сна, еще минута – и раздались оглушительные аплодисменты. Класс встал, провожая учителя, поскольку на этом урок был окончен. Все сделали вид, что не заметили, как А. А., выходя из класса, прикладывал своей единственной рукой белоснежный носовой платок к своему единственному глазу. Видимо, многое вспомнилось ему, пока он в течение 45 минут вводил нас, сельских мальчишек и девчонок, в священный мир героического эпоса русского народа, концентрированно воплощенного в нескольких страничках невзрачной на вид книжицы, которую он, видимо на всякий случай, держал перед собой в левой руке.
Потом, гораздо позже, уже в 10-м классе, на одном из уроков кружка «словолюбов», который в течение трех лет вел А. А., он рассказал историю появления у него в левой руке на первом уроке по «Слову» той самой «невзрачной книжицы». Оказывается, учитель прошел с этой книжицей всю войну, поскольку получил ее вместе с винтовкой в первый же день пребывания на фронте. Как боевую реликвию, мы передавали ее из рук в руки, кто-то даже понюхал, не пахнет ли она порохом той страшной войны. Обратили внимание на то, что брошюра выпущена в 1941 году военным издательством, на последней странице которой было оттиснуто: «Бесплатно».
Я вздрогнул, когда в середине 70-х годов в журнале «Наш современник» прочитал следующие строки из эссе «Память» В. Чивилихина: «К сожалению, нет у меня первого военного издания «слова» с пометкой «бесплатно», которое выдавалось политрукам, командирам и бойцам перед уходом на фронт вместе с оружием…»[1]. Дело в том, что много лет спустя после «счастливых школьных годов», уже в довольно солидном возрасте, повинуясь ностальгическому чувству по «малой родине», я посетил родные места и родную школу, из которой вышел убежденным «словолюбом». В школе по-прежнему работал кружок «словолюбов», члены которого попросили меня выступить с воспоминаниями о своих школьных годах, о том, как был организован этот кружок, который готовился отмечать 25-летие своего существования. Члены кружка хранили память о создателе и первом руководителе кружка, рассказали мне трогательную историю, выжавшую из глаз скупую мужскую слезу. Война, тяжелые ранения, да и нелегкая послевоенная жизнь подорвали здоровье учителя, и три года назад в возрасте 58 лет он скончался. Но самое трогательное из этого рассказа заключалось в том, что в своем завещании он просил похоронить его в военной форме и положить в гроб партийный билет и ту саму невзрачную книжицу с грифом «Бесплатно» на последней странице мягкой обложки.
Сказать, что термин «словолюб» сродни некоей хронической болезни, – значит ничего не сказать. Сколько бы ни была болезнь тяжелой и продолжительной, ее все-таки врачи пытаются лечить, да и сама она порой надолго отступает, чтобы затем внезапно напомнить о себе в качестве обострения.
«Словолюб» – это болезнь, возникающая один раз и навсегда. «Словолюб» – это постоянный поиск книжных новинок и раритетов, где хотя бы мельком что-то сказано о «Слове». «Словолюб» – это хронический конфликт с домочадцами в поисках дополнительных уголков в квартире, где можно было бы повесить очередную полку со старыми и новыми изданиями «Слова», альбомов с ксерокопиями статей и вырезок из периодической печати с материалами о «Слове». В преддверии 800-летия события, послужившего основой создания «Слова», и в течение нескольких лет после юбилея на «словолюбов» обрушилась буквально лавина книг, статей, научных изысканий, всевозможных интервью со специалистами по «Слову», «словистами», что ограничиваться однойдвумя полками уже было невозможно. Приходилось изыскивать места для установки книжных шкафов, которые стремительно заполнялись все новыми и новыми изданиями.
Но «словолюб» не унимается и никогда не уймется, он будет продолжать искать чего-то такого, что есть у знакомого «словолюба», а у него нет. Прекрасные слова об этой «болезни» сказал Владимир Чивилихин, и трудно удержаться, чтобы не привести их в качестве одного из симптомов «заболевания»: «Покупаю новинки и антиквариат, какой встречу, вымениваю дубли, с благодарностью принимаю подарки от авторов, выпрашиваю иногда чуть ли не на коленях и не дошел еще разве только до воровства и сквалыжного зажиливания»[2].
В. Чивилихин гордился тем, что в его коллекции есть дореволюционное издание «Слова» из серии «Всеобщая библиотека», с восхищением описывая содержание этой малоформатной книжицы в 82 страницы, «…вместившие предисловие, статью об истории открытия и первой публикации поэмы, подлинный ее текст, прозаический перевод, поэтическое переложение В. А. Жуковского, отрывки из переводов Л. А. Мея, А. Н. Майкова, И. И. Козлова, Н. В. Гербеля, обзор критической литературы о «Слове», научное описание похода князя Игоря историка С. М. Соловьева и краткое изложение содержания поэмы, принадлежащее перу Н. М. Карамзина. Удивительно емкое, предельно простое, дешевое и… драгоценнейшее издание! Дело в том, что оно было общедоступным, шло в народ, потому что стоило всего 10 копеек. Для сравнения относительного определения реальной стоимости гривенника в книжной торговле тех лет снимаю с полки компактный и плотный справочный томик 1906 года издания – «Флора Европейской России», 4 рубля 50 копеек. В сорок пять раз дороже!»[3].
Солидарно с В. Чивилихиным испытываю гордость, что и в моей коллекции имеется эта книжечка, правда, изданная в 1907 году 6-м изданием «…безъ перемнъ И. Глазунова», но уже в другой серии: «Русская классическая библиотека, издаваемая подъ редакціею А. Н. Чудинова», с подзаголовком «Пособіе при изучении русской литературы», выпуск 1-й, и ценой уже в 30 копеек. Стоимость книжки возросла, но и времени прошло после 1-го издания (1895 год) около 12 лет, да и революционные годы (1905—1907) росту экономики не способствовали, а инфляцию раздували. Это была первая книга серии, в которой предполагалось опубликовать 50 произведений русской и зарубежной классики, начиная с «Летописи Нестора», «Слова о полку Игореве», «Былин» и «Русской народной лирики» и заканчивая зарубежной классикой от «Нибелунгов», «Поэм Оссиана» до Байрона и Сервантеса. Интересно отметить, что Планом предусматривалось издание трудов Кантемира, Хераскова и Сумарокова, но в нем почему-то не нашлось места для М. В. Ломоносова и В. К. Тредиаковского.
По мере погружения в содержательную часть поэмы и историю Древней Руси и тех исторических событий, на фоне которых родился литературный шедевр, который по меткому выражению А. С. Пушкина «…возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности», неизбежно возникало желание узнать, кто же автор «Слова»? Академик Б. А. Рыбаков как-то заметил, что «чем гениальнее то или иное поэтическое произведение, тем больше хочется узнать о его авторе, ощутить его человеческие черты. Исследователи давно уже думают над тем, как устранить эту «тягостную безымянность» “Слова о полку Игореве”»[4]. Желание было так велико, что сразу же после первой публикации памятника появилось несколько «обоснованных» гипотез об авторах «Слова». Прежде всего, называли современников событий 1185 года, в той или иной степени приближенных к князю Игорю и Великому Киевскому князю Святославу Всеволодовичу. Это мог быть:
а) летописец одного из этих двух князей;
б) монах в монастыре Игорева княжества;
в) песнопевец при князе;
г) грамотный дружинник Игоря, участвующий в походе;
д) его родственник или родственница;
е) наконец, сам князь Игорь, эту версию активно развивал В. Чивилихин.
Все эти версии, попеременно или сразу по несколько, выдвигались известными исследователями памятника. Конкретно по именам, кроме князя Игоря, называли, например, галицкого «книжника» Тимофея, упомянутого в летописи под 1205 годом, несмотря на то что этот «книжник» говорил исключительно церковными притчами, цитировал Апокалипсис, в то время как создатель поэмы с благородной смелостью пренебрег всеми церковными канонами, зато часто упоминал славянских языческих богов. У него даже русские люди – потомки языческого Дажь-бога. Был предложен в авторы галицкий «словутый певец Митуса», упомянутый в Галицко-Волынской летописи как «древле гордый певец Митус», но оказалось, что «митуса» не собственное имя, а обозначение церковного певчего – регента. Кроме того, все исследователи представляют себе автора «Слова» человеком зрелых лет, умудренного опытом, может быть, уже в «серебряной седине», как и воспетый им Святослав, а «словутьный певец» упомянут в летописи спустя 56 лет после того, как в 1185 году, по мнению большинства исследователей, была написана поэма «по горячим следам». Если этому «Митусе» в 1241 году было, например, 75 лет, то «Слово» он «написал» в 19—20 лет.
Назывался в числе авторов тысяцкий Игоря – Рагуйла; другие исследователи считали более подходящим сына тысяцкого, бывшего вместе с Игорем в плену. Писатель Иван Новиков соединил сына тысяцкого с упомянутым выше знатоком Апокалипсиса Тимофеем и получил в результате такого противоестественного слияния имя и отчество автора «Слова» – Тимофей Рагуйлович[5].
Сам академик Б. А. Рыбаков в качестве автора «Слова» выдвинул летописца «Мстиславова племени» – боярина Петра Бориславича, большого знатока военного дела, дипломата и одного из лучших летописцев XII века. Свои летописные рассказы Петр Бориславич обильно документировал копиями княжеских договоров, княжеской перепиской, выписками из походных дневников князей[6]. Несмотря на то что Петру Бориславичу академик посвятил солидную монографию, он, как истинный ученый, не исключает, что автором «Слова» мог быть кто-то из придворных летописцев, более или менее талантливых в сравнении с Петром Бориславичем. По крайней мере, он называет еще пять летописцев второй половины XII века, которые были современниками, иногда даже единомышленниками главного героя «Слова о полку Игореве». «Все они, к сожалению, безымянны, но ученые давно уже научились преодолевать эту средневековую анонимность: если летописец, говоря о ком-либо в третьем лице, сообщает о нем слишком много подробностей, то очень вероятно, что в этом случае летописец говорит о себе, называя себя «он». Все имена летописцев условны.
«ГАЛИЧАНИН» – молодой летописец, работавший, вероятно, под руководством Петра Бориславича при дворе Рюрика. Составил повесть о походе Игоря в 1185 году, в которой стремился выгородить, оправдать неудачливого князя. В повести много поэтических мест. Очень внимателен к шурину Игоря – Владимиру Галицкому.
МОИСЕЙ. Игумен Выдубицкого монастыря в Киеве. После Петра Бориславича был придворным летописцем Рюрика Ростиславича. Им написаны (это выявил еще историк М. Д. Приселков) некрологи всех Ростиславичей, братьев Рюрика, и составлен фундаментальный летописный свод около 1198 года, куда вошли труды всех перечисленных в данном списке летописцев. Сам Моисей отличался склонностью к церковной поэзии. Им составлена хвалебная речь в честь Рюрика, соправителя Киевского княжества наряду со Святославом Всеволодовичем.
ЛЕТОПИСЕЦ СВЯТОСЛАВА ВСЕВОЛОДИЧА (он так и остался анонимным). Церковник, писавший тяжеловатым языком, неумеренно льстив, враждебен (как и его князь) к Игорю. Во времена соправительства Святослава и Рюрика (1176—1194 годы) Петр Бориславич широко пользовался летописью этого автора.
ПОЛИКАРП – летописец князей «Ольговичей» (главным образом отца Игоря), человек бесталанный, склонный к хозяйственным записям; он подробно описывал, что пограбили враги у его князя, сколько копен сена сожгли, сколько угнали стадных кобыл.
КУЗЬМИЩЕ КИЯНИН – придворный Андрея Боголюбского и горячий сторонник этого князя, оставивший подробную и полную драматизма повесть об убийстве Андрея. Жил и писал он в Боголюбове и, возможно, в Чернигове, а в Киев попала лишь его рукопись. Уснащал свой текст церковными изречениями»[7].
Назывались в качестве авторов «Слова» следующие имена: «Ходына» – песнетворец «старого времени»; Кочкарь – княжеский милостник; воевода Ольстин Олексич; тысяцкий Мирошка Надзилович. Поименованы в качестве «авторов» «Слова» практически в полном составе близкие родственники князя Игоря: Евфросиния Ярославна, жена князя Игоря; князь Рыльский Святослав Олегович, участник похода, племянник Игоря; Агафья Ростиславна – вдова князя Олега вятославича, невестка Игоря;великий князь Киевский Святослав Всеволодич, двоюродный брат Игоря;Владимир Ярославич, князь Галицкий, брат Ярославны, шурин Игоря;также называли безымянного внука певца Бояна (известна надпись в Святой Софии Киевской о покупке Бояновой земли у этого внука супругой князя Всеволода Ольговича, умершей в 1179 году. Эта «Боянова земля» упоминается в Киеве еще в XVII веке).
Среди экзотических версий были, например, такие, как:
автор «Слова…» – половец, нехристианин, возможно из тех, что пришли на Русь с Кончаковной – невесткой князя Игоря;
автор – европеец, с поэтическим опытом французских песен о Роланде и скандинавских саг, случившийся на Руси по торговым или посольским делам. Отсюда – отсутствие православных форм, обязательно имевших место во всех русских источниках;
автор – католический миссионер, засланный на Русь римским понтификом после разделения церквей в 1054 году (Русь формально не участвовала в этой распре греческой и римской церквей);
автор – греческий монах или певец, знакомый со светской византийской поэзией и увлеченный русскими народными сказаниями;
автор – сам русский народ, а записанное «Слово…» – это позднейшая литературная обработка народных былин, песен и плачей о походе и пленении русского князя.
Известный казахский поэт Олжас Сулейменов, написавший скандально-известную книгу «Аз-и-Я», считал, что вообще нет смысла выяснять автора XII века, поскольку большую роль в создании текста играли переписчики. Переписчики, если это не касалось священных текстов, искажали первоначальный текст, изменяли слова, если менялся их смысл, приближали произведение к современному им читателю. Он пишет: «Мы вправе считать «Слово» памятником языка и поэзии двух эпох – XII и XVI веков – и относиться к Переписчику не как к бездумному копиисту, а как к творчески активному интерпретатору, редактору и в некоторых случаях – соавтору». В споре «верующих» в подлинность «Слова…» и скептиков Сулейменов занимает промежуточное положение, считая, что известный нам текст – это «совместное» творчество человека, жившего в XII веке, и множества переписчиков вплоть до XVI—XVII веков. Как мы постараемся показать в данном сочинении, в известной степени О. Сулейменов оказался прав.
Примерно такой же точки зрения придерживался известный советский литературовед-«словист» Игорь Петрович Еремин (18.IV.1904—17.IX.1963 годы), который утверждал, что «попытки определить имя автора «Слова о полку Игореве» бесцельны, так как мы не располагаем никакими данными для решения этой проблемы»[8]. Еремин подчеркивал необходимость бережного отношения к тексту «Слова»:
«…ближе к тексту первого издания! – вот лозунг, которым должны, как мне кажется, руководствоваться и издатели «Слова», и его переводчики». Он решительно возражал против гипертрофированной критики древнерусского текста «Слова»: «Следует положить конец конъектурным поправкам там, где это не вызывается необходимостью, то есть где текст первого издания понятен и сам по себе, без какого-либо вмешательства с нашей стороны. Обилие поправок, часто ненужных, недостаточно обоснованных, – серьезная угроза “Слову о полку Игореве”»[9]. И еще одну ценную мысль высказал Еремин, считая, что несколько «темных» мест «Слова о полку Игореве», в частности: «…у Плсньска на болони, бша дебрь Кисаню и не сошлю къ синему морю»; «И схоти ю на кровать и рекъ…»; «Рекъ Боянъ и ходы на Святьславля пстворца старого времени Ярослава Ольгова коганя хоти…» – исправлению не поддаются, и все предложенные толкования не могут быть признаны удовлетворительными. Поэтому, полагает он, эти отрывки должны оставаться при издании древнерусского текста «Слова» в чтении Первого издания, а в переводах и переложениях их следует опускать. То есть, по его мнению, эти и ряд других фрагментов «Слова» настолько «испорчены» переписчиками, что нет никакой возможности восстановить их первоначальный текст. Невольно возникает вопрос: а уж не искусственного ли происхождения эта «порча»? В дальнейшем мы постараемся показать, что И. П. Еремин был в нескольких шагах от объяснения «природы» этих необратимых искажений текста «Слова».
Как видим, среди «предлагавшихся» на авторство «Слова» кандидатур фигурируют в основном духовные лица и близкие к этой категории летописцы, которые в большинстве своем были монахами. Однако серьезные исследователи этой проблемы считали, что автором повести может быть только мирянин. Так, Н. М. Карамзин в своей «Истории государства Российского» высказал твердое убеждение, что «Слово» написано, «без сомнения, мирянином, ибо монах не дозволил бы себе говорить о богах языческих и приписывать им действия естественные»[10]. Тем не менее недавно Б. И. Зотов высказал мысль, что автором «Слова» был хорошо известный церковный деятель XII века Кирилл Туровский, поучения, торжественные слова и молитвы которого отличаются высокой художественностью. Однако и эта кандидатура не нашла поддержки у большинства исследователей.
Псковский историк-краевед В. Михайлов выдвинул в авторы «Слова» писца псковского Пантелеймонова монастыря Домида – фигуру весьма известную в «словистике», о чем речь еще впереди.
Не раз к образу автора «Слова» обращались писатели и поэты в художественных произведениях. И. А. Новиков на основе своей гипотезы об авторстве «Слова» написал повесть «Сын тысяцкого» (1938 год). Князю Святославу Рыльскому, как автору «Слова», посвящена повесть А. М. Домнина «Матушка-Русь. Сказание» (1958 год). В повести А. Н. Скрипова «Рождение песни» (1977 год), очевидно, под влиянием гипотезы И. А. Новикова, автором «Слова» выступает сын тысяцкого Труан. Кстати, в этой повести Скрипов выдвинул интересную идею, что князь Игорь затеял свой поход вовсе не ради грабежа половецких кочевий, а чтобы «…возвратить дедовские земли и стать твердой ногой на берегах Сурожского (Азовского. – А. К.) и Русского (Черного. – А. К.) морей». Эта идея, что называется, «с порога» была отвергнута одним из выдающихся представителей ортодоксальной школы Д. С. Лихачева О. В. Твороговым. Однако она получила дальнейшее развитие в трудах некоторых исследователей истории создания «Слова о полку Игореве», о чем речь пойдет в I главе нашего сочинения.
В рассказе Ю. Плашевского «В конце века» (1979 год) автор «Слова о полку Игореве» – поэт-воин Вадим Славята. А кто не зачитывался великим творением Владимира Чивилихина, романом-эссе «Память», и не следил, затаив дыхание, как писатель подводит читателя к мысли, что автор «Слова о полку Игореве» не кто иной, как сам князь Игорь Святославич, крещеный Георгием Николаевичем?
Объединяет всю эту многочисленную рать кандидатов в авторы «Слова о полку Игореве» то обстоятельство, что все они из того же времени, когда произошло само событие, послужившее основой для создания «Слова», то есть из конца XII века. Споры исследователей о датировке написания «Слова» вращались вокруг 1185—1187 годов, в конце концов, пришли к согласию, что все юбилеи «Слова» следует отсчитывать от 1185 года, то есть с даты самого похода князя Игоря в Половецкую Степь. Если кто-то «покушался» на то, чтобы пересмотреть вопрос о времени создания «Слова», тогда, спрашивается, 800-летний юбилей в 1985 году по решению международной организации ЮНЕСКО весь мир отмечал по поводу какого события? Получается, что по поводу неудачного, сепаратного похода какого-то заштатного руководителя, незначительного Новгород-Северского княжества, подвассального даже не Великому Киевскому, а всего лишь Черниговскому княжеству! А это уже международный скандал! Зачем так грубо вводить в заблуждение мировую общественность, если вы, русские, за 200 лет после Первого издания «Слова» не можете разобраться даже в том, в каком веке жил автор «Слова о полку Игореве»?
Понятно, что авторы подобных идей автоматически становились изгоями, их презрительно обозвали «скептиками», что в «переводе» на русский язык означает «Фома Неверующий». А «скептики», в свою очередь, окресили своих оппонентов, твердо придерживающихся мнения о древнем происхождении «Слова» (т. е. 1185 годом), тоже неблагозвучным словом – «ортодоксы»[11], что на русском языке звучит как «упертый».
Кстати, в XIX веке, на протяжении которого шли непрекращающиеся баталии по поводу датировки создания «Слова о полку Игореве», между «ортодоксами» и «скептиками» сложились вполне мирные отношения, они весьма корректно и дружески относились друг к другу, памятуя, что в научных спорах рано или поздно родится истина. Никому и в голову не приходила мысль отмечать в 1885 году юбилейную дату – 700-летие бесславного похода князя Игоря в Половецкую степь. «Скептиков» в ту пору было гораздо больше, чем «ортодоксов», и основой их скептицизма было то обстоятельство, что автор слова буквально игнорировал все христианские каноны, избрав в качестве «духовного обрамления» памятника языческих богов. Именно по этой причине до конца жизни убежденными «скептиками» были великие русские писатели Л. Н. Толстой и И. А. Гончаров.
Ситуация резко изменилась в советское время, когда над «скептиками» навис топор идеологической гильотины. Но сначала несколько слов по поводу того, кто сказал «а», т. е. кто же прославился в качестве первого «скептика»? Нынешнее поколение россиян не знает, а иные хотя и знали, но давно позабыли, что в советское время ни одна научная статья, монография, доклад на научной конференции и т. п. не могли быть опубликованы, если в самом начале произведения, да и по ходу его не приводились цитаты из произведений классиков марксизма-ленинизма. При этом совершенно неважно, о какой науке идет речь, будь то вопросы языкознания или истории, квантовой механики или ориенталистики (востоковедения), химии или акушерства и гинекологии: присутствие цитаты из трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, а до Хрущевской «оттепели» – И. В. Сталина было обязательным, а «освещение» их роли в той или иной области знаний – обязательным ритуалом.
Возьмем, к примеру, замечательную статью доцента Е. В. Матвеевой, которую мы будем широко комментировать по ходу нашего исследования. Речь в ней, в частности, пойдет о строительстве Петром I новой столицы в самом начале XVIII века. Зачин у автора статьи по этому поводу вполне исторически понятен: «Обстановка политическая и экономическая в России была сложной. В 1700 году под Нарвой русские потерпели поражение». Как не подкрепить этот пассаж словами классика? И тут же следует: «Нарва была первой большой неудачей поднимающейся нации, умевшей даже поражение превращать в орудие победы, – пишет К. Маркс. – Он (Петр) воздвиг новую столицу на первом завоеванном имкуске Балтийского прибережья»[12]. Конечно, лучше Маркса не скажешь, и пропуск статьи в научный журнал был обеспечен.
Любознательный читатель:
– Извините, но при чем здесь К. Маркс и возведение Санкт-Петербурга, если речь шла об авторах «Слова о полку Игореве»?
Прежде чем ответить на вопрос читателя, заранее оговоримся, что подобные диалоги с «Любознательным читателем» будут встречаться и далее по ходу изложения материала нашего исследования. Возможно, кто-то захочет уличить нас в плагиате, а потому признаемся, что этот литературный «инструмент» мы позаимствовали у глубоко чтимого нами Владимира Алексеевича Чивилихина – вечная ему светлая ПАМЯТЬ!
А К. Маркс здесь вот при чем. Это в последние двадцать с небольшим лет можно свободно писать о «Слове» без ссылки на Маркса. А до начала 90-х годов прошлого столетия в любой книге, статье, докладе, школьном учебнике по русской литературе нельзя было обойтись без цитаты, взятой из письма К. Маркса к Ф. Энгельсу от 5 марта 1856 года, в котором он определил идею древнерусского памятника следующим образом: «Суть поэмы – призыв русских князей к единению как раз перед нашествием собственно монгольских полчищ».
Нашествие на Русь «собственно монгольских полчищ» под руководством хана Батыя (Бату-хана) началось в 1237 году, и никакой пророк в своем отечестве за 50 с лишним лет в 1185 году не мог даже в страшном сне увидеть, что принесет это нашествие на Русскую землю, тем более призвать русских князей к единению для отпора грозному противнику. А это означает, что К. Маркс полагал, что призыв мог прозвучать во временном интервале с 1223 по 1237 год. То есть после поражения объединенного русского воинства на реке Калке в 1223 году, не сумевшего отбиться от небольшого отряда монгольских воинов, руководимого Субудаем и Джебе, после утомительного перехода по берегу Каспийского моря, сразу же после покорения Персии и Закавказья. А причиной поражения и была как раз разобщенность русских князей, которые чаще ненавидели друг друга и жестоко воевали друг с другом, чем были готовы объединенными усилиями в союзе с половецкими ханами, которые обратились к ним за помощью, отразить превентивное нападение на южные границы Руси татаро-монгол.
Таким образом, все советские ортодоксальные исследователи «Слова», обильно цитируя К. Маркса, рубили собственными руками сук, на котором весьма комфортно сидели. Если «ортодоксы» косвенно признавали, что автор «Слова» «призывал» «русских князей к единению» где-то в середине 20-х годов XIII века, то почему бы советскому правительству не «назначить» празднование 800-летнего юбилея не в 1985 году, а, скажем, в 2025-м, тем более что авторитет Карла Маркса в СССР был непререкаем. Ведь недаром же сказал В. И. Ленин по поводу авторитета основателя учения, носящего его имя: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!». Так что безымянный автор «Слова», согласно учению К. Маркса, после первой кровавой стычки с татаро-монголами на реке Калке в 1223 году, но еще до нашествия Батыя своим литературным шедевром предупредил князей: «Уже понизить стязи свои, вонзить свои мечи вережени…», то есть кончайте междоусобные войны, готовьтесь объединенными усилиями встретить грозного неприятеля! И знак им подал, что с вами может случиться то, что случилось с князем Игорем на реке Каяле, то есть с его потомками на реке Калке. Вот откуда взялась эта непонятная река КАЯЛА:
КАЛКА
КАЯЛА
Всего-то нужно было заменить в слове из 5 букв одну сдвоенную букву «К» на букву «Я», и тогда из неблагозвучного названия реки «КАЛ+КА» возникает виртуальная река КАЯЛА, как бы от глагола «КАЯТЬ» с ударением на втором слоге «Я» – это Я вам говорю «Уже понизить…» и т. д. А может, самолюбие взыграло, как у той лягушки-путешественницы: «Это Я придумала»!
Идею К. Маркса о переносе даты написания «Слова» на 40 лет вперед активно поддержал Л. Н. Гумилев, который переносит дату написания «Слова» еще на 25 лет вперед, полагая, что оно написано было в 1249—1252 годах. Эту идею он изложил в главе «Опыт преодоления самообмана» из книги «Поиски вымышленного царства». По мнению Гумилева, прозападнически настроенный автор «Слова» сочинил «политический памфлет» в осуждение «протатарской политики» Александра Невского, опиравшегося на союз с сыном Батыя ханом Сартаком. Автор, таким образом, пытался побудить Александра выступить против татар в союзе с западными соседями. «Важное датирующее значение для Гумилева, – пишет В. М. Богданов, – имеет слово «хины», встречающееся в «Слове» трижды. По его мнению, этот термин может соответствовать «названию чжурчженьской империи Кин – современное чтение Цзинь – золотая (1126– 1234 годы). Замена «к» на «х» показывает, что это слово было занесено на Русь монголами, в языке которых нет звука, соответствующего букве «к». Но тогда возраст этого сведения не XII век, а XIII, и не раньше битвы при Калке – 1223 год, а, скорее, позже – 1237-й». Таким образом, согласно гипотезе Гумилева, под «хинами» надо понимать татаро-монгол Золотой Орды, и, следовательно, сам сюжет «Слова» – не более как шифровка». Гумилев также сформулировал свой основной принцип, согласно которому в средневековых исторических произведениях «всегда идет преображение реальных исторических лиц в персонажи. …В художественном произведении фигурируют не реальные деятели эпохи, а образы, под которми бывают скрыты вполне реальные люди, но не те, а другие, интересующие автора, однако не названные прямо»[13].
Если К. Марксу вольность с датировкой «Слова» сошла с рук, то Л. Н. Гумилеву досталось по полной. Кто только не «пинал» Льва Николаевича, даже всеми уважаемый В. А. Чивилихин прошелся по нему с «хлыстиком», чем авторитета себе, увы, не прибавил.
Конфронтация между «ортодоксами» и «скептиками» возрастала по мере «движения» даты создания «Слова» из века в век и достигла своего апогея, когда «скептики» дружно заявили, что автора «Слова» следует искать в XVIII веке. Эпоха Возрождения, пришедшая в Европе на смену мрачному средневековью, докатилась до России только в XVIII веке вместе с реформами Петра I.
Российская культура и, прежде всего, литература сбросили наконец-то с себя вериги клерикализма, появилась светская литература, которая бурно ворвалась в культурную жизнь России. Появились талантливые писатели, поэты, ученые русского происхождения («…может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов (Ньютонов) Российская земля рожать» провозгласил М. В. Ломоносов).
Но и в этом случае в досоветское время противостояние между «ортодоксами» и «скептиками» носило мирный, отнюдь не агрессивный характер. За исключением, пожалуй, непримиримой пары: А. С. Пушкин – М. Т. Каченовский, которые, по выражению самого Александра Сергеевича, «… бранивались, как торговки на вшивом рынке». Однако после публичной дискуссии, состоявшейся между ними 27 сентября 1832 года в одной из аудиторий Московского Университета, они вдруг помирились, о чем Пушкин немедленно сообщил в письме к Наталье Николаевне от 30 сентября 1832 года из Москвы в Петербург. В письме он сообщает: «На днях был я приглашен Уваровым в Университет. Там встретился с Каченовским, <…> разговорились с ним так дружески, так сладко, что у всех присутствующих потекли слезы умиления. Передай это Вяземскому»[14]. Так-то вот!
Но в советское время отношение к «скептикам» было сродни отношению к «врагам народа». Первым активно выступил французский славист – «словист» Андре Мазон, выдвинувший в качестве кандидата в авторы «Слова» самого графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина.
Как иностранному члену АН СССР, ему многое прощалось, но при этом ряды советских «словистов-ортодоксов» плотно сомкнулись, критические перья были заострены, и в конечном итоге было «обнаружено» столько «неопровержимых» фактов древнего происхождения «Слова», что на А. Мазона просто махнули рукой.
Однако в начале 60-х годов в «скептики» «напросился» известный советский историк Александр Александрович Зимин, который почитай с математической точностью «вычислил», что автором «Слова» является архимандрит Спасо-Ярославского монастыря Иоиль Быковский, у которого якобы в конце 80-х годов XVIII столетия А. И. Мусин-Пушкин приобрел протограф «Слова о полку Игореве».
Вот уж на этом «скептике» «ортодоксы» оттоптались на полную катушку, о чем у нас речь впереди. Гонение было столь жестким и последовательным, что ученый в 1980 году в 60-летнем возрасте ушел из жизни.
Недаром гласит народная мудрость, что словом можно не только ранить, но и убить человека. Хотя справедливости ради следует отметить, что перед А. А. Зиминым всетаки вроде бы формально извинились, издав в 2006 году, по прошествии 26 лет со дня смерти ученого, его капитальный труд «Слово о полку Игореве». Мало того, предисловие к книге написал О. В. Творогов, ставший после смерти академика Д. С. Лихачева главным «словистом»-«ортодоксом» страны. Характерен заключительный пассаж ответственного редактора книги – того же О. В. Творогова: «А. А. Зимина нельзя упрекнуть в том, что какая-либо из проблем «слововедения», существенная для решения вопроса о датировке и атрибуции памятника, обойдена его вниманием. Его книга – наиболее полный свод возражений защитникам древности «Слова», и без ответа на все эти доводы и сомнения А. А. Зимина нельзя, на мой взгляд, в дальнейшем бестрепетно рассуждать о времени создания памятника. Но если аргументация автора – самого основательного из «скептиков» – окажется неубедительной, то это будет означать, что у скептического отношения к древности «Слова» осталось мало шансов на будущее»[15].
Написав последнее предложение своего заключения о книге А. А. Зимина, О. В. Творогов, на наш взгляд, слегка лукавил, поскольку он прекрасно знал, что не далее как в 2004 году вышло первое издание книги академика А. А. Зализняка, в которой он камня на камне не оставил от концепции А. А. Зимина, что автором «Слова» мог быть архимандрит Иоиль Быковский. Во втором издании книги (2007 год) и особенно в третьем (2008 год) он, с привлечением достижений лингвистической науки за последние полтора-два столетия, убедительно показал, что автором «Слова» мог бы стать некий аноним, вобравший в себя все эти достижения, например, сам А. А. Зализняк, если бы он со своими знаниями оказался в XVIII веке. Однако, как истинный ученый, он оставил за собой открытую дверь, что появление такого гения в XVIII веке все-таки возможно, но с исчезающе малой вероятностью, практически равной нулю.
Мало того, маститый академик, ставший лауреатом Государственной премии России за свой подвижнический труд, с вдруг «вскипевшей яростью благородной» обрушился на мрачные времена, «…когда свободная конкуренция версий <о подлинности или поддельности «Слова».– А.К.> была невозможна: версия подлинности СПИ («Слова».– А.К.)была фактически включена в число официальных научных постулатов, сомнение в которых было равнозначно политической нелояльности»[16]. Дальше – больше, возмущение академика нарастает: «Как уже отмечено выше, в советскую эпоху версия подлинности СПИ была превращена в СССР в идеологическую догму. И для российского общества чрезвычайно существенно то, что эта версия была (и продолжает быть) официальной, а версия поддельности СПИ – крамольной. В силу традиционных свойств русской интеллигенции это обстоятельство делает для нее малоприятной поддержку первой и психологически привлекательной поддержку второй. А устойчивый и отнюдь еще не изжитый советский комплекс уверенности в том, что нас всегда во всем обманывали, делает версию поддельности СПИ привлекательной не только для интеллигенции, но и для гораздо более широкого круга российских людей»[17].
Наконец, возмущение академика достигает апогея, он, конечно же, защищает гонимых властью гениальных «скептиков», указывает на конкретного виновника гонения: «И, конечно, убийственную роль для репутации этих работ <ортодоксальных «словистов».– А.К.> у читателей играет лежащее на них клеймо советской цензуры, которая практически не допускала прямого цитирования А. Мазона или А. А. Зимина. Бесчисленные страстные доказательства подлинности «Слова» подразумевали наличие некоего коварного врага, который стремится обесчестить эту гордость советского народа и о котором по советской традиции читателю не положено было знать сверх этого почти ничего; даже имена врагов предпочтительно было заменять безличным «скептики»[18].
Этими словами, да вовремя сказанными, можно было бы серьезно помочь гонимому в середине 60-х годов А. А. Зимину, но… помощь и поддержка последовали слишком поздно.
Любознательный читатель:
– Помилуйте, насколько мне известно, Андрею Анатольевичу в середине 60-х годов и тридцати годов не было.
Имя его еще мало кому известно было. Он только в 1967 году выпустил свой первый научный труд «Русское именное словоизменение». Кто бы прислушался к голосу молодого, только начинающего ученого?
– Согласен с вами. Мало того, случись такое, что начинающий ученый выступил бы в защиту А. А. Зимина, тогда, возможно, мы никогда не узнали бы его в роли крупного ученого с мировым именем, поскольку он не только преподавал на филологическом факультете МГУ и к середине 80-х годов написал около десятка книг, многие из которых переведены на иностранные языки, но преподавал и выступал с лекциями в университетах Экс-ан-Прованса, Парижа, Женевы, а также в Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, Англии и Швеции. То есть к середине 80-х это был уже ученый с мировым именем, и голос его в защиту яростно гонимых «скептиков» наверняка был бы услышан.
Речь идет о том, что в преддверии празднования 800й годовщины «написания» «Слова о полку Игореве» разгорелся грандиозный скандал по поводу публикации в журнале «Новый Мир» статьи ровесника А. А. Зализняка – писателя, историка и литературоведа Андрея Леонидовича Никитина[19]. Основная идея статьи А. Никитина «Испытание “Словом”…» заключалась в том, что огромное количество загадок и «темных» мест «Слова» объясняется тем, что это не оригинальное произведение XII века, а компиляция более раннего произведения поэта XI века Бояна, о чем автор «Слова» и заявляет в «Зачине»: «а не по замышлению Бояню». При этом, утверждает А. Никитин, некий переписчик исказил фразу, вставив в нее частицу «не». То есть А. Никитин выступил в роли «скептика – назад», сдвинув датировку повести на целый век назад. А. Н. Никитин считает, что Боян, впервые упомянутый в «Слове», вовсе никакой не гусляр и не певец, а талантливый писатель – прямой потомок болгарского царя Симеона. Это о нем упоминает надпись на стене Софийского собора в Киеве, сделанная в XI веке. В ней речь идет о покупке земли княгиней Всеволодовой у некого Бояна. Таким образом, утверждает А. Никитин, «произведение Бояна» … послужило «матрицей» для автора «Слова» и было посвящено событиям 1078—1079 годов – борьбе сыновей князя Святослава Ярославича против Всеволода и Изяслава Ярославичей и их детей. Методом исключения Никитин приходит к выводу, что главным героем этого произведения был Роман Святославич «Красный», которого автор «Слова» заменил князем Игорем точно так же, как Святослава Ярославича – Святославом Всеволодовичем и т. д. Основной причиной, по которой «произведение Бояна как нельзя лучше подходило для целей автора» «Слова», Никитин считает то обстоятельство, что неудачному походу Романа Святославича против Всеволода Ярославича в 1079, как и походу князя Игоря, предшествовало солнечное затмение. Именно это, пишет он, «сыграло решающую роль в выборе, благодаря чему заурядная пограничная вылазка Игоря, окончившаяся к тому же поражением, оказалась сюжетом не только поэмы, но и достаточно обширных летописных статей», так как, утверждает Никитин, «согласно представлениям той эпохи, героизм обоих князей заключался отнюдь не в опрометчивом выступлении с малыми силами против превосходящего по численности врага…, не в личной даже доблести, но в вызывающем пренебрежении недвусмысленным небесным знамением, безусловно обрекавшим предпринятые походы на неудачу»[20].
Что тут началось! Избиение А. Л. Никитина напоминало боевую операцию, которую возглавили корифеи «ортодоксов» академики Д. С. Лихачев и Л. А. Дмитриев. Даже заголовки их статей напоминали сводки с поля боя: Лихачев Д. С. публикует в журнале «Вопросы литературы» (1984. № 12, с. 80—99) статью: «В защиту “Слова о полку Игореве”». Но этого показалось мало, и в «Литературной газете» (1984, от 28 августа) появляется огромная статья «Еще раз в защиту Великого Памятника». Но и этого мало. В сборнике «Исследования “Слова о полку Игореве”», выпущенном издательством «Наука» (1986 год) под редакцией Д. С. Лихачева, публикуется ряд разгромных статей «научного» характера, обвиняющих Никитина в «антинаучном подходе к “Слову”», в том числе статья главного редактора под заголовком «Против дилетантизма в изучении “Слова о полку Игореве”»[21]. Характерен заключительный пассаж статьи: «Безусловно, самое удачное в серии очерков А. Никитина – это их общее название – «Испытание “Словом”». Название, прямо скажем, смелое и приглашающее. Выдержал ли, однако, сам автор очерков это испытание? На мой взгляд – нет!».
Академик Л. А. Дмитриев с названием своей статьи в «Советской культуре» (17 сентября 1985 года) долго не мудрил, а, иронизируя над своим оппонентом, озаглавил ее скромно, но со смыслом: «Испытание “Словом”», в которой пишет: «Текст, реально донесенный до нас первым изданием «Слова о полку Игореве», произвольно меняется. При этом допускаются ошибки, натяжки, несправедливые утверждения, противоречащие и «Слову», и историческим данным». А в своем предисловии к вышеуказанному научному сборнику добавляет: «Пример «исследования» А. Никитина, у которого «Слово о полку Игореве» из оригинального, тесно связанного своей идейной направленностью с событиями 80-х годов XII века памятника превращается в компиляцию, составленную из «поэм» Бояна, которые никому не известны и искусственно «воссозданы» самим же Никитиным, <…> свидетельствует о том, что к древнерусским текстам при их истолковании необходимо относиться так же бережно, как и ко всяким другим памятникам древности. Неквалифицированное, дилетантское вмешательство в литературный памятник наносит ущерб нашему культурному наследию»[22].
В этом же сборнике опубликована большая аналитическая статья М. А. Робинсона и Л. И. Сазоновой. «Несостоявшееся открытие («поэмы» Бояна и «Слово о полку Игореве»)», в которой отметим такой пассаж: «Серьезный методологический просчет Никитина – в подходе к «Слову о полку Игореве» без учета его художественной природы, – далее цитата из его статьи, – «Автор «Слова…» в ряде случаев решительно расходится с летописцами в оценке действующих лиц, в передаче взаимоотношений князей, даже в реальной географии южнорусских земель». Рассуждая так, Никитин забывает, что «Слово» – поэма, а не летопись и не актовый документ. Естественно, что разные жанры по-разному говорят о своей эпохе. Отсюда несоответствие «историко-поэтической системы» «Слова» реальной ситуации XIX века. В литературном произведении всегда существует дистанция между действительностью и ее художественным воплощением – для подкрепления этой, совершенно очевидной истины и, видимо, для придания своему труду «научного» характера авторы «припали» к неиссякаемому источнику мудрости – трудам В. И. Ленина. – Чрезвычайно ценно с методологической точки зрения положение В. И. Ленина: «Искусство не требует признания его произведений за действительность» (ПСС. Т. 29. С. 53.)»[23].
Так в чем же дело? Признайте опус А. Никитина художественной импровизацией на тему… и штыки (т. е. перья) в землю! Куда там, даже академик Б. А. Рыбаков – этот вечный оппонент академикам-филологам – туда же с упреками в адрес А. Никитина, что-де, мол, он тенденциозен, в частности, в отношении к князю Олегу Святославичу, как к безусловно «положительному» герою русской истории[24].
Короче говоря, все кому не лень из славной ортодоксальной школы, родившейся в стенах ИРЛИ («Пушкинском доме»), вдосталь «отоспались» на косточках бедного «нарушителя спокойствия» Андрея Леонидовича Никитина. Спрашивается, где же в это время был суровый обличитель (в будущем) идеологических догматов советского времени, одногодок и «тезка» Никитина Андрей Анатольевич Зализняк? Скорее всего, в Париже или писал, отрешившись от мира сего, очередную научную монографию «От праславянской акцентуации к русской» (1985 год).
Любознательный читатель:
– Упрекая академика А. А. Зализняка за его как бы пассивную гражданскую позицию, не забывайте, что он никогда не работал в ИРЛИ и солидаризоваться с «ортодоксами» школы академика Д. С. Лихачева он никак не мог.
– Конечно, он шел по другому «ведомству», работая в Институте славяноведения АН СССР (ныне РАН), и что творилось в другом академическом институте, близком по его направлению деятельности, не знал и не ведал.
Впрочем, это дела давно минувших дней, еще до горбачевской перестройки, а ныне ситуация сложилась так, что после публикации книги А. А. Зализняка «скептики» разом замолкли и почитай уже десяток лет о них «ни слуху, ни духу». Лишь американский славист Е. Кинан выступил в 2003 году с идеей, что автором «Слова» является известный чешский филолог Йосеф Добровский (1753—1829 годы)[25]. А. А. Зализняк достаточно легко опроверг эту теорию, отметив, однако, что «… книга Кинана – основательный и интересный труд. Это третья книга в серии больших работ, доказывающих поддельность СПИ, после Мазона и Зимина»[26]. Наконец-то, ведь «…доброе «Слово» и кошке приятно».
Впрочем, следует отметить, что одновременно с А. А. Зализняком, трудившимся над судьбоносным для атрибуции авторства «Слова о полку Игореве» произведением, в городе на Неве скромный «словолюб» Владимир Михайлович Богданов совершенно оригинальным путем «открыл» автора «Слова», о чем в 2005 году, в соавторстве с Н. В. Носовым выпустил книгу-сенсацию, «которую маститые «ортодоксы-словисты» даже не удостоили своим вниманием»[27]. Наступили новые времена, и гнобить «скептиков» испытанным орудием путем включения идеологической гильотины стало уже не модно, да и малоэффективно.
Сплотив свои, год от года редеющие ряды, «ортодоксы» избрали новую тактику борьбы со «скептиками», которую в полном соответствии с широко известной поговоркой можно назвать: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».
Мы не будем здесь углубляться в суть версии В. М. Богданова – Н. В. Носова, но предполагаем, что третье место на пьедестале почета великих «скептиков», наряду с А. Мазоном и А. А. Зиминым, им будет обеспечено.
Свою скромную роль в решении проблемы датировки и атрибуции «Слова о полку Игореве» видим лишь в том, что, сопоставив версии А. Мазона, А. А. Зимина и В. М. Богданова, мы обнаружим некую таинственную нить, связующую их воедино.
Поразительно и глубоко символично, что заключительный этап нашей работы совпал с поистине историческим событием – возвращением в лоно матери-Родины Крымского полуострова, 600-летняя борьба за присоединение которого к Руси (России) завершилось победой в «Троянов век», т. е. во «…времен<а> Очакова и покорения Крыма».
Глава I
Что искал князь Игорь в половецкой степи?
Уже, княже, туга умъ полонила. Се бо два сокола слтста съ отня стола злата поискати града Тмутараканя, а любо испити шеломомъ Дону. Уже соколома крильца припшали поганыхъ саблями, а самою опуташа, въ путины желзны.
«Слово о полку Игореве»
Сам князь Игорь словами автора повести совершенно определенно заявляет: «Хощу бо, рече, копие приломити // конец поля Половецкого: // съ вами, русици хощу главу // свою приложити, а любо испити шоломом Дону». Понятно, что ни о каком завоевании «града Тмутаракана» он не помышляет. Однако Бояре Великого князя Киевского Святослава Всеволодовича при толковании его «мутного сна» настаивают именно на той целеустановке похода Игоря, что приведена в эпиграфе к настоящей главе нашего исследования. Спрашивается почему? Ведь совершенно очевидно, что теми силами и боевыми средствами, которыми располагал князь Игорь, задачу завоевания бывшего Тмутараканского княжества, которым владели предки «Ольгова гнезда», решить было невозможно. Для этого требовалось углубиться в половецкие владения («конец поля Половецкого»), неминуемо встретив сопротивление приазовских половецких племен, разгромить их, а затем штурмом взять укрепленный византийцами город. Неужели бояре этого не знали и докладывали Святославу надуманную ими версию о цели похода Игоря?
Что собой представлял этот город, расположенный на Таманском полуострове, на период Игорева похода в Половецкую степь? И почему автор повести неоднократно упоминает этот город, отрезанный на тот период от русских земель Половецким полем? Действительно, кроме выше приведенного фрагмента из речи бояр, Тмутаракань упоминается в «Слове» в следующих контекстах: «збися Дивъ, //кличетъ врху древа, // велитъ послушати земли незнаем,// Влъз, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, иТеб, Тмутараканскый бълванъ», где автор повести утверждает, что в самом начале похода Игорева войска вся Половецкая степь, Приазовье, Причерноморье и Тамань уже осведомлены о движении русичей. Дважды упоминается этот город в ретроспективных отступлениях ко временам, когда предки князя Игоря владели землями Приазовья в составе Черниговского княжества: «Тъи бо Олегъ мечемъ крамолу коваше, и стрлы по земли сяше. // Ступает въ взлатъ стремень въ град Тьмуторокан // той же звонъслыша давный великый Ярославъ сынъ Всеволодъ, // а Владимиръ по вся утра уши закладаше въ Чернигов»; «Всеславъ князь людямъ судяше, княземъ града рядяше, // а самвъ ночь влъком рыскаше // изъ Кыева дорискаше до куръТмутараканя».
Как видим, автор «Слова» четырежды упоминает имя этого далекого города, рассказывает о событиях, происходивших в нем на протяжении почти целого двухсотлетия, хорошо знает родословную черниговских и тмутараканских князей, двое из которых упомянуты в «Зачине» «Слова о полку Игореве»: «…которыи дотечаше, // та преди песнь пояше // старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю предъ пълкы касожьскыми, // красному Романови Святъславличю».
«Храбрый Мстислав» – это сын Владимира Святославича («Крестителя») и брат Ярослава Мудрого. Поскольку после смерти Владимира Крестителя в удел Мстиславу достался далекий город Тмутаракань, стало быть, он уже входил в состав государства Киевская Русь, будучи завоеванным Святославом Игоревичем, разгромившим Хазарский Каганат.
«Красный Роман Святославлич» – внук Ярослава Мудрого, родной брат Олега Святославлича («Гориславлича»), то есть деда Игоря Святославича.
Исходя из этих посылов автора повести до средины 20-го столетия в ряде учебных пособий, адресованных прежде всего школьному учителю русской словесности, а также массовому читателю, цель похода Игоря Святославича определялась следующим образом: Князь Игорь поставил перед собой безумно смелую, где-то даже авантюрную задачу – с небольшими собственными силами вернуть в лоно великого Черниговского княжества Тмутаракань, когда-то подвластную его деду Олегу Святославичу («Гориславичу»). То есть он решается дойти до берегов Черного моря, закрытого для Руси Половецкими станами уже почти сто лет. Так считал, например, И. Г. Добродомов[28].
Однако за последние четыре десятилетия советские историки и словисты решительно отвергали доводы, выдвинутые И. Г. Добродумовым, на основании того, что поход северских князей, подвассальных великому князю Черниговскому Ярославу Всеволодовичу, был по своему характеру обычным набегом, имеющим цель пограбить приграничные половецкие поселения, захватить в плен беззащитных женщин и детей («…помчаша красныя девкы половецкыя…») и с трофеями вернуться восвояси. Так, известный словист М. Ф. Гетманец утверждает, что Игорь не мог ставить перед собой задачу выйти к Тмутаракани и берегам Черного моря, так как она была в то время неосуществима. В частности, он пишет: «… Небольшое русское войско в составе 6—8 тысяч человек не смогло бы преодолеть путь от Новгорода Северского до Тамани в полторы тысячи километров. Да и сам Игорь совершенно определенно говорит, что цель его похода – Дон: «Хощу, – рече, – копие приломити конець поля Половецкаго, с вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону». Все события в «Слове» привязаны к Дону, который является своего рода центром изображенного в произведении географического пространства. В настоящее время считается установленным, что Дон в представлении автора «Слова» – это современная река Северский Донец.
О Тмутаракани и Черном море ничего не говорится и в летописных рассказах о походе. В Ипатьевской летописи, довольно подробно описывающей события, названы только Донец, Оскол, Сальница, Сюурлий, Каяла, Тор и безымянное озеро-мор. В Лаврентьевской летописи фигурирует только Дон, и то не как место действия, а как заветная мечта воодушевленных первой удачей русских князей. Победив половцев, рассказывает летописец, князья решили: «А ноне пойдем по них за Дон и до конця изобьем их, оже ны будеть ту победа, идем по них у луку моря, а де же не ходили ни деди наши, а возмем до конця свою славу и честь». Как установлено исследователями, в этой летописи допущено множество неточностей, обстоятельства похода освещаются очень приблизительно и истолковываются в негативном по отношению к Игорю духе. Недоброжелательно относясь к Игорю, стремясь передать авантюризм замыслов князей, летописец все-таки не говорит о Тмутаракани, а ограничивается Доном и лукой моря.
Откуда все-таки взялась Тмутаракань?[29]
Слова бояр, толкующих сон Святослава, об истинной цели похода Игоря в Половецкую степь, Гетманец считает всего лишь догадкой, предположением, а посему «…они не могут быть основанием для заключения о цели похода»[30].
Кроме того, утверждает М. Ф. Гетманец: «…приведенное высказывание <бояр князя Святослава> содержит смысловое противоречие. Одно дело, когда Игорь говорит, что хочет «главу свою приложити, а любо испити шеломом Дону», то есть либо голову сложить, либо дойти до Дона, а другое – «поискати града Тмутаораканя, а любо испити шеломомь Дону»: попытаться завоевать Тмутаракань или дойти до Дона. Две цели, о которых говорят бояре, не исключат одна другую: если будет взята Тмутаракань, то и Дона войско достигнет, ибо эта река ближе и миновать ее невозможно.
«Поискати Тмутараканя» в данном случае – обычная гипербола, с помощью которой подчеркивается честолюбие и самонадеянность молодых князей»[31].
Тмутаракань XII столетия – это не «…самый скверный городишка из всех приморских городов России, где я (герой гениальной повести М. Ю. Лермонтова.– А.К.) там чутьчуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить…», какой виделась поэту Тамань в первой половине XIX века, а был это хорошо укрепленный город с развитой городской инфраструктурой, форпостом слабеющей Византии в Приазовье и Крыму. Город располагался по другую сторону Керченского пролива на Таманском полуострове, на месте античной Германассы. Историки полагают, что название свое город получил в средние века от хазар, сделавших его столицей Хазарского Каганата. Слово имеет тюркское происхождение «Таман-Тархан», что означает «город, правитель которого освобожден от взимания дани». Основным занятием жителей Тмутаракани, через которую шли пути, связывающие Европу с Кавказом, Закавказьем и Средней Азией, была посредническая торговля.
Древнейшее описание Тмутаракани, как крепости Таматарха, сделано в середине Х века Константином Багрянородным в его сочинении «Об управлении империей». Арабский географ XII века аль-Идриси пишет о «Матархе» как о большом, владеющем обширными землями, процветающем городе, на ярмарки которого собираются люди как из ближних, так и из самых дальних стран. Раскопки показали, что город имел квартальную планировку и мощеные улицы. Русские князья завладели им, очевидно, после разгрома Хазарии (965). В 988 при разделе князем Владимиром городов междусвоими сыновьями Тмутаракань досталась Мстиславу, упомянутому в «Слове» («…храброму Мстиславу, // иже зарезаРедедю предъ пълкы касожьскыми…»). На месте города сохранился фундамент церкви, построенной князем Мстиславом в 1023 году в честь победы над предводителем касогов (такименовались аланы – предки нынешних осетин) Редедей.
Тюркское название «Таман-Тархан» превратилось в византийских источниках VIII века в «Таматарха», а после завоевания Тамани Святославом Игоревичем в «Тъмуторокань» («Тмутарокань», «Тмутаракань»).
Доставшийся в наследство черниговским князьям город был типичным причерноморским портом с хорошо развитой архитектурой. Судя по сохранившимся фундаментам зданий, можно считать, что планировка города была уличной: дома соединялись в кварталы, разделялись узкими переулками, мощеными обломками керамики и щебнем.
В X—XI веках в городе правили многие русские князьяизгои, и даже не по одному разу. Среди многочисленных исторических лиц, упоминаемых в «Слове» и непосредственно связанных с Тмутараканью, привлекает внимание фигура последнего тмутаратьмутараканского князя Олега (в крещении – Михаила) Святославича – деда князя Игоря. Интерес к этому человеку проявляли и его современники, и автор «Слова»[32]. Дело в том, что Олег стал родоначальником целой династии князей, прозванных «Ольговичами», именно за Олегом закрепилось нелестное прозвище «Гориславич», данное автором «Слова». Имя Олега встречается в произведении неоднократно: «…были плъци Олговы, Ольга Святьславлича. // Тъи бо Олегъ мечемъ крамолу коваше, и стрлы по земли сяше».
Первое упоминание об Олеге находится в «Истории Российской» В. Н. Татищева, когда он получил от отца Святослава Ярославича в держание Ростовскую землю (1073 год)[33].
Олег Святославич оказался в горниле развернувшихся после смерти Ярослава Мудрого междоусобных войн его многочисленных наследников, что привело в итоге к распаду Киевской Руси как государственного образования. В 1077 году, воспользовавшись смертью Святослава Ярославича, его брат Всеволод захватил киевский престол. Другой брат, Изяслав Ярославич, не согласился с таким решением, считая, что великокняжеский престол должен принадлежать ему по старшинству. Пока братья воевали между собой, в Чернигове восемь дней княжил Борис Вячеславович, но затем бежал в Тмутаракань. В июле Изяслав, «створиста миръ» с Всеволодом, получает Киев, а Всеволод Ярославич захватывает Чернигов.
Чтобы правильно оценить эти события, необходим небольшой исторический экскурс. Черниговский престол появился в результате борьбы двух братьев: Ярослава Владимировича Мудрого и Мстислава Владимировича Тмутараканского. После смерти Мстислава в 1036 году Ярослав становится «единовластцем Русской земли», черниговский престол попросту ликвидируется[34].
Ярослав Мудрый завещал Чернигов своему сыну, Святославу Ярославичу[35], который княжил в городе с 1054 по 22 марта 1073 года, когда он вместе с Всеволодом выгнал Изяслава и занял киевский престол. Чернигов до смерти Святослава, т. е. до 27 декабря 1076 года, оставался за ним и должен был перейти во владение его сына – Олега Святославича. Но этого не произошло. Всеволод Ярославич вместе со своим сыном Владимиром Мономахом нарушают завещание Ярослава Мудрого. Черниговский престол захватывает Всеволод, Олег поселяется, а скорее, его насильно поселяют у дяди. Все это делается для того, чтобы Олег был под присмотром, чтобы не дать ему возможности выступить против Всеволода.
Жить при дворе дяди было, видимо, нелегко, и неожиданно для всех на следующий год «беже Олегъ, сынъ Святославль, Тмутараканю от Всеволода, месяца априля 10»[36]. В Тмутаракани в это время правил его брат Роман, о котором также упоминает «Слово». Боян пел песнь «…красному Романови Святъславличю».
Военной силы Олег практически не имел никакой; понимая это, он входит в союз с половцами и объединенными силами, вместе с Борисом Вячеславовичем, своим двоюродным братом, идет к Чернигову. Летописец осуждающе сообщает об этом факте: «…приведе Олегъ и Борисъ поганыя на Русьскую землю, и поидоста на Всеволода с половци»[37]. Уже в августе 1078 года на реке Сожице они разбивают Всеволода Ярославича и занимают Чернигов. «Олегъ же и Борисъ придоста Чернигову, мняще одолвше, // а земле Русъськй много зло створяще, // проливаше кровь хрестьяньску»[38].
Видимо, под влиянием летописных повестей в современной литературе о «Слове» («Словистике») сложился отрицательный образ Олега Святославича. Выдающийся «словист» А. Н. Робинсон верно подметил эту несправедливость: «Односторонне отрицательно оценивая деятельность Олега Святославича и идеализируя Владимира Мономаха, исследователи нередко ссылаются на союзы Олега (да и всех Ольговичей) с половцами»[39]. Что это за союзы?
Действительно, отношения с половцами у многих русских князей были родственными. Сам Олег Святославич был женат дважды. Его первой женой была гречанка Феофания, второй брак был заключен, вероятно, в начале 90-х годов с половчанкой, дочерью хана Осулка. Все герои «Слова» внуки этой половчанки.
В 1107 году Владимир Мономах со своими двоюродными братьями Олегом («Гориславичем») и Давидом Святославичами отправились к половцам. Владимир женил своего сына Юрия (Долгорукого) на дочери хана Аепы (сына Осеня), Олег женил своего сына Святослава (отца Игоря) на дочери другого хана Аепы (сына Гиргеня). То есть в жилах героев «Слова» более чем наполовину текла половецкая кровь.
Об этом же говорит и внешний облик Буй тура Всеволода, восстановленный по черепу из гробницы советским антропологом М. М. Герасимовым (1907—1970 годы); на нас смотрит лицо явно не «славянской национальности».
Нередко случалось, что Олег и Святослав Олегович в борьбе с Мономахом и его сыновьями обращались за помощью к половцам – своим шурьям и уям (дядьям по матери)[40]. К такой же помощи не раз обращался и сам Мономах. Летописец, сторонник Мономаха, осуждал Олега за приведение половцев на Русскую землю, а такие же действия Владимира Мономаха считал в порядке вещей.
Об отсутствии серьезного русско-половецкого антагонизма во второй половине XII века пишет в своей статье «Автор «Слова о полку Игореве» и его эпоха» упомянутый выше словист А. Н. Робинсон (1986 год): «…появилась возможность выгодного участия разных ханов в качестве союзников тех или иных русских князей в их взаимных войнах, ханы и князья становились необходимыми друг другу как в войнах, так и в союзах. Все более укреплялось кровное родство ряда князей и ханов, а также их дружин и местного населения обеих сторон»[41]. То есть шел нормальный процесс взаимной ассимиляции этносов на границах их соприкосновения в течение столетий (т. н. «пассионарность» по Л. Н. Гумилеву).
Автор «Слова» явно симпатизирует союзу князя Игоря с ханом Кончаком, заочно помолвивших своих детей, спасаясь в одной лодке после страшного разгрома половецких войск под командованием хана Кончака в союзе с войском Новгород-Северского князя Игоря летом 1181 года. К моменту похода Игоря в Половецкую степь этот союз укрепился уже тем, что настала пора женитьбы 15-летнего Владимира Игоревича на дочери хана Кончака Свободе Кончаковне (после крещения – Настасья).
Уж не в свадебный ли поход отправились «четыре Солнца» из «Ольгова хороброго гнезда» весной 1185 года? Так, например, А. Л. Никитин в статье «Поход Игоря: поэзия и реальность» высказывает мнение, что поход 1185 года вообще не замышлялся как военный. На основании того, что Игорь впоследствии женил все-таки своего сына на дочери хана Кончака, он считает, что поход на самом деле был элементом свадебного обряда, а описание в «Слове» первого боя войск Игоря с половцами, окончившегося легкой победой, «…в исторической реальности соответствует обыкновенной инсценировке умыкания невесты»[42]. На следующий же день на пирующих совершенно неожиданно напали другие, враждебные хану Кончаку половцы под предводительством хана Гзака. Подоспевший к концу битвы хан Кончак («сват» Игоря) спасает Игоря, взяв его на поруки. Таким образом, утверждает Никитин, получается, что в «Слове» мы видим сюжет «в то время широко распространенный в куртуазной литературе»[43].
Версия весьма интересная, но не слишком ли громоздок «свадебный» кортеж в составе 6—8 тыс. отборных войск, состоящий из княжеских дружин 4 князей, подвассальных великому черниговскому князю Ярославу Всеволодовичу, который от своих щедрот «многовоевых» выделил целый кавалерийский полк обрусевших степняков-ковуев под воительством боярина Ольстина Олексича?
К этому вопросу мы вернемся несколько ниже, а пока обратимся к событиям, происходившим в Чернигове в 1078 году, которые так ярко описаны в «Слове о полку Игореве». Правление Олега Святославича и его двоюродного брата Бориса Вячеславовича, захвативших в августе 1078 года Чернигов после битвы на реке Сижице, было недолгим. Осенью этого же года к Чернигову подошли со своими дружинами и ополчением два сына Ярослава Мудрого Изяслав и Всеволод, а также их сыновья Ярополк и Владимир Мономах. «Халифы на час» соправители Черниговского княжества Олег и Борис, находившиеся в походах, поспешили на выручку, и 3-го октября 1078 года у села на Нежатиной ниве состоялась одна из самых кровавых битв в истории междоусобных войн потомков Ярослава Мудрого. Битве на Нежатиной Ниве посвящен обширный фрагмент в «Слове о полку Игореве», в котором прямо или косвенно упоминаются все основные участники битвы: Олег Святославич и Борис Вячеславич с одной стороны, Всеволод Ярославич, Владимир Мономах и не названный по имени убитый Изяслав Ярославич, с другой. Тело убитого князя Изяслава по тексту «Слова» и вопреки летописи везет в Киев не Ярополк, а другой его сын – Святополк Изяславич. Вот этот фрагмент повести: «…Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше // и стрелы по земли сеяше. // Ступаетъ въ златъ стремень въ граде Тмутаракане, // той же звонъ слыша давний великий Ярославъ, // а сынъ Всеволожь Владимиръ, // по вся утра уши закладаше въ Чернигове. Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе // и на Канину зелену пополому постла // за обиду Олгову // храбра и млада князя. // Съ тоя же Каялы Святополъкь полелея отца своего // между угорьскими иноходьци // ко святой Софии къ Киеву».
Олег Святославич хотел уклониться от битвы со своими дядьями и двоюродными братьями и сказал якобы Борису Вячеславичу: «Не пойдем против них, не можем мы протвостоять четырем князьям, но пошлем лучше с просьбой о мире к дядьям своим». Но Борис был непреклонен: «Ты готови зри, азъ имъ противенъ всмъ» («Смотри, я готов и стану против всех»)[44]. Летописец дважды подчеркивает хвастовство Бориса Вячеславича, за что тот и был сражен в начале битвы: «Первоя убиша Бориса, сына Вячеславля, похвалившагося вельми»[45]. Следующий пал старший сын Ярослава Мудрого, великий киевский князь Изяслав: «Изяславу же стоящу в пеших, и внезапну приехав един, удари и копьем на плече. Тако убоен бысть Изяслав, сын Ярославль»[46].
После гибели Бориса Вячеславича, понимая что дальнейшее сопротивление бесполезно, Олег с остатками дружины бежал в Тмутаракань, где в это время княжил его брат Роман Святославич («Красный»). Последствия битвы на Нежатиной Ниве были таковы, как сказано в ПВЛ: «Всеволод же сел в Киеве, на столе отца своего и брата своего, приняв власть над всей Русской землей. И посадил сына своего Владимира <Мономаха> в Чернигове, а Ярополка во Владимире, придав ему еще и Туров»[47].
В Тмутаракани в это время события развивались следующим образом. Решив отомстить теперь уже великому Киевскому князю Всеволоду (своему дяде) за позор, учиненный Олегу, Роман Святославич, заключив союз с половцами, двинулся к Киеву (1079 год). Однако выступивший против него Всеволод Ярославич сумел подкупить половцев, которые при отступлении войска «красного Романови Святъславличю» предательски убили его 2-го августа 1079 года под Переяславлем. Летописец отмечает: «И доселе еще лежат кости его там, сына Святослава, внука Ярослава. А Олега хазары, захатив, отправили за море к Царьграду. Всеволод же посадил в Тмутаракань посадником Ратибора»[48].
О каких хазарах пишет летописец, не понятно, поскольку их со времен Святослава Игоревича ни в Тмутаракани, ни в ее окрестностях не было и в помине. Советский историк Г. Г. Литаврин высказал предположение, что термин «козаре» обозначал резидентов секретной службы Константинополя, которые специализировались на захвате знатных лиц. Между византийским двором и Всеволодом Ярославичем существовало якобы соглашение, по которому Олег Святославич был захвачен этими агентами и сослан в Византию[49]. Тмутаракань при посаднике Ратиборе за отсутствием твердой власти со стороны князей Рюриковичей стала яблоком раздора и легкой добычей так называемых «князей-изгоев», то есть Рюриковичей, не получивших уделов для своего «кормления». Одним из таких «изгоев» был Володарь Ростиславич – сын отравленного в 1066 году князя Ростислава Владимировича, который некоторое время княжил в Тмутаракани. Володарь Ростиславич вместе с другим князем-изгоем Давыдом Игоревичем свергли Ратибора и стали тандемом править Тмутараканским княжеством вплоть до возвращения Олега Святославича из изгнания.
Историю Тмутаракани XI—XII веков необходимо рассматривать и в аспекте связей двух крупнейших государств восточного христианского мира – Руси и Византии. В середине XI века Херсонес, центр византийских связей с Причерноморьем и Древнерусским государством, приходит в упадок. Византийская империя, находясь в не менее трудном положении (борьба с турками-сельджуками), обратила свои взоры на богатую и многообещающую Тмутаракань. Для выхода на богатую нефтью Тмутаракань и был использован в качестве «разменной монеты» плененный в 1079 году Олег Святославич по распоряжению правившего тогда в Византии Никифора III Вотаниата. После смерти последнего в царствование вступил Алексей I Комнин (1081—1118 годы), совершивший государственный переворот. Он узнает от приближенных, что на Острове Родос в течение двух лет и двух зим проживает русский князь Олег, которого он решил использовать в своих далеко идущих планах.
Угроза империи со стороны турок была столь очевидна, что Алексею I приходится лихорадочно искать пути к ее спасению. Главное военное могущество Византии, наводившее в течение веков страх и ужас на соседей, – «греческий огонь» – постепенно исчезает. Источники нефти – основы «греческого огня», находившиеся в Малой Азии, – оказываются в руках турок, и вот здесь-то внимание императора привлекает Тмутаракань, единственно свободный для Византии нефтеносный район. Узнав, что Тмутаракань ушла из рук Всеволода Ярославича, Алексей I вспоминает о знатном пленнике. Олег оказывается в Константинополе, где вскоре венчается с Феофанией Музалон и становится послушным орудием в руках императора, исполнителем его воли.
Женитьба на Феофании была не простым актом. Брак со знатной гречанкой доставил Олегу Святославичу неплохое приданое. Род Музалонов занимал видное положение среди господствующего класса гражданской знати Византийской империи. Из 16 семей, чьи социальные функции были связаны с церковью, Музалоны были среди первых. Из их рода, например, был константинопольский патриарх Николай IV (1147—1151), в их семьях были также крупные литераторы[50].
В 1083 году Олег и Феофания, видимо при поддержке военных сил Византийской империи, возвращаются Тмутаракань. «Приде Олегъ из Грекъ Тмутараканю; и я Давыда и Володаря Ростиславича и сде Тмутаракани. И исче козары, иже бша свтницы на убьенье брата его и на самого, а Давыда и Володаря пусти»[51]. То есть: «В год 6591 (1083) пришел Олег из Греческой земли к Тмутаракани, и схватил Давыда и Володаря Ростиславича, и сел в Тмутаракани. И иссек хазар, которые советовали убить брата его и его самого, а Давыда и Володаря отпустил». То есть, заняв Тмутараканский престол, Олег Святославич в первую очередь расправился с «козарами», выдавшими его Византии.
С возвращением Олега в Тмутаракань началось и поступление нефти в империю для военных нужд. Необходимо еще раз подчеркнуть ту большую значимость, которую имела Тмутаракань для Византии как нефтеносный район. На это обращал внимание еще Константин Багрянородный: «Должно знать, что вне крепости Таматарха имеются многочисленные источники, дающие нефть. Следует знать, что в Зихии, у места Паги, находящегося в районе Папагии, в котором живут зихи, имеется девять источников, дающих нефть, но масло девяти источников не одинакового цвета: одно из них красное, другое – желтое, третье – черноватое.
Да будет известно, что в Зихии, в месте по названию Папаги, близ которого находится деревня, именуемая Сапакси, что значит «пыль», есть фонтан, выбрасывающий нефть.
Должно знать, что там есть и другой фонтан, дающий нефть, в деревне по названию Хамух… Отстоят же эти места от моря на один день пути без смены коня»[52].
Изучив данные результатов археологических раскопок, проводившихся в Таманском и Керченском регионах во второй половине ХХ столетия, В. А. Захаров констатирует, что:
«Тарой для перевозки нефти служили так называемые черносмоленые кувшины, в большом количестве находимые при раскопках Тмутараканского городища. Химический анализ смолистого вещества, которым покрыты внутренние стенки этих сосудов, показал, что это остатки нефти таманского и керченского происхождения. Количество черносмоленых сосудов огромно. Только во время раскопок 1983 года было обнаружено свыше 30 тыс. фрагментов. Примерно такое же количество было найдено и в 1984 году. Впервые черносмоленые кувшины встречаются в слоях IX века и составляют лишь незначительную часть массового керамического материала. Наибольшее же количество их падает на слои X– XII веков, т. е. на период тмутараканского времени и период владения городом Византией, в слоях XIII века их уже нет»[53].
«Греческий» или «живой» огонь не давал покоя не только Византии, знали о нем и на Руси, знали и половцы, и те и другие хотели им владеть. Так, в Ипатьевской летописи есть сообщение под 1184 годом: «Бяше бо обрлъ (Кончак) мужа такового, бесурменина, иже стрляше живым огньмь: бяху же у них луци тузи самострлнии, едва 8 мужь можащетъ напрящи… Кончакъ же то видивъ, зан утече чересъ дорогу, и мьншицю его яша, и оного бесурменина яша, у него же бяшетъ живыи огонь».[54] В том же году этого «бесурменина» Владимир Глебович Переяславский взял в плен и привел к Святославу в Киев.
Таким образом, Олег Святославич стал наместником византийского императора в нефтеносных районах Причерноморья, что подтверждается также известной печатью князя, в легенде которой перечислены эти районы: «Господи, помоги Михаилу, архонту Матрахи, Зихии и всей Хазарии»[55].
Вторичное появление Олега в Тмутаракани носило иной, нежели это было прежде, характер. Если в 1079 году он даже не был соправителем своего брата Романа, то в 1083 году это уже самостоятельный князь, противопоставивший себя коалиции русских князей. Свидетельств тому немало. Прежде всего, это наличие печатей как самого Олега Святославича, так и его жены Феофании, со столь же громкой титулатурой: «Господи, помоги рабе твоей Феофано, архонтисе Росии, Музалониссе»[56].
Очень символичен и тот факт, что Олег именует себя и свою жену «архонтом» и «архонтисой». В данном случае титул «архонт» имеет не только значение «наместник», «обладатель власти», здесь греческое «архон» соответствует хазарскому «каган», или в Киевской Руси «великий князь»[57]. В данной связи любопытно, что предки Олега – его отец Святослав Ярославич (бывший князь Тмутараканский) и дед Ярослав Мудрый – кроме того, что они были великие князья киевские имели еще и титул кагана. Да и сам Олег именовался, вероятно, «каганом». Подтверждение этому мы видим в «Слове», где Олег имеет титул кагана: «Рекъ Боянь и ходы на [Ходына] Святъславля пснотворца старого времени Ярославля, Ольгова коганя хоти…»[58]. По мнению А. П. Новосельцева, к концу XI – началу XII века титул «каган» был уже архаичен, лишь «на задворках “империи Рюриковичей” в Тмутаракани этот титул мог известное время сохраняться»[59].
Внимание многих исследователей уже давно привлекают географические названия, перечисленные на легендах печатей Олега и Феофании. Так, Олег владеет не только Тмутараканью, но и сопредельными территориями – Зихией и всей Хазарией, – т. е. довольно обширной областью, охватывающей Предкавказье (бассейн реки Кубань), Причерноморье и Приазовье. В титуле Феофании спор вызывало географическое название «Росия». Некоторые авторы видели в этом указание на принадлежность к Киевской Руси. Однако В. Л. Янин считает, что владельцем печати могло быть только лицо, «обладающее реальной властью, но каких-либо территориальных указаний этот титул в себе не содержит, кроме самого общего указания на Русь»[60].
То есть в титуле Феофании нет никакой двусмысленности, кроме того, что он просто указывает, что жена Олега Святославича получила город Росию в свое владение, возможно, по брачному договору. «Передача византийской аристократке номинальной власти над частью Тмутараканского княжества могла быть компенсацией за оказанную помощь»[61].
Росия, как и Тмутаракань, имела для Византии особое значение и в XII веке находилась под властью империи. Об этом свидетельствует тот факт, что в хрисовуле императора Мануила I Комнина 1169 года Матраха и Росия исключались из территории, где генуэзским купцам разрешалось торговать. «Да смогут генуэзские корабли спокойно торговать во всех областях нашего владычества, за исключением Руссии (России, Русии) и Матрахи (Матрики), если только моим величеством не будет дано на это специального разрешения»[62].
Итак, титул «архонтиса Росии» имеет исключительно тмутараканскую принадлежность и указывает на владение городом Росия. Но где он находился? Арабский путешественник середины XII века аль-Идриси указывает: «От города Матраха до города ар-Русийа 7 миль. Между жителями Матрахи и жителями Русийи постоянная война»[63].
Все исследователи почему-то полагают, что город Росия находится на противоположной от материка стороне, и локализуют его на месте нынешней Керчи. Однако Идриси прямо указывает, что Росия располагается на берегу большой реки, которая соответствует Кубани: «От города ар-Русийа, что на большой реке, текущей к нему с гор Кукайа»[64]. Б. А. Рыбаков отождествляет горы Кукайа со Среднерусской возвышенностью, отсюда и река, текущая с этих гор, по его мнению, Дон или Северский Донец.