Прощай, Гульсары! (сборник) Айтматов Чингиз
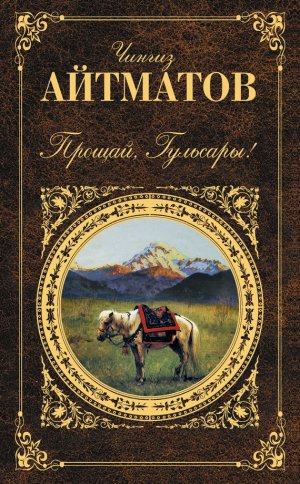
А старик Чекиш? А что старик Чекиш, он волосы рвал на себе. И понял Султанмурат, как трудно в колхозе умному, понимающему бригадиру. Хочет сделать все с толком, вовремя, по порядку, а везде все горит, как пожар под ногами, хочет поспеть сделать по весне то, другое, десятое, а сил нет, людей нет, харчей нет. Голову вытянет – хвост увязнет. Сидел он тут вчера, думу думал. В аиле время голодное. Запасы уже на исходе, до нового урожая далеко. Скот отощал, дохнет от бескормицы, резать нет смысла. Для больного за килограммом мяса едут на базар. Кило мяса стоит столько, сколько раньше целая туша. Но едут. Даже не едут, идут пешком за тридцать-сорок километров. Ездовые лошади едва тянут ноги. Выедешь – останешься пропадать в пути. Только и успели подготовить тягло к севу. Тягло справное, но тоже ненадолго при такой нагрузке.
Если думать обо всем этом, страшно становится. Но самая великая беда – война на фронтах, конца-краю не видно. Одно утешение, одна неугасимая надежда – побеждать начали немцев, повсюду теснят их, гонят…
Сегодня с утра вроде бы погода заладилась. Облачно было, но над горами прорывалось иной раз солнце, разгуливалось небо над головой, снова хмурилось и снова закрывалось. А в обед резко похолодало и потемнело окрест. Снег или дождь, что-то собирается… Очень уж сумрачно стало вокруг. Выходя на пахоту после обеда, плугарям пришлось захватить мешки, чтобы закрыть головы от дождя или снега.
Шли по начатому загону со свалом борозды внутрь. Первым шел Султанмурат, вторым шагах в двухстах – Анатай, замыкающим, почти в полуверсте, – Эркинбек. Сегодня плугари были в поле одни.
Три плугаря, и великие горы впереди. Три плугаря, и великая степь позади.
Председатель Тыналиев сумел побывать здесь лишь поначалу. Дел у него много, ускакал, оставив бригадира Чекиша налаживать пахоту. Сегодня и Чекиш уехал требовать оставшиеся в аиле упряжи Эргеша и Кубаткула. Вот и получилось, на третий день остались плугари сами по себе – с плугами, с конями, с землею, которую предназначено было пахать и пахать, чтобы было где урожай собирать, чтобы было чем насытиться людям…
Загон находился далеко от полевого стана – от юрты, в которой они жили, от стожка клеверного сена, от мешков овса, от всего того, что было теперь их домом. На полевом стане оставалась лишь старая повариха. Больше ворчит, больше жалуется, что топливо сырое, что того нет, этого нет, вместо того, чтобы вовремя приготовить еду. В поле кусок лепешки и горячая похлебка – большего не потребуешь. А она все ворчит, проклинает жизнь, как будто ее кто-то в чем-то упрекает. В аиле ее мало знали. Пришла откуда-то. Другие не могут бросить дома – дети, хозяйство, а она согласилась приехать на Аксай, чтобы прокормиться возле плугарей. Пусть кормится на здоровье, только бы вовремя готовила еду. А она все суетится и не поспевает. Помочь ей пахарям некогда. Потому как лошадь – это не машина, не трактор, который выключил и сам пошел. Залил бак и поехал. Пахарь работает на поле сам, как лошадь, а после кормит, поит, ухаживает за четверкой плуговых лошадей и, добираясь до юрты, валится с ног… А на рассвете снова за дело… Самое трудное встать на рассвете…
Главная забота пахаря – чтобы плуги ходили, чтобы лошади, втягиваясь в работу, сохраняли тело, чтобы хватило их сил до конца весны. Это важно. Очень важно. В первый день, когда начали пахать, через каждые десять-двадцать шагов лошади останавливались передохнуть. Задыхались. Пришлось чуть приподнять лемеха, уменьшить глубину вспашки. Но это вынужденная мера до тех пор, пока тягло втянется в хомут.
Сегодня уже заметно лучше пошла работа. Дружней берут кони, свыкаются, идут четверки, тесно сомкнувшись, припадая к земле, вытянув от напряжения шеи, как бурлаки на картинке в учебнике. Шаг за шагом, шаг за шагом тянут и тянут плуг, режущий лемехами толщу земную.
Но погода подводит. Вот уже снегом запахло, замелькали редкие белые хлопья… Значит, зима недобрала еще свое, значит, решила напомнить о себе на прощание. Зря она это делает. Для пахарей очень некстати…
Султанмурат успел накинуть на голову мешок, но все равно это не спасало его от снегопада. Сидя верхом на бороздовом коне в середине упряжки, размахивая над головой кнутом, он все время открывался ветру то с одной, то с другой стороны. Снег пошел густой, волглый, быстро тающий. Замельтешило, закружило вокруг. В плывущей снежной мгле скрылись горы, мир сомкнулся. И только понукающие крики плугарей носились в этой мгле, как крики птиц, захваченных глухим ненастьем.
А плуги шли. Черные плуги – то появлялись на пригорке, как на гребне волны, то снова исчезали в низине…
Припадая к борозде, словно бы выползая из самой земли, шли четверки жадно дышащих, карабкающихся лошадей. Снег мгновенно таял на их горячих, напряженных спинах, стекая ручьями по бокам. Тяжело коням, очень тяжело, земля намокла, заскользила под копытами, сбруя отяжелела от влаги, лемеха застревают, засасываются в липнущих пластах целины. Но нельзя останавливать плуги. Надо пахать. Завтра, когда глянет солнце, эти борозды проветрятся, и пашня будет готова. Нельзя терять времени.
Плуг застревал. Султанмурат то и дело слезал с седла, счищал кнутовищем комья глины с лемехов и, покричав следующим сзади Анатаю и Эркинбеку, услышав их ответные голоса, снова протискивался между мокрыми сбруями и телами лошадей к бороздовому коню, снова вскарабкивался в седло, и снова пахарь шел вперед.
А снег не переставал. Плыли черные упряжи плугов, как корабли в белом тумане. И в той кружащей снежной тишине, поглотившей все звуки, носились над полем лишь оклики плугарей:
– Ана-та-ай!
– Эркин-бе-ек!
– Султанмура-а-ат!
По лицу стекала вода, то ли талый снег, то ли пот; руки на поводьях взбухли, посинели от холода и сырости, ноги сдавлены с обеих сторон боками лошадей, трущихся друг о друга, больно ногам, хочется их куда-то убрать и некуда, но Султанмурат понимал, что по нему, по следу его идут Анатай и Эркинбек, что втроем они – шесть лемехов, что не имеет он права останавливать среди дня шесть лемехов, пашущих аксайскую землю. Только бы кони выдюжили, только бы кони не сдались. И потому он мысленно обращался к ним, внушал им:
«Потерпите, рожденные от Камбар-Аты[15], подружней налегайте. Ведь не каждый день будет так тяжко. Сегодня снег, а завтра его не будет. Вперед, вперед, чу, чу! Потерпите, рожденные от Чолпон-Аты, вон впереди конец загона, сейчас мы развернемся там и пойдем в обратную сторону. Потерпите, не сбавляйте шаг. Я не имею права избавить вас от плугов. Для этого мы вас готовили всю зиму. Другого выхода нет. Я гоню вас по мягкой и твердой земле, вам тяжко, но иначе хлеб не рождается. Старик Чекиш говорит, что так было и так будет вовеки. Он говорит, что хлеб, каждый кусок хлеба полит потом, только не все знают и не все думают об этом, когда едят. А нам очень нужен хлеб. Очень нужен. Потому мы с вами здесь, на Аксае.
Чабдар, ты мой брат, ты мой бороздовый конь. Ты тянешь плуг и меня несешь на себе. Прости, что и тебя хлещу кнутом. Так надо. Не обижайся, Чабдар.
Чонтору, ты идешь слева, ты ступаешь по пашне, тебе тяжелее всех, но ты самый сильный после Чабдара. Тебя, Чонтору, отец мой Бекбай всегда хвалил. Помнишь? А помнишь, как все мы ездили в город… Писем нет от отца давно уже, это страшно, вам, лошадям, этого не понять. Когда люди на войне долго не пишут – это очень страшно. Мать совсем исхудала от тоски и страха. Когда оплакивали анатаевского отца, больше всех и больнее всех плакали Инкамал-апай и мать. Они что-то знают, что-то недоброе, но не говорят. Они что-то знают… Чу, чу, Чонтору, я не позволю тебе сдаваться. Вперед, Чонтору! Держись!
И ты, Белохвостый, ты тоже мой брат. Ты идешь справа от меня, в середине упряжи. Ты должен здорово тянуть, вы с Чабдаром коренники. Ты красивый конь, у тебя необыкновенный белый хвост. Но ты не сдавайся, не падай духом. Я не позволю тебе уставать. Чу, чу, Белохвостый! Не подводи!
Брат мой, Карий, ты простой и хороший конь. Когда я выбирал тебя в свою четверку, я очень надеялся на тебя. Ты работяга и нравом смирен. Я и тебя очень уважаю. Ты идешь с самого краю, и тебя всегда видно. По тебе судят со стороны, как дела наши, Карий, брат мой. И я тебя не обижу, ты только тяни, тяни, не сдавайся. Я тебе обещаю: когда мы закончим пахать и сеять на Аксае, когда мы будем возвращаться в аил, ты будешь идти также с краю, чтобы все видели тебя. И мы проедем мимо ее дома, и когда она выбежит на улицу, то сразу увидит тебя, Карий, брат мой. Мне так и не удалось повидаться с ней перед отъездом. Платочек ее при мне, он всегда при мне. Он спрятан от снега и дождя. Я о ней всегда, все время думаю. Я не могу о ней не думать. Если я перестану о ней думать, все опустеет, и мне неинтересно будет жить…
Чу, чу, рожденные от Камбар-Аты! Дружней налегайте, вперед, вперед! Чу! Чу!.. А снег все идет, все идет! Какой мокрый снег. Измокли мы все с головы до ног… И ветер поддувает. Хорошо, если стряпуха наша догадалась прикрыть сено попонами. А если не догадается, намокнет сено, пропадет. Чем вас кормить будем – двенадцать голов? Надо было сказать ей перед отъездом, забыл, не думал, что снег повалит.
Странная она старуха, глаз у нее завидущий. Лошадей наших все расхваливает, не наглядится. Какие справные, говорит, кони, хорошо кормленные. Жира, говорит, на боках в два пальца. В прежние времена, мол, таких лошадей резали на больших поминках. В те времена, говорит, мясо ели до отвала. И когда варили конину в сорокаведерных котлах, то жир – зардеп, слово-то какое, – говорит, снимали сверху, зачерпывали дополна половником, уносили для больных. Тем жиром, говорит, попоить больного – сразу встанет на ноги. Вот ведь ненасытная, только о жире и думает. Как бы не сглазила лошадей. Да ну ее! В школе же говорили, что сглаз – это вранье. Пусть себе болтает, лишь бы вовремя еду готовила. А вчера удивила, мясо горного козла сварила. Худющий козел, но все-таки. Проезжали, говорит, какие-то охотники с гор двое, завернули на огонек в юрту и вот оставили часть добычи. Спасибо тем охотникам, обычай знающие люди, выходит. Хотят, чтобы и в другой раз удача была им на охоте – первому встречному уделили полагающуюся долю. А мы, конечно, первые встречные на их пути, если они спускались с гор, вокруг никого. Скачи в горы, скачи в степь – никого не встретишь. А снег не перестает. Вот зарядил… Совсем выбились из сил…»
Лошади остановились, изнемогли… Султанмурат слез с седла, с трудом удерживаясь на отекших, сдавленных ногах, как пьяный прошелся, ковыляя вокруг упряжи. И так ему сделалось больно, невыносимо жалко взмыленных лошадей, дрожащих, мокрых от ушей и до копыт, тяжело, запаленно дышащих, что от жалости застонал.
А снег все падал и таял, падал и таял на дымящихся лошадиных спинах. Султанмурат сбросил с головы намокший тяжелый мешок, непослушными, окоченевшими руками растягивал петли сбруи, а потом не выдержал, разрыдался, обнимая шею Чабдара, и, плача, шептал: «Простите меня, простите!» – ощущая на губах горячий, горько-соленый вкус конского пота…
– Эй, Султанмурат! Ты что там? – донесся голос Анатая, приближавшегося по борозде.
– Давай распрягай! – крикнул в ответ Султанмурат.
10
Зато утро следующего дня выдалось ясное и чистое. Никаких следов вчерашнего ненастья. Только сырость, только бодрящий холодок, только легкий румянец над землей, только подновленный белый снег на горах. Раннее солнце выкатывалось из-за гор, оповещая мир о себе ликующим, разливающимся вполнеба заревом весеннего восхода. Весь обширный Аксай со всеми его логами, равнинами, пригорками и низинами проглядывался далеко-далеко. Зато горы Великого Манасового хребта, подле которых они родились и выросли, казалось, подошли в ночи поближе – неправдоподобно, но шагнули горы в ту ночь в Аксай, к ним, чтобы, проснувшись поутру, пахари изумились их величию, их красоте и могуществу.
Близко и далеко, рядом и недоступно сияли на восходе горные кряжи…
Да, великое утро занималось в тот день на Аксае. На пашню вышли не спеша, решили подождать, чтобы землю обветрило.
А тем временем лошадей поскребли, сбрую привели в порядок, пересыпали подмокший овес. Солнце быстро нагрело. И тогда они двинулись к плугам. Каждый на своей четверке. Плуги засосало во вчерашних бороздах. Втроем выворачивали каждый, очищали лемеха, смазывали колеса. А потом впрягли лошадей, рассчитывали к вечеру довершить загон, а с утра передвинуться на новый участок. Работа шла споро. Лошади, отдохнувшие за ночь, ухоженные поутру, бодро трудились. Втянулись, стало быть, теперь уже по-настоящему. Втянулись в нелегкую лямку плуга. Но вчерашняя пахота по снегу оправдала себя – почва обветрилась, вывернутые по снегу пласты рассыпались под лучами солнца на мелкие ровные комочки. Значит, земля не «поломана», не «смята». Значит, пашня качественная.
Хорош был тот день. Бывают такие дни, когда все ладится, когда жизнь понятна, прекрасна, проста. Не зря готовились всю зиму, трудились, школу вынуждены были оставить; аксайский отряд действует, плуги идут, сегодня должны прибыть Эргеш и Кубаткул. Тогда их будет пять плугов, это десять лемехов. Сила. Настоящий десант! А потом посеют, заборонят поля – и тогда жди урожая! Яровой хлеб совсем неплохой хлеб. Бригадир Чекиш говорит, яровой хлеб по урожайности уступает, но самый вкусный хлеб из всех хлебов. Дело пойдет. Дожди будут. Не может быть, чтобы дожди воспротивились, когда столько труда уходит, дожди будут, только бы там, на фронте, держались, наступали наши, чтобы на счастье уродился этот хлеб, не застрял в горле…
Так они шли по загону. Впереди Султанмурат, за ним шагах в двухстах Анатай и почти в полуверсте Эркинбек…
Солнце пригревало все больше. И на глазах зазеленели легким налетом муравы степные пригорки. Как в сказке: едешь в один конец – зеленеет справа, едешь в другой конец – зеленеет слева. Земля влажно дышала обновившимся духом. А плуги шли по Аксаю, оставляя позади гривы свежих борозд…
Вспорхнул жаворонок с земли. Зазвенел, залился неподалеку, и еще где-то запел жаворонок, и еще где-то. Султанмурат улыбнулся. Поют себе в удовольствие, ни дома у них, ни листа, ни ветки над головой, живут себе в голой степи, как умеют. И довольны. Весной довольны, солнцем довольны! А где они были вчера, как переждали непогоду? Ну, то теперь позади.
Весна теперь не уступит своего. И работы еще много, это только начало. Ну так что ж! Вот прибудут сегодня Эргеш и Кубаткул, и тогда всем десантом навалятся, пойдет дело, пойдет…
Погоняя упряжку, Султанмурат заметил всадника в стороне. Он проезжал мимо пашни в отдалении, поглядывая в их сторону, путь держал в сторону гор. За плечом ружье. На голове мохнатая зимняя шапка. Конь под ним рыжий, коренастый, выезженный. Ребята тоже заметили его. Стали кричать:
– Эй, охотник, заворачивай к нам!
Но охотник не откликнулся. Он проезжал мимо, не приближаясь, все время поглядывая в их сторону. Султанмурат обрадовался его появлению, остановил коней и, привстав на стременах, крикнул в ту сторону:
– Эй, охотник, спасибо за ширалгу![16] Спасибо, говорю! За ширалгу спасибо!
Но тот так и не откликнулся. Вроде бы не слышал и не понимал, о чем речь. Вскоре он скрылся за буграми. Значит, некогда, спешит по своему делу.
А примерно через полчаса появился второй охотник. Он тоже ехал в сторону гор и тоже с ружьем. Но он проезжал другим краем, по другой стороне загона, и тоже издалека поглядывал в их сторону, проехал молча, не завернул, не поздоровался с плугарями. А полагается свернуть с пути, пожелать пахарям здоровья и урожая. Старик Чекиш говорит – люди не те пошли. Может быть, прав он, мудрый старик Чекиш.
А потом было самое волнующее событие.
Первым услышал Анатай. Молодец. Это он закричал что есть мочи:
– Журавли! Журавли летят!
Султанмурат глянул вверх – в чистом; беспредельно синем и беспредельно бездонном небесном просторе летели, медленно кружась, перестраиваясь на ходу, перекликаясь, журавли. Большая стая. Птицы были высоко. Но небо было еще выше. Необъятное огромное небо – и стая журавлей, плывущих живым островком в этой необъятности. Султанмурат смотрел, задрав голову, и лишь потом спохватился, неистово закричал:
– Ура-а! Журавли!
Все трое прекрасно видели, что то были журавли, но кричали друг другу, как великую нежданную новость:
– Журавли! Журавли! Журавли!
Султанмурат вспомнил, что ранний прилет журавлей – хорошая примета.
– Ранние журавли – хорошая примета! – крикнул он Анатаю, обернувшись на седле. – Урожай, урожай будет!
– Что, что? – не расслышал Анатай.
– Урожай, урожай будет!
Анатай, обернувшись в сторону Эркинбека, кричал ему в свою очередь:
– Урожай! Урожай будет!
И тот отвечал им:
– Слышу, слышу! Урожай будет!
А журавли плыли, купаясь в голубизне неба, плыли не спеша, кружась на плавно колышущихся крыльях, перекликаясь то сдержанно, то многоголосо, все разом, и снова в их рядах наступало спокойствие. В прозрачности того дня были хорошо видны их точеные вытянутые шеи, и тонкие клювы, и полуприжатые к телу ноги у одних и плотно прижатые у других. Иногда мелькали в движении белые концы маховых перьев по краям крыльев. Тогда-то, разглядывая птиц, плугари заметили, что стая медленно идет на снижение. Журавли все ниже и ниже спускались к земле, их вроде бы сносило каким-то течением туда, к дальним пригоркам. Никогда в жизни Султанмурат не видел журавлей вблизи. Они всегда проплывали над головой, как видение, как сон.
– Смотри, садятся, садятся! – крикнул Султанмурат, и все трое, спрыгнув с седел, оставив плуги и упряжи, кинулись в ту сторону, куда опускалась журавлиная стая.
Быстро бежали. Вовсю! Хотелось увидеть журавлей вблизи: какие они из себя? Вот будет здорово!
Ах, как хорошо бежалось Султанмурату! Земля ложилась под ногами, сама шла навстречу. И вместе с землей снежные горы бежали навстречу, и журавлиная стая, кружащаяся в воздухе, с которой он не спускал глаз, плыла навстречу. Дух захватывало от бега и радости, и на бегу, ликуя, догоняя журавлей, подумал он, что, если журавли обронят перо, он найдет его и сохранит, подарит ей, Мырзагуль, журавлиное перо и расскажет ей все как было. Только бы догнать, только бы увидеть журавлей. Он бежал, неся в душе нахлынувшую нежность к Мырзагуль. Если бы мог, побежал бы он сейчас с журавлиным пером прямо к ней… Прямо к ней с журавлиным пером…
11
Они бежали, а немигающий жестокий зрачок следил за ними в прорезь прицела, плавно переводя кончик мушки с одного на второго, на третьего. Ненавистно смотрел этот зрачок, как бежали мальчишки в прорези прицела к журавлям. Земля за пределами прицела была такая большая, а они на срезе зыбкой мушки такие крохотные… Небо в прицеле над ними было такое большое, а они на кончике мушки такие маленькие. Щелчком сшибить – и не будет их… Все это в одну секунду могло исчезнуть, перестать мельтешить в прицеле, стоило лишь нажать на спусковой крючок.
– Эх, здорово я их усек, сейчас бы сшиб подряд, не успели бы пикнуть, – сдерживая дыхание, проговорил тот, что целился.
– Брось, дурило! С пулей не шутят, не целься зря, – ответил ему другой, что придерживал лошадей под уздцы среди зарослей курая, в глубокой, как волчье логово, вымоине под бугром.
Целившийся промолчал, играя желваками, но мушки не снял.
– Не высовывайся, тебе говорят, – приказал ему тот, что держал коней. – Набегаются – уйдут. Тебе-то что?
Не подчинился. Лежал, привалившись щетинистой щекой к прикладу, сладостно было ему следить в прорезь прицела за бегущими недоумками, ошалевшими от криков журавлей. Зло брало. Бегут и смеются! Бегут и смеются! Вот радость-то! Перещелкал бы тремя выстрелами, даже не трепыхнулись бы. Бегут и смеются! И чего, спрашивается? Бегут и смеются…
Долго бежали плугари, но когда прибежали на пригорок, увидели, что журавли снова набирали высоту… Значит, раздумали. А может быть, только показалось, что журавли садятся?
Ребята остановились, переводя дыхание. Запалились. А Султанмурат пробежал еще дальше и остановился, провожая журавлиную стаю со слезами на глазах…
Потом они вернулись и снова распахивали аксайскую землю. Хороший был день, замечательный. Пополудни приехала можара колхозная с сеном для коней. Картошки, мяса, муки, дров привез им возчик и сказал, что бригадир Чекиш велел передать – завтра прибудет сам и вместе с ним упряжки Эргеша и Кубаткула. Скажи, говорит, Султанмурату и ребятам: пусть не расстраиваются, все решено уже, завтра десант будет в полном составе. В обязательном порядке. И еще через пару дней приедет к ним на Аксай и председатель Тыналиев. Вот такие вести привез возчик можары. Все вместе пообедали, и, когда собирались отправиться снова на пашню, стряпуха сказала Султанмурату, что хочет съездить в аил, завтра вернется с бригадиром Чекишем, что у нее в аиле какие-то срочные дела и что она должна привезти мыла для стирки. А чтобы они не остались без нее голодными, она напекла им лепешек на целый день и оставляет готовый суп, который они смогут подогреть себе. Так не хотелось Султанмурату, чтобы она уезжала, но пришлось согласиться. Не будешь же спорить, задерживать взрослого человека.
С тем пахари отправились к своим плугам. Весь остаток дня допахивали загон. К вечеру завершили. Теперь можно было окинуть взглядом – большое поле подняли. Первое поле. А сколько еще пахать впереди. Но зачин есть. Без зачина же нет продолжения.
Уже в сумерках закруглили последнюю борозду, запахали огрехи на поворотах и, недолго мешкая, перетащили плуги на соседний загон, чтобы завтра с утра начать с нового места новую полосу.
Пока выпрягли лошадей и пока приехали на полевой стан, стемнело. Пусто на стане. Стряпуха давно уехала. Ну пусть, вернется ведь завтра.
Устали за день порядком. Не спеша рассупонили хомуты, поскидали их с конских шей, убрали сбрую в юрту, каждый на свое место. А лошадей, все двенадцать голов, тоже поставили на свои места у старой можары без колес, привезенной на полевой стан вместо кормушки. Да, каждого коня поставили на свое место к сену в можаре. Решили, что утром пораньше встанут, чтобы почистить коней от засохшего пота. Умылись впотьмах, потом разложили костерок в юрте и при свете костра поужинали всухомятку, разогревать сил не хватило.
Легли спать. Султанмурат уснул позже всех. Перед сном он еще раз вышел из юрты глянуть на лошадей. Кони спокойно стояли, уткнувшись мордами в сено, деловито хрумкали сухим клевером, пофыркивали с устатку. Да, спокойно стояли, голова к голове, по шесть коней с каждой стороны можары.
Погода обещала быть спокойной. Луна на ущербе, совсем мало ее осталось.
Султанмурат походил немного, почему-то ему страшно было. Безлюдье, мертвая тишина, непроглядная бескрайняя ночь. Занятый делом и заботами, не замечал он, оказывается, как страшно здесь ночью в глухой степи. Он поспешил вернуться в юрту. Умостился на своем месте и долго еще не засыпал. Лежал с открытыми глазами во тьме. Думал о разном, вспоминал. Загрустил, затосковал вдруг по дому. Как там мать без него? От отца, стало быть, все нет и нет никаких вестей. Было бы какое письмо, возчик бы ему сегодня привез, да еще суюнчу[17] потребовал бы. Отдал бы все, что захотел бы он. Да только что отдавать. У него тут ничего нет. Пообещал бы полмешка пшеницы, осенью в колхозе выдадут хлеба, вот и отдал бы. Думая об этом, он вздыхал горестно, припоминая, как Аджимурат взял с него слово, что если отец вернется с войны, то встречать его на станцию поскачут они вместе верхом на Чабдаре, он как старший впереди, а младший позади. И то, как, встретив отца, они отдадут ему Чабдара, а сами побегут рядом, а навстречу мать и много близких людей… Да, случись такое счастье, из плуга выпряг бы Чабдара и поскакал бы… Потом он во сто раз больше отработал бы…
Султанмурат тихо заплакал, потому что смутно понимал, что такого счастья, возможно, никогда не будет…
Потом он улыбнулся себе во тьме, вспоминая, как встретил у переступок на речке Мырзагуль. Даже сейчас он помнил прикосновение ее руки и то, как рука ее сказала: «Я рада! Я очень рада! Ты разве не чувствуешь, как я рада!» И то, как в ней он узнал тогда себя, и как был потрясен этим, и как был рад тому, что она – это он. Спит, наверно, уже Мырзагуль. А может быть, в эту минуту думает о нем. Ведь она – это он. Султанмурат нащупал ее платочек, спрятанный в кармашке гимнастерки, погладил его…
И так он забылся, заснул. Крепко уснул. Потом какой-то дурной сон навалился. Кто-то душил его, руки крутил. Тогда он проснулся и не успел закричать от испуга, как чья-то увесистая жесткая ладонь, разящая крепкой махоркой, зажала ему рот.
– Молчи, если хочешь жить! – сказал ему на ухо хрипло дышащий махоркой, сопящий человек. Он разжал ему челюсти, растискивая их до ломоты железной пятерней, затолкал в рот тряпку, и пока Султанмурат сообразил, что происходит, руки его были крепко стянуты веревкой за спину. Холодющий пот прошиб, и тело стало дрожать само по себе. Что за люди эти двое в юрте, зачем они его связали?
– Ну, этот готов, – прошептал один другому. – Давай тех.
Они копошились в темноте там, где спал Анатай. Анатай вскрикнул, забарахтался, но и его скрутили. А Эркинбека ударили, кажется, по голове, он застонал и сразу утих.
Султанмурат все еще не мог понять, что происходит. Кляп распирал ему рот, он задыхался, руки сводило от веревок. В юрте стояла полная тьма. Но кто они, зачем эти люди здесь, зачем они так поступали с ними, чего они хотят, может быть, они хотят убить их? За что? Султанмурат стал рваться, метаться, и тогда один из них придавил его коленом и, стуча по голове твердым, железным пальцем, сказал негромко, но внятно:
– Брось брыкаться. Слышишь? Ты тут, кажется, главный. Мы вас связали, вы не будете отвечать, вы ни при чем. Запомнил? – говорил он, стуча то и дело железным ногтем по голове. – Будете умными – все обойдется. Когда вас найдут здесь, расскажете все как было. Какой с вас спрос! Но если что, если кто трепыхнется сейчас, прежде времени, прибью, как щенят. Душу вон! Тихо лежите. Не подохнете.
И они вышли из юрты, шумно дыша, ругаясь и отхаркиваясь. Султанмурат слышал, как они возились у коновязи, что-то делали, кони испуганно перетаптывались, храпели, шарахались. А через некоторое время послышался топот многих копыт, щелканье кнута, опять какая-то ругань, и топот коней стал удаляться и вскоре совсем затих.
Только тогда дошел до Султанмурата весь ужас случившегося. Конокрады увели их плуговых коней! Обида, ярость разрывали душу. Он метался, пытаясь ослабить руки, но из этого ничего не получалось. И, задыхаясь, он стал крутить головой, выталкивая языком кляп. Во рту горело, кровоточило, распирало. И все-таки удалось наконец выплюнуть проклятый кляп изо рта. Как на свободу вырвался. Голова закружилась от притока воздуха в легкие.
– Ребята, это я! – подал он голос, приподнимая голову. – Это я! Это я говорю!
Но никто ему не ответил. Он услышал, как зашевелились Анатай и Эркинбек на своих местах.
– Ребята, – сказал он тогда, – не бойтесь. Я сейчас. Я сейчас что-нибудь придумаю. Вы только слушайте меня. Анатай, пошевелись, где ты?
Анатай замычал, заерзал, приподнимаясь с места.
– Анатай, подожди! Будь на месте! – Султанмурат покатился к нему через ворох одежды, сбруи. – А теперь ложись спиной ко мне, подставляй свои руки. Слышишь, спиной ко мне, подставляй руки…
Теперь они лежали спиной друг к другу, и Султанмурат нащупал веревки на руках друга. Командуя Анатаю, как лечь и как повернуться, нащупал узлы. Уговаривая Анатая потерпеть, перенести боль в руках, все-таки нашел, зацепил какую-то петлю, веревка ослабла. А там Анатай сам выдрал свои руки на свободу…
12
Конокрады уходили не спеша. Уходили то рысью, то полугалопом, в темноте не очень-то поскачешь, да и не было необходимости уносить ноги сломя голову. Сработано чисто. И от кого бежать – от мальцов? За сто верст вокруг ни души. А мальцы лежат связанные, сопят в две дырочки. Пусть благодарят судьбу, что еще так обошлись…
Они уводили с собой четырех коней. Рассчитали по паре на каждого. Больше не возьмешь. Дай бог этих проглотить, чтобы в горле не застряло… Путь предстоял далекий, по безлюдным местам. Дня три только до пригородов Ташкента. Да там еще. Только бы добраться. А там дело плевое. На Алайском базаре в Ташкенте мясо пойдет нарасхват по килограммам, по граммам, люди там торговые, умелые. Сплавят. То их забота. А за четырех отменных коней, мясо которых сейчас на вес золота, деньги как увезти? Вот задача, кроме смеха! Куда столько денег! Вот это хапанули! Быстрей бы уж. Все! Теперь ищи ветра в поле. Деньги будут – сгинуть нетрудно. Да и пора, давно пора уж ноги уносить отсюда, пока не накрыли. А накроют – крышка! Трибунал. Только хрен им ишачий! Деньги будут – жизнь будет! За Ташкентом сколько еще городов и земель…
Не зря говорят – судьба. Совсем доходили уже. Ну-ка побегай по горам в мороз и стужу, пока добудешь его, архара, а добудешь – мясо паршивое по этой поре: дикое, одни жилы. Не угрызешь. Да и патроны были уже на исходе. Долго не протянули бы. А тут кто бы мог подумать – как с неба свалились на Аксай эти мальцы с плугами. Сам бог послал! Есть он, есть наверху – каждому свое определил.
Брали с краю, не выбирали, лошадки все как на подбор, по два пальца жира на ребрах, таких сейчас во всем свете не сыщешь. Уваристое мясо будет – оближешься. Есть он, есть бог наверху, есть! Послал добычу, послал удачу!..
Они уходили не спеша. Незачем было вес лошадей терять. Такие лошадки мясникам на Алайском базаре и не снятся. Выкладывай деньги, жмоты, получай!..
Вот они, красавцы, все четыре, на длинных поводьях ременных, заранее заготовленных, рысят, пофыркивают, знали бы, куда их угоняют. Угон тоже продуман. Табуном не угонишь, разбегутся. Один держит поводья в руках, сам посередке в седле, а кони по бокам на длинных поводьях, два справа, два слева. А напарник сзади на рыжем коне, погоняет хлыстом, не дает задерживаться. Только так. Не спеша, но и не тихо. С умом, с умом требуется дело делать…
13
Чабдар оказался на месте. На Чабдара вскочил Султанмурат, выбежав из юрты, и, кружась на нем, успел прокричать:
– Анатай, скачи в аил! Не задерживайся! Скачи! Зови наших! А я придержу их! Я догоню их. Только ты быстрей! А ты, Эркинбек, будь здесь и ни на шаг никуда. Ясно? Скачи, Анатай, скачи!..
А сам унесся на Чабдаре в ту сторону, куда ушли конокрады, судя по топоту угона.
Вперед, Чабдар, брат мой Чабдар, вперед, догони их, догони! Я не упаду, я не расшибусь. Не бойся за меня. Вперед, Чабдар! Если погибнем, то вместе, только скачи быстрей, быстрей, я понимаю – темно. Страшно, и тебе страшно. И все равно вперед. Быстрей, быстрей! Где они? Что там мелькнуло впереди? Что-то там движется. Только бы не упустить. Вперед, Чабдар, вперед… Не упади, Чабдар, не упади…
14
– Погоня! – испуганно крикнул один из конокрадов, уловив приближающийся топот скачущего коня.
И они припустили, пошли галопом, потом вскачь. Теперь прохлаждаться было некогда. Теперь или пан, или пропал! Теперь бежать. Теперь уходить без оглядки.
Ведущий стянул поближе в кулаке поводья угоняемых коней, прилег к седлу. А напарник, нахлестывая сзади кнутом, погоняя что есть мочи, торопил. От топота множества бегущих копыт земля загудела. Ветер засвистел в ушах. Ночь стремительно летела навстречу черной, бескрайней, гремящей рекой.
– Стой! Не уйдете, сто-ой! – кричал им Султанмурат, все ближе и ближе настигая их кучу. Но его голос доносился лишь урывками в бешеном гуле скачки.
Чабдар! Великий конь Чабдар! Отцовский конь Чабдар! Как он шел! Точно бы понимал, что не может не догнать и не может, не имеет права упасть в этой страшной скачке по Аксаю среди ночи.
Султанмурат быстро поравнялся с конокрадами, пошел краем, им-то с лошадьми на поводу не так легко было уходить.
– Отдайте наших лошадей! Отдайте! Мы на них пашем! – кричал Султанмурат.
Напарник повернул на скаку, кинулся к нему зверем, хотел сшибить с коня. Но тот увильнул. Молодец Чабдар, молодец!
Уходя от преследующего конокрада, Султанмурат выскочил вперед, зашел с боку кучи и стал теснить, заворачивать ведущего с конями.
– Назад! Назад! – кричал он.
– Уйди, убью! – орал тот, разворачивая коней, но Султанмурат снова выходил вперед, снова теснил, мешал прямому ходу.
И так они шли. Напарник всякий раз отгонял его, а он выходил то с одной, то с другой стороны, встревал на пути, мешал угону.
А потом прогремел выстрел. Султанмурат не услышал его, увидел лишь яркую вспышку и успел поразиться освещенному на миг огромному пространству Аксая и черной куче лошадей и людей, дико скачущих мимо него…
А сам, падая с лошади, отлетел в сторону, покатился кубарем, обжигаясь о каменистую твердь, и, вскочив на ноги, сразу понял, что конь под ним не просто споткнулся. Лошадь билась на боку, колотясь головой о землю, хрипела и отчаянно сучила ногами, точно бы все еще порывалась бежать…
Истошно крича от боли и ярости, сам не ведая того, что делает, Султанмурат кинулся вслед за конокрадами:
– Сто-ой! Не уйдете! Догоню! Вы убили Чабдара! Отцовского коня Чабдара!
Он бежал не помня себя, он бежал в ярости и негодовании, он бежал и бежал за ними, словно бы мог догнать их, остановить и вернуть назад. Угон уходил, стучали копыта во тьме, угон уходил, отрываясь все дальше, а он не мог и не желал примириться – пытался догнать. Он бежал, казалось ему, охваченный пламенем, все тело его саднило, особенно лицо и руки, ободранные в кровь. Чем быстрей и дольше бежал он, тем нестерпимей горели лицо и руки…
Потом он упал, покатился по земле, захлебываясь, превозмогая удушье. Он не знал, куда деть лицо и куда деть руки от невыносимой боли. Он корежился, вопил, стонал, ненавидя эту ночь, ненавидя этот яркий, возникающий всплесками огненный свет в глазах…
Он слышал, как постепенно удалялся, угасал топот угона. Все слабей и глуше вздрагивала земля, поглощая далекий бег копыт, и вскоре все стихло вокруг, замерло…
И тогда он встал, побрел назад, рыдая громко и горько. Никак и ничем не мог он утешить себя, и некому было утешить его в безлюдном ночном Аксае. Плача, вспомнил он, как обещал Аджимурату взять его с собой, когда отец вернется с войны. Нет, теперь уж им с Аджимуратом не придется скакать на станцию встречать отца с фронта на отцовском коне Чабдаре. И теперь не посеять им на Аксае столько хлеба, сколько требовалось. И не будет теперь того дня, торжественного и радостного, когда они вернутся с аксайских полей, волоча за собой в упряжках плуги, сияющие зеркальными, напаханными лемехами. И не выйдет она на улицу порадоваться, не увидит его въезд в аил и не восхитится им, не подивится ему… Сокрушались мечты. Оттого и плакал он…
15
Принюхиваясь на бегу и все явственней ухватывая по ветру запах свежей крови, волк бежал куцым скоком, все ближе выходя к тому месту, откуда доносился этот сильный, возбуждающий его дух. То был крупный, хотя и отощавший за зиму старый зверь с жесткой кабаньей холкой. Он перебился зиму – пока бродили на Аксае сайгаки, теперь они ушли с Аксая в Большие пески на расплод. Молодые волчьи стаи держались в горах, перехватывая ослабевших архаров на тропах, а он переживал самую тяжкую пору. Ждал появления сурков после зимней спячки. Со дня на день ждал, с часу на час. Вот-вот должны были сурки потянуться на солнце. То было бы спасением. Как долго лежали сурки в земле, в своих глубоких, недоступных норах! Как голодно и тоскливо было жить волку в эти дни на Аксае!
Волк бежал на манящий запах крови, испытывая закипающую глухую злобу, в опасении, как бы кто другой не завладел добычей… То была большая еда, то была конина. Запах пота и мяса дурманил, кружил голову! За всю свою жизнь раза три или четыре удавалось ему вместе со стаей загонять лошадей.
Волк бежал, роняя слюну из полураскрытой пасти, волк бежал, испытывая острые схватки в пустом желудке. Волк бежал белесой скачущей тенью в сереющей мгле предрассветной ночи.
Как ни хотелось волку с налета кинуться на добычу, инстинкт сработал – переборол себя, сделал круг поодаль. И тут он оцепенел – человек оказался возле убитой лошади. Человек привстал испуганно.
– Эй! – вскинулся Султанмурат и притопнул ногой.
Волк отпрянул, неохотно потрусил в сторону, туго зажав хвост между ногами. Надо было уходить. Здесь человек. Человек мешал завладеть добычей. Отбежав немного, волк резко остановился и, глухо рыча, обернулся к человеку. Сизым злобным всполохом вспыхнули волчьи глаза. Пригнув голову, скалясь и свирепея, волк начал медленно приближаться.
Султанмурат приостановил его угрожающим криком и успел сдернуть с головы Чабдара уздечку. Он быстро скрутил уздечку жгутом, намотав вокруг нее поводья, а тяжелые железные удила выпростал наружу. Теперь удила были его оружием.
Волк подошел еще ближе, прижался к земле, вздыбив загривок, и замер перед прыжком, как сжатая пружина.
Султанмурат первый раз в жизни отчетливо услышал свое сердце – оно обозначилось в груди напряженно сжимающимся комом…
Султанмурат стоял наготове, пригнувшись, с уздечкой наотмашь…
С. Байтик. Май 1975 г.
Прощай, Гульсары!
1
На старой телеге ехал старый человек. Буланый иноходец Гульсары тоже был старым конем, очень старым…
Дорога взбиралась на плато томительно долго. Среди серых, пустынных холмов зимой вечно крутит поземка, летом жара стоит, как в аду.
Для Танабая этот подъем всегда был наказанием. Не любил он медленной езды, ну просто не переносил. В молодости, когда довольно часто приходилось ездить в райцентр, каждый раз на обратном пути он пускал коня в гору галопом. Не жалел его, нахлестывая камчой. Если же ехал с попутчиками на мажаре, да притом запряженной быком, спрыгивал на ходу, молча брал свою одежду и уходил пешком. Шел яростно, как в атаку, и останавливался, только поднявшись на плато. Там, хватая ртом воздух, ждал ползущую внизу колымагу. От быстрой ходьбы сердце бешено колотилось и кололо в груди. Но хоть и так, а все же лучше, чем тащиться на быках.
Покойный Чоро любил, бывало, подтрунить над чудачеством друга. Он говорил:
– Хочешь знать, Танабай, почему тебе не везет? От нетерпения. Ей-богу. Все тебе скорее да скорее. Революцию мировую подавай немедленно! Да что революция, обыкновенная дорога, подъем из Александровки, и тот тебе невмоготу. Все люди как люди, едут спокойно, а ты соскочишь – и бегом в гору прешь, точно за тобой волки гонятся. А что выигрываешь? Ничего. Все равно сидишь там наверху, дожидаешься других. И в мировую революцию один не вскочишь, учти, будешь ждать, пока все подтянутся.
Но это было давно, очень давно.
На этот раз Танабай и не заметил, как миновал Александровский подъем. Привык, выходит, к старости. Ехал ни скоро, ни тихо. Ехал, как ехалось. Теперь он всегда отправлялся в путь один. Тех, кто ватагой ходил с ним когда-то по этой шумной дороге, уже не сыщешь. Кто погиб на войне, кто умер, кто сидит дома, век свой доживает. А молодежь ездит на машинах. На жалкой кляче тащиться с ним не будет.
Колеса стучали по старой дороге. Долго еще стучать им. Впереди лежала степь, а там, за каналом, надо было еще ехать предгорьем.
Он уже давно стал замечать, что конь вроде сдает, слабеет. Но, занятый своими нелегкими мыслями, не очень беспокоился. Разве уж такая беда, что конь притомился в дороге? Не такое бывало. Довезет, дотянет…
Да и откуда он мог знать, что его старый иноходец Гульсары, прозванный так за свою необыкновенную светло-желтую масть[18], последний раз в своей жизни преодолел Александровский подъем и сейчас вез его последние версты? Откуда ему было знать, что голова коня кружилась, как от дурмана, что в его помутневшем взоре земля плыла цветными кругами, кренилась с боку на бок, задевая небо то одним, то другим краем, что дорога перед Гульсары временами вдруг обрывалась в темную пустоту и коню казалось, что впереди, куда он держит путь и где должны быть горы, плывет красноватый туман или дым?
Глухо и затяжно ныло давно надсаженное сердце коня, дышать в хомуте становилось все трудней. Резала, сбившись набок, шлея, а с левой стороны под хомутом постоянно кололо что-то острое. Может, это была колючка или кончик гвоздя, вылезшего из войлочной подбивки хомута. Открывшаяся ранка на старой мозолистой намятине плеча нестерпимо жгла и зудела. И ноги все больше тяжелели, точно он шел по мокрому вспаханному полю.
Но старый конь все же шел, пересиливая себя, а старый Танабай, изредка понукая его, подергивал вожжами и все думал свою думу. Ему было о чем думать. Колеса стучали по старой дороге. Гульсары пока еще шел все той же привычной иноходью, все тем же особым ритмом, тротом, с которого он ни разу не сбивался с тех пор, как впервые встал на ноги и неуверенно затрусил по лугу за своей матерью – большой гривастой кобылой.
Гульсары был иноходцем от рождения, и за его знаменитую иноходь выпало ему в жизни много хороших и много горьких дней. Раньше никому бы не пришло в голову запрячь его в телегу, это было бы кощунством. Но, как говорится, если беда свалится на коня – конь будет взнузданным воду пить, если беда свалится на молодца – молодец и вброд пойдет в сапогах.
Все это было, осталось далеко позади. Теперь иноходец шел к своему последнему финишу из последних сил. Никогда так медленно не шел он к финишу и никогда так быстро не приближался к нему. Последняя черта все время была от него на расстоянии одного шага.
Колеса стучали по старой дороге.
Ощущение неустойчивости земной тверди под копытами смутно всколыхнуло в угасшей памяти коня те давние летние дни, тот мокрый зыбкий луг в горах, тот удивительный и невероятный мир, в котором солнце ржало и скакало по горам, а он, глупыш, пускался вдогонку за солнцем через луг, через речку, через кусты, пока косячный жеребец со злобно прижатыми ушами не догонял его и не заворачивал назад. Тогда, в те давние дни, табуны, казалось, ходили вверх ногами, как в глубине озера, а его мать – большая гривастая кобыла – превращалась в теплое молочное облако. Он любил то мгновение, когда мать вдруг превращалась в ласково фыркающее облако. Соски ее становились тугими и сладкими, молоко пенилось на губах, и он захлебывался от обилия его и сладости. Он любил стоять так, уткнувшись в живот своей большой гривастой матери. Какое это было упоительное, пьяное молоко! Весь мир – солнце, земля, мать – умещался в глотке молока. И, уже насытившись, можно было сделать еще глоток, потом еще и еще…
Увы, это продолжалось недолго, совсем недолго. Скоро все изменилось. Солнце в небе перестало ржать и скакать по горам, оно всходило строго на востоке и неуклонно шло на запад, табуны перестали ходить вверх ногами, под их копытами истоптанный луг чавкал и темнел, а камни на отмели цокали и лопались. Большая гривастая кобыла оказалась строгой матерью, она больно кусала его за холку, когда он слишком надоедал. Молока уже не хватало. Надо было есть траву. Начиналась та жизнь, которая тянулась долгие годы и которой теперь подходил конец.
За всю свою долгую жизнь иноходец никогда не возвращался в то ушедшее навсегда лето. Он ходил под седлом, махал ногами по разным дорогам, под разными седоками, а дорогам все не было конца. И только теперь, когда солнце вновь стронулось с места, а земля закачалась под ногами, когда в глазах его зарябило и замутилось, ему снова почудилось то лето, которое так долго не возвращалось. Те горы, тот мокрый луг, те табуны, та большая гривастая кобыла стояли сейчас перед его глазами в странном зыбком мерцании. И, весь напрягаясь, вытягиваясь, он отчаянно заработал ногами, чтобы, вырвавшись из-под дуги, выскочив из хомута и оглобель, вступить в этот прошлый, вдруг снова открывшийся ему мир. Но обманчивое видение всякий раз отодвигалось, и это было мучительно. Мать манила его, как в детстве, тихим ржанием, табуны проносились, как в детстве, задевая его боками и хвостами, а у него не хватало сил преодолеть мерцающую мглу метели – она разыгрывалась вокруг все сильнее, она секла его жесткими хвостами, она забивала ему снегом глаза и ноздри, в жарком поту он содрогался от холода, и тот недосягаемый мир бесшумно утопал, исчезал в метельных вихрях. Вот уже исчезли горы, луг, река, убежали табуны, и лишь смутным пятном проступала впереди тень матери – большой гривастой кобылы. Она не хотела его оставлять. Она звала его. Он заржал изо всех сил, рыдая, но голоса своего не услышал. И все исчезло, исчезла и метель. Колеса перестали стучать. Перестала щемить ранка под хомутом.
Иноходец остановился, зашатался из стороны в сторону. Глазам было больно смотреть. Странный бесконечный гул стоял в голове.
Танабай бросил вожжи на передок, неловко слез с телеги, расправил затекшие ноги и хмуро подошел к коню.
– Эх, будь ты неладен! – тихо выругался он, глядя на иноходца.
Тот стоял, вывалив из хомута огромную голову на длинной, исхудавшей шее. Ребра иноходца туго ходили вверх и вниз, вздымая худые, дряблые бока под маклаками. Некогда светло-желтый, золотой, он был теперь бурым от пота и грязи. Сизые потеки пота мыльными полосами спускались с костистого крестца на брюшину, на ноги, на копыта.
– Вроде бы я не гнал, – пробормотал Танабай и засуетился. Ослабил подпругу, развязал супонь, разнуздал коня. Удила были в горячей липкой слюне. Рукавом шубы отер иноходцу морду и шею. Потом кинулся к телеге – собрать остатки сена, наскреб пол-охапки, бросил к ногам коня. Но тот не притронулся к корму, его била мелкая дрожь.
Танабай поднес иноходцу клок сена:
– На, бери, ешь, ну что же ты!
Губы иноходца шевельнулись, однако не смогли захватить сена. Танабай заглянул ему в глаза и помрачнел. В глубоко запавших, полуприкрытых облезлыми складками век глазах лошади он ничего не увидел. Они померкли и были пусты, как окна заброшенного дома.
Танабай растерянно огляделся по сторонам: вдали – горы, окрест – голая степь, и на дороге никого не видно. В эту пору года проезжие здесь – редкость.
Старый конь и старый человек стояли одни на пустынной дороге.
Был конец февраля. Снег уже сошел с равнин, только по оврагам да камышовым буеракам оставались еще в затаенных логовах зимы волчьи хребтины последних сугробов. Ветер доносил слабый запах лежалого снега, и земля была еще смерзшаяся, сизая, не ожившая. Бесприютна и уныла каменная степь в конце зимы. От одного ее вида у Танабая захолодело внутри.
Вскинув всклокоченную сивую бороду, он долго смотрел из-под пожухлого рукава шубы на запад. Солнце зависало средь облаков над краем земли. И уже сочился по горизонту неяркий, дымный закат. Непогоды ничто не предвещало, а все же было холодно и жутковато.
«Знал бы, не выезжал лучше, – сокрушался Танабай. – А теперь ни туда ни сюда, стой средь чистого поля. И коня понапрасну загублю».
Да, пожалуй, ему надо было выехать завтра утром. Днем, случись что в пути, все-таки может подвернуться какой-нибудь проезжий. А он выехал уже за полдень. Разве же можно так в эту-то пору?
Танабай поднялся на пригорок, чтобы взглянуть, не покажется ли вдали попутная или встречная машина. Но ни в той, ни в другой стороне ничего не было видно и слышно. Он побрел назад к телеге.
«Зря я выехал», – опять подумал Танабай, уже в который раз упрекая себя за вечную спешку. Он злился от досады и на самого себя, и на все то, что вынудило его поторопиться с отъездом из дома сына. Конечно, надо было переночевать и дать коню передохнуть. А он?..
Танабай сердито махнул рукой. «Нет, все равно не остался бы. Пешком ушел бы! – оправдывался он перед собой. – Разве же можно так говорить с отцом мужа? Какой я ни есть, а все же отец. Ишь ты, зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да в табунщиках проходил, к старости выгнали… Сын тоже хорош. Молчит, глаза боится поднять. Скажет она ему: откажись от отца – и откажется. Тряпка, а тоже в начальство лезет. Эх, что там говорить? Не тот народ пошел, не тот».
Танабаю стало жарко, он расстегнул ворот рубашки и, трудно дыша, начал ходить вокруг телеги, забыв про коня, про дорогу, про наступающую ночь. И никак не мог успокоиться. Там, в доме сына, он сдержался, посчитал ниже своего достоинства пререкаться с невесткой. А сейчас вдруг вскипел, сейчас бы он все, о чем горько думал по дороге, высказал ей: «Не ты принимала меня в партию, и не ты выгоняла. Откуда тебе знать, невестка, что тогда было? Теперь обо всем судить легко. Теперь всяк грамотный, почет и уважение тебе. А с нас спрашивали, да как еще спрашивали! За отца, за мать, за друга и недруга, за себя, за собаку соседскую, за все на свете были в ответе. А что исключили, так это ты не тронь! Это моя печаль, невестушка. Это ты не тронь!»
– Это ты не тронь! – продолжал повторять он вслух, топчась у телеги. – Это ты не тронь! – твердил он все одно и то же. И самое обидное, унизительное было в том, что, кроме этого «не тронь», вроде бы и сказать было нечего.
Он все ходил и ходил вокруг телеги, пока не вспомнил, что надо что-то делать, – не оставаться же здесь на всю ночь.
Гульсары стоял в упряжи все так же неподвижно, ко всему безучастный, сгорбившись, подобрав ноги в кучу, – казалось, одеревенел, умер.
– Ты что? – Танабай подскочил к нему и услышал тихий протяжный стон коня. – Задремал? Худо тебе, старина? Плохо? – Он торопливо пощупал холодные уши иноходца, сунул руку под гриву. Там тоже было холодно и влажно. Но больше всего его испугало то, что он не ощутил привычной тяжести гривы. «Совсем постарел, иссеклась грива, легкая, как пушок. Все мы стареем, всем нам один конец», – с горечью подумал он. И встал в нерешительности, не зная, что делать. Если бросить коня с телегой и уйти пешком, то к полуночи он мог бы добраться до дома, до своей сторожки в ущелье. Жил он там на базе с женой, по соседству со смотрителем водхоза, обитавшим в полутора километрах выше по речке. Летом Танабай присматривал за сенокосом, зимой за скирдами, чтобы чабаны не растащили и не потравили сено раньше срока.
Минувшей осенью как-то приехал он в контору по делам, а новый бригадир, молодой агроном из приезжих, и говорит ему:
– Идите, аксакал, на конюшню, мы там коня вам другого подобрали. Староват, правда, но для вашей работы сойдет.
– Это какого же? – насторожился Танабай. – Опять клячу какую-нибудь?
– Там вам покажут. Буланый такой. Вы должны знать, говорят, ездили на нем когда-то.
Танабай отправился на конюшню, и, когда увидел во дворе иноходца, сердце у него больно сжалось. «Вот и свиделись, выходит, снова», – сказал он про себя старому, заезженному вконец коню. А отказаться не хватило духу. Увел коня с собой.
Дома жена едва узнала иноходца.
– Танабай, неужели тот Гульсары? – удивилась она.
– Он, он самый, что ж тут такого… – пробурчал Танабай, стараясь не смотреть жене в глаза.
Им не стоило особенно вдаваться в воспоминания, связанные с иноходцем. Был за Танабаем грех по молодости, был. И чтобы избежать нежелательного оборота разговора, он грубовато сказал ей:
– Ну, что стоишь, согрей мне поесть. Голодный я, как собака.
– Да вот смотрю и думаю, – ответила она, – что значит старость. Не скажи ты мне, что это тот самый Гульсары, и не признала бы.
– Что ж тут удивляться? Думаешь, мы с тобой лучше выглядим! Всему свое время.
– Вот и я ж об этом. – Она задумчиво покачала головой и, добродушно посмеиваясь, сказала: – Может, ты опять по ночам будешь разъезжать на своем иноходце? Разрешу.
– Куда там, – неловко отмахнулся он и повернулся к жене спиной. На шутку бы шуткой ответить, а он от смущения полез под крышу сарая за сеном. Долго там возился. Думал, забыла она про то, выходит, нет.
Из трубы валил дым, жена грела на ужин остывший обед, а он все возился с сеном, пока она не крикнула из дверей:






