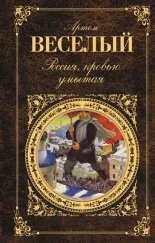Насвистывая в темноте Каген Лесли

Читать бесплатно другие книги:
«Рассказ о том, как мы с женой и сыном приехали жить в Ленинград и поселились в поселке Дибуны и зна...
«Казак Загинайло, дослужившийся за войну до чина подхорунжего, щелкал себя по щегольскому сапогу пле...
«…Володе сделалось немного легче оттого, что девушка не осадила его с глупой трескотней, а готова да...
«…Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, «остолбенело все на свете», и он транжирит свои «ло...
«…В это время через зал прошла и села на первый ряд Вдовина Матрена Ивановна, пенсионерка, бывшая за...
«…Лобастый отломал две войны – финскую и Отечественную. И, к примеру, вся финская кампания, когда я ...