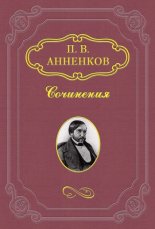Гений подземки (сборник) Васильев Владимир

– Он ходит ко мне уже второй год. Сегодня утром я заметил, что он подходил к полке с монастырскими книгами.
– И это все? – протянул я с сомнением.
– Он дотрагивался до книги. Я видел. Возможно, даже не в первый раз.
– И что ты хочешь от меня?
– Проследи за ним, – шепотом попросил Унсуе. – Я так больше не могу.
– Не можешь чего? – жестко спросил я. – Не можешь молчать, когда твои читатели идут на смерть?
Унсуе враз стал казаться даже не старым – дряхлым.
– Раньше, выходит, мог? – продолжал я. – А, книгочей? Что это с тобой вдруг случилось?
Я понимал, что поступаю жестоко. Но остановиться не мог.
Некоторое время мы просидели в звенящем молчании. Наконец я слегка оттаял.
– Сколько у нас времени? У нас… и у него?
– Не знаю, – все еще шепотом ответил Унсуе. – Думаю, с неделю.
– Где он живет?
– В студенческом приходе Санта-Розалины, невдалеке от собора. Знаешь, где это?
– Знаю, – вздохнул я. – Как, говоришь, его зовут? Родриго Эчеверья?
– Рикардо. Рикардо Эчеверья, – поправил меня книгочей. Впрочем, я прекрасно запомнил имя и с первого раза. Я ведь сыскарь все-таки, а не выживший из ума нищий с Муэрта Фолла.
– Ладно, – отрезал я. – Я займусь этим. Постарайся никуда не отлучаться из своей норы, ты можешь мне понадобиться в любое время, – я встал и бросил на стол медную монетку.
– И вот еще что, – добавил я несколько мягче. – Прости, что я был с тобой так резок, Хавьер Унсуе…
Мне показалось, что от меня испуганно отшатнулось что-то огромное и темное. Словно заметило во мне нечто губительное для себя.
М-да. И это называется, я никаких странностей около себя не замечаю.
За неделю я изучил жизнь Рикардо Эчеверья буквально по часам. Чем занимается, куда и когда ходит, когда спит, когда ест – словом, все-все-все. Я не мог не заметить, что ведет он себя не совсем обычно – часто замирает на улицах, словно в задумчивости, а потом в друг начинает недоуменно вертеть головой, словно не может понять, где находится и как здесь очутился. Знакомые его тоже отметили, что Рикардо в последнее время стал рассеян и часто не замечает вопросов, с которыми к нему обращаются. Отец Гонсалио, который преподавал в Санта-Розалине философию, слово Господне и литературу все это подтвердил и высказал предположение, что юноша просто устал.
Мне так не казалось. Друзей у Рикардо было немного, и, слава богу, никто из них не знал о природе моих истинных занятий и интересов. Я что-то сочинил им о причинах, по которым якобы разыскиваю Рикардо, и едва успел отделаться от них и затеряться в толпе, когда сам Рикардо показался вдали на улице. Он брел, повесив голову, в сторону студенческого прихода; брел с северо-востока. Библиотека Хавьера Унсуе находится именно там.
Я внимательно наблюдал за ним из-за палатки торговца свечами.
Вот на ком печать безысходности видна была с первого взгляда – такой вид бывает у неизлечимо больных.
Я впервые разглядывал Рикардо Эчеверья так близко.
Он миновал ворота прихода, рассеянно кивнул старику-привратнику, и, прижимая локтем небольшой сверток, направился ко входу в камчой.
Почти сразу же я заметил и Хавьера Унсуе. Неуклюже пытаясь казаться незамеченным, он шел следом за Рикардо; при этом старый книгочей смешно вытягивал шею и старательно вертел головой. Я поспешил ему навстречу.
Меня он не заметил – я подождал, пока Унсуе пройдет мимо и легонько дернул его за рукав.
Книгочей вздрогнул и обернулся. Затем облегченно выдохнул.
– Это ты, Веласкес! Как вовремя я на тебя наткнулся!
Я не стал уточнять – кто на кого наткнулся в действительности.
– Эчеверья взял книгу! «Око бездны» сейчас у него! Подумать только, я в первый раз заметил пропажу книги раньше, чем пропажу своего читателя…
Унсуе так исступленно и так громко шептал, что прохожие стали оборачиваться, я потянул его с площади прочь, в тихое место под оливами напротив собора.
– Думаешь, это знак, что он собирается направиться в Эстебан Бланкес? – спросил я, когда уверился, что посторонние уши нас не услышат.
Унсуе взглянул на меня, как на умалишенного.
– Конечно! Зачем еще ему книга?
Я пожал плечами:
– По-моему, в монастырь он мог бы и без книги отправиться. Что-то тут не так…
Книгочей сглотнул; кадык под дряблой кожей на горле дернулся, словно пытался вырваться на свободу.
– Не знаю. Все, кто приходит в Эстебан Бланкес без книги, ничего там не находят. Только пыль и запустение. Думаю, книга позволяет заглянуть туда, куда остальным смертным путь заказан.
– Заглянуть – и остаться там навеки? – саркастически хмыкнул я.
– Как знать, – задумчиво сказал Унсуе. – Возможно, заглянув, и мы не захотели бы вернуться в Картахену.
Я помолчал.
– Ладно, – вздохнул я. – Пойду его отговаривать…
Книгочей вцепился мне в руку:
– Нет!
Я удивленно замер.
– Почему – нет? Он же пропадет! Пропадет, как и все остальные!
Хавьер Унсуе продолжал держать мой локоть с неожиданной для человека его возраста силой.
– За ним нужно проследить, Веласкес! Пойти в монастырь следом за ним и самим все увидеть. И понять.
Я задумался. В самом деле. Ну, отговорю я сейчас этого одержимого студента, хотя что-то заставляло меня усомниться в успешности подобной попытки. Найдутся ведь другие. Потом. Кто знает, в чьи руки попадет эта книга, когда старый Унсуе умрет?
Действительно, следует разобраться во всем. Я не верил, что книга открывает путь в некий аналог христианского рая – тогда она не называлась бы «Око бездны» и не внушала бы трепет. И никто не сказал бы мне, что зло глядит из бездны – даже во сне не сказал бы. Это злая книга. Иначе бы из-за нее не пропадали люди. Возможно, подсмотрев за Рикардо Эчеверья, я сумею понять, как зло опутывает людей и заманивает их в монастырь. И научусь разбивать его оковы.
И тут же взыграла во мне обычная людская мнительность.
Эй, Мануэль Мартин Веласкес! Очнись! Опомнись! Какое зло? Какие оковы? Не выдумывай ерунды, и не бери на себя роль того, кто судит – что есть зло, что есть добро. Не твое это дело, ты ищи жуликов и неверных жен, да дуй свое пиво в грязных тавернах. Бороться со злом – удел героев.
Да и как его представить и овеществить – зло? Что ты ожидаешь встретить в монастыре? Что или кого? Дьявола с колодой карт? Свору адовых псов, щелкающих зубами? Ты хоть знаешь – что такое настоящее зло?
Нет.
Тогда чего суешься?
Но ведь я поклялся.
Это не имеет значения.
А что тогда, черт побери, имеет значение под этим небом? Что? Серебряные монеты? Так я их уже получил. За не найденного мною Фернандо Камараса. И за не найденного мною Сантьяго Торреса. Если изменять собственным клятвам – как себя уважать впоследствии? И как жить, себя не уважая?
– Идет! – потормошил меня Хавьер Унсуе. – Дева Стефания, он идет!
Я взглянул, стараясь подавить злость на самого себя. Рикардо Эчеверья с тем же свертком под мышкой решительно шагал через площадь прочь от ворот прихода. Шагал быстро и целеустремленно, направляясь вдоль по улице, ведущей к портовому спуску. Оттуда как раз удобно свернуть в сторону дальнего предместья, где расположен монастырь Эстебан Бланкес.
Все. Рассуждать нет времени. Пора действовать. Следить так следить.
И я двинулся следом за студентом. Хавьер Унсуе остался стоять под оливами, хотя я полагал, что он отправится за мной.
По-моему, он испугался.
Я умею идти за человеком по улицам Картахены и оставаться при этом незаметным. Не спрашивайте как – словами этого не объяснишь, да и не люблю я выдавать свои секреты. Но за Рикардо Эчеверья смог бы прокрасться и полный дилетант: студент шел, не оборачиваясь и совершенно не глядя по сторонам. Только иногда зыркал под ноги – но лениво, и даже как-то нехотя – и снова, казалось, засыпал на ходу. Странно, но быстрая ходьба вовсе не развеивала впечатление о том, что этот незадачливый парень со свертком под мышкой на ходу дремлет. Наоборот, даже непонятным образом усиливала. Возможно, оттого, что у него двигались только ноги, корпус же, и голова, и прижатые к телу руки оставались в неподвижности, как у манекена в мастерской моей покойной мамаши.
Мы миновали поворот к порту; как я и ожидал, Эчеверья свернул направо и углубился в кварталы Тортоза Бенито – нескончаемые кривые улочки, двух– и трехэтажные домишки, кое-как слепленные из известняка, глухие заборы и пыльные ветви персиков и олив над заборами. За этими неприступными оградами то и дело взлаивали цепные псы – более удачливые родичи тех, что бродили вечно полуголодными по городской свалке около Эстебан Бланкес. Я иногда обгонял Эчеверью, торопливо минуя многочисленные боковые улочки, дожидался его и снова обгонял. Я кружил вокруг него, словно хищник вокруг ничего не подозревающей добычи.
И все время вспоминал, что пока еще могу его остановить.
К монастырю Эчеверья вышел даже раньше, чем я ожидал. Неутомимый ходок этот студент, а ведь сразу и не скажешь. Я устроился за высокой и наименее смердящей кучей – по-моему, вывезенным строительным мусором – и приготовился наблюдать.
Рикардо Эчеверья вышел из окраинного переулка и стал торопливо спускаться в лощину по извилистой тропе.
Солнце лишь мало-помалу клонилось к мусорным кучам на дальнем краю лощины. Только бы этот студент не стал выжидать до ночи, подумал я с неясным напряжением. Торчать здесь в темноте? Нет уж, увольте. Не стану я находиться рядом с Эстебан Бланкес ночью и парню этому не позволю. Возьму за шкирку и отведу в приход, к таким же, как он, обормотам с ветром в голове.
Откуда появились собаки (или волкособаки) я заметить не успел. Просто несколько мусорных куч у тропинки вдруг оказались сплошь под лапами этих тварей. Их было много, десятки, и все они стояли вдоль тропы и молча глядели на Рикардо Эчеверью. Словно почетный караул на торжественном выходе короля в Эскуриале.
Впервые за последние час или два Эчеверья очнулся от своего непонятного оцепенения. Он завертел головой, оглядывая собачий караул, и крепче прижал к себе сверток.
Собаки молчали. Ни рыка, ни лая – могильное и оттого кажущееся зловещим молчание.
Противный и такой знакомый холодок прогулялся по моей спине – впервые за сегодня.
Эчеверья, как мне показалось, на дрожащих ногах шел мимо собак, и они тянулись к нему влажными носами, не издавая ни единого звука. Это было до жути неправильно, неестественно, невозможно – молчаливая стая. Холод, бездонный холод терзал мое тело.
Дыхание бездны.
Эчеверья скрылся за воротами. Собаки внутрь даже не пытались сунуться, покружили у щели и помалу потрусили куда-то в сторону.
Я проворно вскочил и тоже поспешил к воротам. Стая тотчас замерла, повернув головы в мою сторону, и мне вдруг показалось, что это не много существ, а одно – многоголовое и чужое.
Мороз стал злее, но не смог поколебать мою решимость.
Мануэль Мартин Веласкес не отступает от собственных обещаний… По крайней мере, пытается в это верить.
Клочья потревоженной паутины шевелились на краях створок. Я разглядел впереди спину Рикардо Эчеверьи – студент входил в храм. Меня он не замечал; по сторонам не глядел и ни разу за весь путь от Санта-Розалины не оглянулся.
Мягко и бесшумно я поспешил за ним.
У входа я прислушался – шаги студента раздавались внутри, но еле-еле. Мне казалось, что они должны были звучать громче.
Я заглянул – Эчеверья как раз приближался к лестнице на чердак.
Шаг. Еще шаг. И еще.
Вокруг было тихо и пусто, но это только сильней било по нервам и подпускало холоду.
И вдруг, когда Эчеверья поднялся на пару ступенек к чердаку, а затем медленно-медленно развернул свой сверток и, словно завороженный колдовским сном, опустил книгу на камень лестницы, я ощутил: что-то мгновенно изменилось в монастыре.
Точнее в храме.
Еще миг назад там, наверху, было пусто и пыльно.
Теперь – нет. Там появилось что-то. Точнее, не совсем так. Там исчезло все, что являлось просто чердаком над храмом Эстебан Бланкес. Теперь там возникло какое-то другое место, и в этом месте обитало нечто.
Не могу объяснить лучше.
Рикардо Эчеверья, по-прежнему сонный и покорный чужой воле, поднимался по ступеням. Мне мучительно захотелось окликнуть его, остановить, задержать, спасти. Я еще мог это сделать – лестница была достаточно длинная.
Но я промолчал.
И студент беспрепятственно поднялся на самый верх и ступил туда, где раньше был просто чердак, а теперь возникло то самое чужое место.
Не могу сказать – как долго я торчал у храмовых врат, пригвожденный к полу. Наверху было тихо.
А потом Рикардо Эчеверья закричал. Это не был вопль ужаса или испуга. Это был глас обреченности.
Я сам не заметил, как взлетел по лестнице на самый верх. Помню, я очень удивлялся, что сапоги не скользят, словно по льду. Говорят, что лед скользкий.
Все-таки это оставалось похожим на обыкновенный пыльный чердак, но только необъяснимым образом увеличившийся в сотни раз. Зыбкий свет сочился откуда-то сверху, был он слабым и неверным и скорее скрадывал, чем освещал.
Рикардо Эчеверья стоял на коленях чуть впереди меня, метрах в двадцати, и к нему по стылым камням ползло нечто. Нечто бесформенное, похожее на мешок или бурдюк. Оно было таким чужим, что даже не вызывало обычного страха. Оно само было страхом.
Злом из бездны.
Всхлип – всхлип, не крик – примерз у меня к гортани. Я окаменел. Стал таким же камнем, как свод храма, пол чердака. Как монастырские стены. Но я мог видеть, в отличие от настоящего камня.
Когда оно приблизилось к студенту, снаружи еле слышно взвыли собаки. Студент упал – оно стало наползать на него, словно чудовищная, безликая и бесчувственная амеба. И я буквально всем естеством ощутил, что студент исчезает, растворяется в окружающем, теряет сущность. Расстается с душой. Руки его безвольно дергались – слабо-слабо. Скребли камень.
Я не мог представить, что он чувствует. Но я точно знал – Рикардо Эчеверья страдает. Страдает так, что смертному вообразить это невозможно. А потом это бесформенное вдруг отрастило две словно бы руки, могучих и длинных, и стало мять Рикардо Эчеверья, будто пластилиновую куклу. Лепить из его плоти каменную статую. Не знаю, почему каменную – возможно, потому, что в только что живом человеке не осталось ни капли тепла. Потому и пришло мне в голову такое сравнение.
Несколько выверенных движений – и кукла отброшена в сторону; она, нелепо разведя руки в стороны и изогнувшись, как от непереносимой боли, прыгает по полу и неожиданно встает на ноги. И застывает – это более не человек, это просто статуя, имя которой Боль и Страдание.
Отныне и навсегда.
Я откуда-то точно знал это – навсегда Боль и навсегда Страдание.
А секундой позже я заметил еще кое-что.
Эта статуя не была единственной на внезапно разросшемся чердаке храма Эстебан Бланкес. Их были сотни. А возможно, и тысячи – злу всегда хватает времени. Они стояли, как лес, как застывшая толпа, каждая в своей позе, но все носили одно и то же имя.
Боль и Страдание навсегда.
А потом зло взглянуло на меня, этот взгляд оказался холоднее, чем самый первый сон о бездне.
Я не помню, как оказался снаружи. И понятия не имею, почему бездна меня отпустила, а не превратила в одну из статуэток, замороженных и выпитых до донышка на самом краю вечности. Я валялся меж двух мусорных куч, прижимая к груди проклятую книгу, а мой сапог осторожно обнюхивала тощая черная собака.
Одежда была липкой – снаружи от грязи, изнутри от пота. Руки с книгой тряслись, несмотря на то, что я прижимал их к телу. Небо полнилось звездами, чуть в стороне от Картахены висела едва выщербленная луна, заливая зыбким призрачным светом необъятный пустырь и монастырские стены, похожие на клок темноты, упавший с густо-фиолетового неба.
Эстебан Бланкес. Средоточие зла. Которое всегда возвращается, потому что мир полон таких людей, как ты, Мануэль Мартин Веласкес. Который вместо того, чтобы попытаться задержать одурманенного Рикардо Эчеверью, сумел лишь стать свидетелем его гибели. Даже нет, не гибели – гибель это просто шаг за край, в черноту.
Я вдруг остро понял, что такое рай. Не кущи и не пение ангелов, вовсе нет. Рай – это благо черноты, это шанс не превратиться в статую по имени Боль и Страдание, обреченную на вечность подле зла, а возможность просто исчезнуть во мраке.
Ты не дал этого шанса студенту, Мануэль Мартин Веласкес. И покуда существуют такие, как ты, зло будет возвращаться.
Осознание этой простой истины отозвалось во мне судорожным всхлипом. И одновременно пришло знание. Не обращая внимания на близость собаки, я сел и раскрыл книгу. Сразу на нужной странице.
Ты не можешь прогнать зло. Но отогнать, отогнать на долгое время – можешь.
За жизнь всегда платят жизнью, Мануэль Мартин Веласкес. За страдание – страданием. За предательство – искуплением. Но плата никогда не бывает слишком высокой.
Отгони зло своим именем – отгони как можно на более долгий срок. Чем тверже останется твой дух во время короткого пути к монастырскому храму и крутой лестнице, тем дольше книга будет дремать на полке какого-нибудь книгочея. Пусть ноги слабеют и оскальзываются на мусоре, зато у тебя достанет сил ни разу не оглянуться и не замедлить шаг.
И пусть безмолвный собачий караул будет тому свидетелем – ты ни разу не оглянешься на этом пути.
Вскоре после рассвета через пустырь-свалку проковыляли два человека. Старый книгочей Хавьер Унсуе и нищий, которого звали Аугустин Муньос. Они направлялись к монастырю.
– Что-то собак не видно, – озабоченно пробормотал книгочей. – Ты же говорил, что тут пропасть собак!
– Не видно – и к лучшему, клянусь девой Стефанией, – беспечно ответил Муньос, при каждом шаге вдавливая в мусор пятку отполированного сотнями рук посоха – обычной деревянной палки. – Никогда мне эти твари не нравились!
Аугустин Муньос предавался мечтам. О том, как он сейчас вынесет из этого странного, но ничуть не опасного места книгу, отдаст ее простофиле-книгочею, получит несколько монеток… А у «Карменситы», где очень дешевое пиво, уже с нетерпением поджидают приятели по Муэрта Фолла…
Наконец виляющая тропинка привела их к обветшавшим воротам.
– Никого! – с отчетливым удовлетворением объявил Аугустин Муньос. – Я быстро! Да не трясись ты, я тут много раз бывал.
Книгочей неуверенно кивнул. Он до последней минуты надеялся, что по дороге встретит Веласкеса и Эчеверью. Он и сейчас еще продолжал надеяться.
Муньос скользнул в щель между створками и, постукивая посохом о вымощенное камнями монастырское подворье, поковылял ко входу в храм. Вход почему-то напомнил Хавьеру Унсуе ненасытную пасть, Врата Ругиана из книги Айтора Вилларойя «Предел невозможного».
Книгочей вздрогнул от собственных мыслей. Слишком уж зловещим получилось сравнение. А потом он вдруг заметил: вид храма как-то неуловимо изменился. И старый камень поднимающихся к небу голов будто бы посветлел. И кресты вроде бы стали поблескивать на солнце.
Да и покрытые лишайником стены вдруг стали казаться чуть ли не празднично-нарядными.
Хавьер Унсуе медленно-медленно, по-стариковски подволакивая ноги, вошел на монастырское подворье. Ко входу в храм он не стал приближаться. Почему-то его потянуло на зады, за храм, к дальней из скитских башен.
Он шел долго, недоверчиво прислушиваясь к собственным ощущениям. Под ногами сухо похрустывала мелкая каменная крошка.
За храмом Хавьер Унсуе обернулся и еще раз поглядел на изменившееся сердце монастыря Эстебан Бланкес. На храм в центре подворья.
И вдруг понял, что изменилось.
Голов у храма теперь было не семь, а восемь. Маленькая, всего по пояс, башенка из кремового камня возносила на уровень человеческой груди такой же маленький купол, увенчанный алонсовским крестом. Отчего-то Хавьеру Унсуе подумалось, что она очень похожа на молодой древесный побег, который со временем вырастет и потемнеет.
Но эта мысль мелькнула и исчезла, едва старый книгочей увидел под маленьким куполом ослепительно белую надпись – еще ослепительно белую, не успевшую потемнеть от времени, как на других, уже выросших головах храма Эстебан Бланкес.
Три слова. Имя.
Мануэль Мартин Веласкес.
– Эй, книгочей! – закричал от входа в храм Аугустин Муньос. – Ты где? Получай свою книгу!
Но Хавьер Унсуе не услышал этого зова. Прижав руки к сердцу, он медленно осел на древние камни монастырского подворья и мертвыми невидящими глазами вперился в небо над окраиной Картахены.
© Март 1998Николаев – Москва
Скромный гений подземки
Фантастический рассказ-диптих
Часть первая, почти не фантастическая
Станция «Маросейка»
Глебыч в этот вечер поддал крепенько. Не до полного свинства, как иногда, увы, случается и с самыми достойными людьми, – только до блаженной улыбки, восхитительно нетвердой походки и того неповторимого состояния души когда любишь весь этот скотский мир, невзирая на всю его неоспоримую скотскость. В метро Глебыча пустили, в общем-то, без эксцессов, хотя бабуля на входе глянула с укоризной, а молоденький милиционер с некоторым сомнением в голосе и позе осведомился:
– Куда ехать-то помнишь, гуляка?
– Обжаешь, слживый! – максимально бодро ответил Глебыч, глотая половину гласных. Хотел было рукой махнуть, бесшабашно эдак, но вовремя спохватился: не хватало еще потерять равновесие и растянуться на выложенном плиткой полу, между турникетами и милицейскими ботинками. – «Измйлвский Прк», дже бз прсадок! Пследний вгон, чтоб к выхду пближе!
– Ну-ну… – пробурчал милиционер без энтузиазма. – Ладно, ступай… Не усни только. Если доедешь до Щелчка – оттуда уже не отпустят.
Глебыч благоразумно смолчал и осторожно зашагал к эскалатору по довольно замысловатой синусоиде, но в общем и целом уверенно.
Садился он на «Арбатской», так что ехать действительно предстояло без пересадок, что в его положении являлось безусловным плюсом. К тому же было уже сильно за полночь и на переход легко можно было и не успеть. Учитывая возвышенное состояние.
Поезд пришел очень удачно – буквально через минуту после того, как Глебыч плюхнулся на ближнюю к концу платформы скамейку. Благополучно погрузившись в последний вагон, Глебыч подумал: «Эх, чего бы в Москве без метро народ делал? До утра добирался бы, ей-ей…»
Поезд тронулся. Под мерное покачивание Глебыч не боялся уснуть: покачивание вагона убаюкивало, но почему-то никогда не усыпляло, не то что качка на воде. На какой-нибудь лодчонке или теплоходе Глебыч мог отключиться в пять минут, но в метро – никогда. Проверено годами.
Примерно посередке перегона «Площадь Революции» – «Курская» поезд почему-то пошел тише, а потом и вовсе остановился.
«Во! – Глебыч порадовался собственной мудрости, когда не поленился дойти до «Арбатской». – Точно на переход не успел бы!»
Тот факт, что в противном случае пришлось бы ехать по другой ветке, где поезд совсем не обязательно стоял бы какое-то время в тоннеле, от внимания цинично ускользнул.
Стояли долго, несколько минут. А потом во всех вагонах неожиданно погасли лампы, только жиденький свет аварийного осветителя где-то позади на стене тоннеля позволял видеть хоть что-нибудь. Особенно после того как глаза привыкли к темноте.
Кроме Глебыча в вагоне ехали только двое парней с пивом и среднего возраста военный, читавший газету в противоположном от Глебыча углу. Без света ему, понятно, стало не до чтения – было слышно, как он нервно шелестит своим «Спорт-экспрессом».
Глебыч, по-прежнему совершенно не расстроенный задержкой, обернулся и поглядел наружу, в неверную тьму. На миг ему показалось, что тьма за стеклом стала чуток плотнее, нежели в вагоне.
А потом…
Тьма словно на самом деле сгустилась за окном, совсем рядом, и внезапно рывком перескочила из тоннеля в вагон, окутав Глебыча, поглотив его. Стало трудно дышать.
Очнулся Глебыч только за «Электрозаводской». Военного с газетой в вагоне уже не было; двое парней как ни в чем не бывало дули свое пиво; добавился мрачный тип, похожий на скорого кандидата в бомжи, но пока еще не докатившийся до соответствующего состояния одежды и внешности. В ушах эхом отдавался голос дикторши: «Осторожно, двери закрываются, следующая станция – «Семеновская».
Глебыч потряс головой. В голове было гулко и пусто. Неужели все-таки уснул? Быть не может!
Секундой позже Глебыч сообразил, что хмель из его организма непостижимым образом улетучился и нынче он трезв до сквозняка из уха в ухо.
На «Измайловском парке» он совершенно твердой походкой покинул вагон и в состоянии легкой ошарашенности поднялся по лестнице. Вышел из вестибюля под открытое небо, поглядел на тусклые фонарики звезд, вдохнул ночного воздуха.
«Чудеса! – подумал Глебыч малость растерянно. – Протрезвел!»
Уже дома, минут через пятнадцать, он обнаружил в кармане куртки прямоугольничек плотной бумаги, которого еще на «Арбатской» там не было.
Визитная карточка. Плотная, черная, глянцевая. С золотистыми надписями: по центру – «Гений подземки»; ниже – «Москва», еще ниже, мелким шрифтом – «Арбатско-Покровская линия».
И все. Ни адресов, ни телефонов.
– Чертовщина какая-то! – пробормотал Глебыч уже вслух и задумчиво опустился на обувную тумбу.
Визитка осталась на ней же до утра.
Уснул Глебыч почти сразу, едва разделся и повалился на широкий раскладной диван.
О визитке он вспомнил только когда обувал утром любимые туфли-«вездеходы». Черный прямоугольничек мирно соседствовал на тумбе рядом с совочком для обуви, в свое время позаимствованным из гостиницы «Нарва» в Белозерске. Визитку Глебыч не тронул, так и ушел, оставив ее на прежнем месте.
И на следующий день не тронул. И днем позже. И неделей.
Только спустя почти месяц, когда на тумбе накопилось слишком много всякой бумажной мелочи наподобие использованных карточек для метро или типографского спама, щедро насыпаемого распространителями в почтовые ящики московских домов, Глебыч сгреб этот ворох и пошел к рабочему столу, разбирать. Несколькими минутами позже карточка нашла новое пристанище – в стопочке визиток за стеклом книжного шкафа.
Вскоре Глебыч и думать забыл о странном происшествии в метро и какой-то там визитке. Жизнь катилась по накатанной колее: статьи, редакция, гонорары, редкие походы с приятелями в баню или на стадион, телевизор, пивко под «ЦСКА-Локомотив» или, к примеру, «Реал-Манчестер Юнайтед». Жизнь лишь изредка преподносила Глебычу сюрпризы, да и немногие знакомые от него никаких сюрпризов не ждали. Он был существом очень обыденным и негероическим, к чему привык с детских лет и никогда не пытался перебороть свою одинокую планиду.
В угрюмую ноябрьскую пору, когда мир сер и слякотен и на улице находиться совершенно не хочется, Глебычу пришлось посреди дня заскочить в редакцию – нужно было срочно вычитать важный материал, причем в распечатке, а не в файле. Много времени это не заняло, но день был безнадежно растрачен: в Москве планировать больше одного выездного дела бессмысленно, все равно не успеешь. Глебыч собирался с утра пошарить в интернете: вырисовывалась интересная статья и стоило восполнить пробелы в знаниях. А после обеда рассчитывал наварить борщу, позвать соседа Витьку и усидеть предпраздничную бутылку «Гжелки», каковую Глебыч у Витьки же и выиграл недавно на спор. Но позвонил ответсек и замечательный план рассыпался, как старый шалаш в бурю. Пришлось одеваться, выходить из дому в промозглый ноябрь, брести к метро…
Правда, из редакции Глебыч возвращался с уже улучшающимся настроением: похоже, борщу наварить он все-таки успевал, причем успевал даже завершить сие священнодейство в достаточно разумное время, чтобы их с Витькой посиделки Витькина жена не обозвала «ночным кукованием».
Да и вообще, домой возвращаться всегда приятнее, чем уезжать.
Короче, стоял Глебыч у края платформы на «Пушкинской» и предвкушал. Из темного зева тоннеля потянуло ветерком – приближался поезд, уже и свет фар замерцал.
И тут на рельсы свалился ребенок – пацан лет трех-четырех в неуклюжем комбинезоне-дутыше, купленном явно на вырост. Момент падения Глебыч пропустил, вдруг глянул и обомлел: пацан на рельсах и визг тормозов накатывается.
Дальнейшее произошло само по себе: ни подумать, ни испугаться Глебыч не успел. Он как-то очень просто и естественно оказался рядом с малышом, сцапал его экономным и выверенным движением (и откуда что взялось?) за воротник, выпихнул наверх, в толпу, сам подпрыгнул, налег грудью на платформу, ухватился за чью-то протянутую ладонь и через несколько мгновений почувствовал ощутимый удар по ноге – это был привет от не успевшего затормозить поезда. Но Глебыч, равно как и пацан, были уже в безопасности. От тычка Глебыч просто опрокинулся с четверенек на бок, но никаких повреждений не получил, даже больно не было.
Что тут началось! Мамаша, белая, как привидение, что-то шептала, одной рукой прижимая к себе пацаненка, другой судорожно вцепившись Глебычу в рукав. Пацаненок ревел белугой. В толпе кто-то возился и истошно вопил: «Это он, он ребенка толкнул!» Кто-то хлопал Глебыча по плечам, попеременно по правому и левому. Потом машинист прибежал – глаза квадратные. В центральном зале раздавалась звонкая трель свистка и чей-то авторитетный голос требовал: «Пройти дайте! Посторонись!»
Поминали милицию, которая по идее вот-вот должна была появиться.
Мамаша наконец отпустила рукав Глебыча и прижала сына к себе. Тот все орал, но уже заметно тише. Глебыча шатнуло, кто-то тут же громко произнес: «Дайте ему сесть!»
Глебыч быстро оказался у лавочки, но тут толпа колыхнулась – в проход протискивался милиционер. И как-то незаметно Глебыча вынесло на самую середину зала; почему-то никто на это внимания не обратил, хотя еще секунду назад локальным центром вселенной являлись мамаша, спасенный и спаситель.
А окончательно в себя Глебыч пришел в переходе: с «Пушкинской» он зачем-то отправился на «Чеховскую». Лица вокруг были сплошь незнакомые. Похоже, от разборок и нового потока благодарностей удалось благополучно ускользнуть, чему Глебыч был, в принципе, рад, поскольку от недавнего шепота мамаши чувствовал необъяснимую неловкость. Поэтому он уже целенаправленно перешел с «Чеховской» на «Тверскую» и стал ждать поезда до «Театральной».
А потом с немалым удивлением спросил себя: а чего это он, спрашивается, торчал сегодня на «Пушкинской»?
Всю жизнь, сколько себя помнил, Глебыч ездил домой естественным и рациональным способом: «Тверская» (ранее – «Горьковская») – «Театральная», вперед по ходу поезда, пересадка на «Площадь Революции» (длинные эскалаторы, на которых всегда хорошо читалось) и прямехонько домой, до «Измайловского парка».
Сегодня Глебыч почему-то решил проехать от «Пушкинской» до «Таганки», там пересесть на кольцо, проехать одну остановку до «Курской» и на родимую Арбатско-Покровскую перейти только там, поскольку прямой пересадки с фиолетовой ветки на темно-синюю в природе не существовало.
Но почему он так решил – Глебыч не понимал напрочь. Неудобный же маршрут, две пересадки! Зачем? И ведь если бы не это нелепое решение – так и не увидел бы Глебыч малыша на рельсах. И кто знает, что бы с тем стало в этом случае? Нашелся бы кто-нибудь, кто не побоялся бы прыгнуть с платформы на помощь?
Впрочем, при чем тут «не побоялся»? Можно подумать, Глебыч раздумывал – боится он или не боится. Прыгнул, ничего не соображая, и все. Хорошо еще, что мальчонку успел отбросить и сам вылезти на платформу успел. Мог бы и не успеть…
Но об этом думать совсем уж не хотелось.
Домой он добрался пришибленный, Витьке звонить не стал, откупорил «Гжелку» как был, в куртке и сапогах, и залпом засадил почти полный стакан.
Нельзя сказать, что Глебычу полегчало: ему не было плохо и до стакана. Но стало определенно лучше.
А когда Глебыч с легким стуком утвердил пустой стакан на столе и утробно крякнул, обнаружив, что рядом с бутылкой «Гжелки» на скатерти лежит визитка Гения подземки. Как она переместилась с полочки шкафа на кухню Глебыч снова-таки не выяснил, ни в первые минуты, ни потом. Он просто взял ее со стола и сунул во внутренний карман куртки, рядом с паспортом.
«На счастье», – подумал он.
Борщу в этот день (а точнее вечер) Глебыч все-таки не наварил, но совсем не расстроился из-за этого. Тем более что назавтра узнал: Витек и жена его ненаглядная все равно с трех часов дня и до часу ночи пробыли в гостях.
К утру Глебыч окончательно успокоился, мандраж сошел на нет, осталось только неожиданно светлое чувство удовлетворения своим поступком, пусть даже ненамеренным и спонтанным. И утренний звонок из редакции его совершенно не расстроил. Снова предстояло ехать в центр, но за окнами, не в пример вчерашнему, светило солнце и настроение попросту не желало ухудшаться. А тут еще звякнул Сева Баклужин, сказал, что готов прямо сейчас заехать и завезти долг. Глебыч, разумеется, не возражал.
Удачи накладывались одна на другую: Сева, оказывается, ехал на Белорусскую и мог подбросить Глебыча на своей лихой «Субару» чуть ли не до дверей редакции. По дороге они умудрились не вляпаться ни в единую пробку, проклятие автомобильной Москвы. Работа в итоге оказалась плевая, Глебыч справился с нею буквально за час. Перед самым его уходом сотрудникам стали выдавать давно обещанную премию, так что (если учитывать и возвращенный Севой должок) из редакции Глебыч выходил с весьма туго набитым бумажником. По пути к метро он прикидывал (раз уж завелись деньги), чего в ближайшее время прикупит: музыкальный центр или новый монитор. В принципе, хотелось и того, и того.