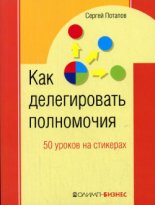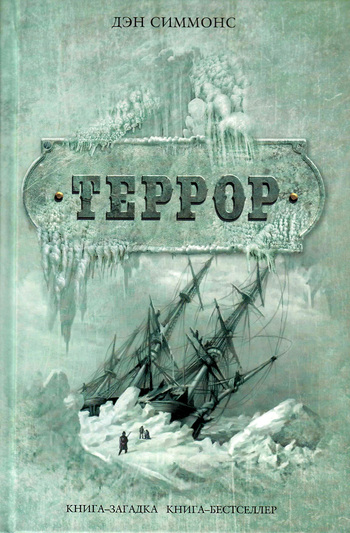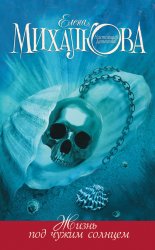Убийственная библиотека Михалкова Елена
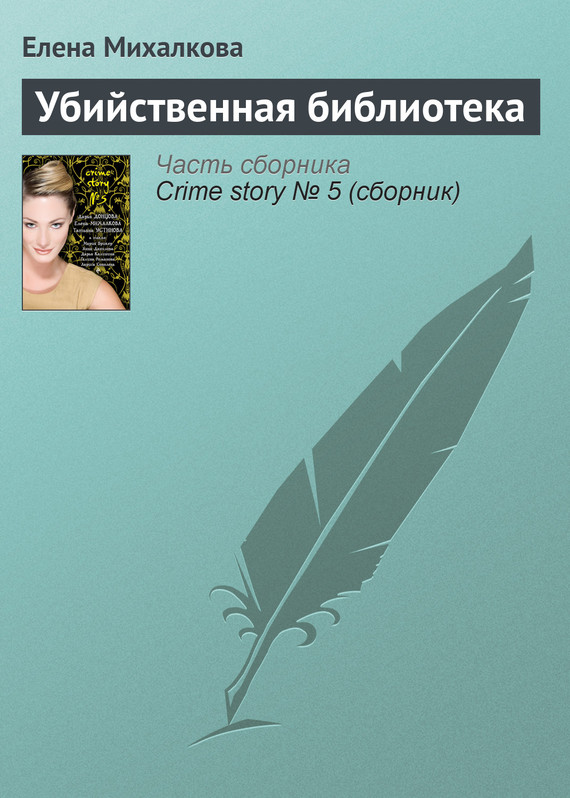
Елена МИХАЛКОВА
УБИЙСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
Елок было много, очень много. Так много, что можно было потеряться среди фотографий, на которых зеленели одинаковые равнобедренные елочки, все как одна присыпанные снежком.
Сами фотографии Маша уже успела рассмотреть и теперь изучала странные рамки – до нелепости огромные, сколоченные, похоже, из того, что попалось под руку – обрезков досок, табуретных ножек, непонятных кривых палок… «Можно спрятаться за такой рамкой, – подумала Маша, – и никто тебя не найдет».
– Как вам эта экспозиция? – раздался звучный, хорошо поставленный голос Коринны Андреевны, и сама она обозначилась в дверях с подносом в одной руке и чайником в другой. – Мы с Ниночкой решили перед праздником украсить нашу библиотеку работами Рогожина. Все-таки он один из лучших наших фотографов, хотя некоторые упрекают его в однообразии, – доверительно добавила она, косясь на ближнюю фотографию. – Но я полагаю, что это намного выразительнее, чем живое банальное дерево, увешанное игрушками, не так ли?
Маша любила банальные деревья, обвешанные игрушками, но возражать не стала. Она сидела на диванчике рядом с милой рыжеволосой женщиной и толстяком, похожим на постаревшего Карлсона без моторчика, и ожидала, когда же появятся остальные писатели – маститые.
– Если вы обратили внимание, господа детские писатели, – продолжала заведующая, – рамки фотограф делал лично, не доверяя это занятие никому. И каждая фотография сопровождается стихотворением, которое Рогожин тоже придумал сам. Очень советую вам их оценить. В самом низу, под рамкой.
Все дружно рванулись читать стихи. Две минуты в библиотеке царило молчание, после чего рыжеволосая женщина хмыкнула и сказала:
– Да… лучше бы он только фотографировал…
– А мне нравится, – пожал плечами Карлсон. – Вот, послушайте: «Колокола вы мои, колокола! Ваша муха… то есть, виноват, мука… ваша мука меня позвала! И стою я под сенью осин – я, поэт твой, моя Россия».
– Рифмы оригинальные, – признала Маша, возвращаясь на диванчик.
– А вот еще! – не унимался Карлсон. – «О, Родина! Ты вся во льду! И я в бреду к тебе иду! И блики русские сияют и прямо в сердце проникают!»
Вот тут бы Маше и догадаться, чем все это обернется. Но в библиотеку, где проходило в этот вечер собрание детских писателей, она приехала наивным, неиспорченным человеком. «Ты поезжай, потусуйся, – посоветовал ей знакомый поэт, снисходительно относившийся к Машиным попыткам сочинять что-то такое милое и незамысловатое для детей. – Там интересные люди бывают. Творческие».
Пропустить интересных творческих людей Маша не могла. В ее окружении творческие люди исчерпывались Леней Прокловым, рисовавшим в юности стенгазету для родной школы. Теперь Леня трудился системным администратором в их фирме и периодически пугал Машу, угрожая вызвать неизвестного ей бога Ктулху и набить ему бубен. Ктулху Маша не представляла, но догадывалась, что против существа с таким именем щуплому Ленечке не сдюжить. А против бубна – и подавно.
И тут обнаружилось, что, оказывается, талантливые детские писатели раз в три месяца собираются в старой библиотеке имени Королева, и не просто собираются, а читают свои произведения вслух, обсуждают творчество друг друга и в завершение пьют чай с пирогами, испеченными домовитой Ниночкой, помощницей Коринны Андреевны. В жизни бы Маше с ее тремя публикациями в журнале «Домовенок» не попасть на этот шабаш, но благоволивший к ней детский поэт посодействовал: позвонил заведующей и попросил принять Марию Орешникову в круг избранных. И вот уже тридцать минут Маша сидела и с замиранием сердца ожидала, когда же начнутся чтения.
Гости начали подтягиваться. Они шумно выражали восхищение фотографиями и рамками, сбрасывали куртки и пуховики, здоровались и обнимались.
– Марычева не пришла, – с досадой заметила рыжеволосая женщина.
– А что, собиралась? – удивилась Маша. Марычева была известной детской поэтессой, талантливой и популярной.
– Да, Марина обещала быть, но не смогла, – раздался низкий голос у Маши над ухом, и она чуть не вздрогнула. Коринна Андреевна, при всей ее дородности, возникала то тут, то там с бесшумностью Чеширского кота, словно материализуясь из воздуха. Первым появлялся поднос, который она неизвестно зачем таскала с собой, а за ним – вся Коринна целиком, в длинном зеленом балахоне, поверх которого болтались крупные янтарные бусы, похожие на желтые сливы.
– Наша Коринна Андреевна – просто вездесущий человек, – заметила рыжеволосая, когда заведующая отошла, и Маше показалось, что в ее голосе проскользнуло предупреждение.
– Меня Маша зовут, – улыбнувшись, сказала она. Женщина ей нравилась.
– А меня – Полина, – улыбнулась та в ответ, – Полина Лебедева. Я здесь, собственно говоря, случайно: знакомые посоветовали приобщиться к литературе. Высокой, – она чуть усмехнулась. – Я приходила несколько раз, и мне очень понравилось: здесь и вправду собираются талантливые люди. Да вы сами все увидите и услышите. Иногда даже Андрей Усачев заходит, стихи читает. А вы что пишете – сказки?
– Стихи, – сразу смутившись, призналась Маша, как будто писать детские стихи было занятием компрометирующим. – Но это между работой. А вообще-то я занимаюсь вполне пристойным делом – договоры составляю. И проверяю.
– А, так вы юрист! – догадалась Полина. – А я – бухгалтер. Ну вот мы с вами и разбавим эту насыщенную творческую массу. Вы кого-нибудь знаете? Нет? Тогда смотрите…
Маша смотрела во все глаза. Полина Лебедева оказалась хорошим гидом, знала почти всех собравшихся в зале и характеризовала их коротко, но емко.
– А вот этот большой и волосатый в середине зала, к которому все подходят, – это Мастодонт, – негромко говорила она. – Зовут его Антуан Валерьянович Рокотов.
– Почему такое имя? – спросила Маша, разглядывая Мастодонта. Он был пожилой, толстый, с выпяченным вперед животом. Рокотов держался очень прямо, и из-за этого казалось, что свой живот он подносит каждому как подарок. Курчавые черные волосы, волнистая борода – Мастодонт был похож вовсе не на доисторическое животное, а на важного гнома-переростка.
– Потому что у него отец – француз, – объяснила Полина. – Рокотов этим гордится и терпеть не может, когда его зовут Антоном. Он очень талантливый поэт, и детские стихи у него просто чудесные.
– О, Антон Валерьевич! – раздалось восклицание, и Полина с Машей переглянулись.
К Мастодонту, раскрыв объятия, шел высокий вальяжный мужчина в очках и с бородкой. Они обнялись, похлопали друг друга по спинам и затеяли шумный разговор.
– Этого я не знаю, – пожала плечами Лебедева. – Первый раз его здесь вижу.
В дверях соседней комнаты появилась пожилая девушка лет сорока, с бледным возвышенным лицом.
– Уважаемые друзья! – звонко начала она, и Маше почудилось, что вдалеке протрубили горны. – Уважаемые друзья, давайте начнем наши чтения! Прошу всех садиться.
– Ниночка, – коротко пояснила Полина. – Она хорошая, очень старательная. Ее все любят, потому что перед писателями она благоговеет. Пироги им печет. Плюшки… – она мечтательно вздохнула.
В середине зала возник стол, около него кресло, рядом поставили камеру. Коринна Андреевна вышла к столу, на этот раз без подноса, и, улыбнувшись всем присутствующим вместе и одновременно каждому в отдельности, произнесла:
– Дорогие мои, сегодня не совсем обычный вечер. У нас с вами в гостях петербургский прозаик, известный всем – Матвей Распутинский. Прошу вас, Матвей.
Детские писатели разразились аплодисментами. К столу неторопливо вышел тот самый вальяжный, который обнимался с Рокотовым. Он положил на стол стопку увесистых книг в ярких обложках, толстую рукопись и уселся в кресло. «Наверное, очень опытный детский писатель, – решила Маша. – Сейчас его критиковать будут, а он ни капли не волнуется».
Заведующая поздравляла всех с наступающим Новым годом, а Маша рассматривала вальяжного. Напротив нее косила серым глазом на писателя рослая девушка в облегающей майке, по которой бежал длиннозубый зверек из популярного голливудского мультфильма, похожий на мутировавшую крысу.
– Но давайте вернемся к нашим чтениям, – предложила заведующая. – Перед Новым годом мы решили устроить особенный вечер, отличный от остальных. И сегодня Матвей Сергеевич выступит с не совсем…. детским.
– Совсем не детским, – поправил кто-то сбоку. Вальяжный писатель слегка кивнул.
Маша насторожилась. «Позвольте, позвольте… Что значит – не совсем детским? А каким же?» Впрочем, сообразив, что речь наверняка идет о критических статьях, она успокоилась. Ну что ж – еще лучше. Разберет сейчас творчество какого-нибудь Иванова, не оставит от бедолаги камня на камне. Писатели – они все такие. Особенно детские.
– Матвей Сергеевич, голубчик, давайте уж дальше вы сами, – улыбнулась заведующая и спряталась за камеру.
– Для начала, друзья, я хочу представить вам мою последнюю книгу, – поднялся писатель и помахал в воздухе книгой из стопки. Сощурившись, Маша разобрала название. «Под грудью Маты Хари». «Странное название для детской книжки, – удивилась она. – Может быть, что-то приключенческое?»
– Должен признать, что издание просто прекрасное, – с удовольствием сообщил писатель. – Бумага мелованная, обложка твердая, качественная, и содержание, не буду скромничать, соответствует оформлению. Всех желающих прошу подходить после чтений. А теперь – непосредственно к делу.
Писатель сел и обвел всех светлым взглядом.
– Мой роман называется («Роман? Вы что?! Какой роман?»)… впрочем, в названии я еще не уверен. Скажу одно, – Распутинский сделал вескую паузу, – он носит религиозно-сексуальный характер.
Маша перевела изумленный взгляд на Полину и увидела, что у той вытянулось лицо.
Писатель потянул с рукописи верхний лист, сотворил им в воздухе нечто вроде знамения и прочитал:
– Первый раз Иннокентий овладел женщиной в два года. Разумеется, счастье физического соития было ему покамест недоступно, а потому он предавался своей страсти, елозя по ноге избранницы. Няня смеялась, краснела, отталкивала Иннокентия, но порочный младенец не отступал. Либидо его, уже вполне мужское, требовало удовлетворения.
Маша обомлела. Обвела взглядом окружающих, ожидая увидеть по меньшей мере удивление, но детские писатели были спокойны и дружелюбны. Юркий мужичок кивал взъерошенной головой на каждую фразу, полная дама в костюме с розами, из ткани, похожей на содранные в английской гостинице обои, благосклонно взирала на писателя. Легкие томные улыбки порхали по залу, словно бабочки.
– Кеша прищемил свое достоинство дверью в десять лет, – пугал писатель, перелистывая страницу, – и это оставило неизгладимый след в его душе. И не только в душе.
– Господи, – в ужасе шепотом произнесла Полина. – Что он читает?!
– Роман читает, – негромко ответил Карлсон, сидевший по правую руку от Маши. – Господин Чувычкин очень плодовитый автор, сейчас выдаст нам по полной программе.
– Какой Чувычкин? – не поняла Маша, стараясь не вслушиваться в текст Распутинского.
– Да вот этот, конечно, – удивился мужик, кивнув на чтеца. – Разумеется, он не Матвей Распутинский. Это Коля Чувычкин, я его уже лет десять знаю. Между прочим, значительной популярностью пользуется в Питере у читателей. Вернее, у читательниц. А вы на детские стихи приехали, да? – в голосе его зазвучало нескрываемое сочувствие. – Как же вас не предупредили?..
– И меня не предупредили! – прошипела Полина Лебедева, становясь похожей на разъяренную рыжую кошку. – Я тоже – на детские стихи!
Маша откинулась на спинку дивана и постаралась расслабиться и получить удовольствие.
А роман набирал обороты. Жизнь главного героя была насыщенна. Сюрпризы подстерегали его повсюду: в детском саду, в школе, наконец, в институте. Маша внутренне корчилась, как грешник в аду на сковородке. Она не была ханжой, но и не понимала, как можно открыто и откровенно выставлять на всеобщее обозрение столь интимные вещи, да еще делать это так бездарно. Ее разрывали на части два желания: либо заткнуть уши себе, либо заткнуть рот писателю, но и то, и другое было неосуществимо.
– Он прижал ее враскорячку над унитазом, впиваясь зубами в родинку на ее ягодице, по форме напоминающую клевер! – повысил голос Распутинский. – Унитаз был третьим в их сладострастной оргии, и – боже – как же был счастлив от этого Иннокентий! Эта белизна, эта непорочность!
– Вика, он же мудак! – шепотом восхитилась сидящая наискосок дама. Маша взглянула на нее с уважением.
– Ну почему сразу – мудак? – обиженно отозвалась Вика. У нее были длинные молочные ногти. На каждом ногте блестела зеленая акриловая змейка, и все змейки таращились на писателя. – Может, завел человек молодую любовницу, вот и прет его. А что тебе не нравится? По-моему, очень познавательно. Мне только непонятно, как это: ягодица – и похожа по форме на клевер?
– Да не ягодица, а родинка, – снисходительно пояснила дама. – Бывает. Хорошо, что не на ромашку.
В это время писатель перешел к отрывку, в котором главный герой предавался страсти с банщицей, причем местом действия был выбран сугроб.
«Ее мраморные ляжки отняли у Иннокентия дар речи, – монотонно вещал Матвей Распутинский. – Он упал в снег лицом и надолго застыл там, не в силах вымолвить ни слова».
«Господи, тебя бы кто уронил в снег лицом, – тоскливо подумала Маша. – И желательно с тем же результатом. Елки-палки, лучше бы искать сейчас подарки моим, чем слушать эту… это…»
Следующие десять минут она осматривала зал. Курчавый Рокотов слушал внимательно, и лицо у него было красное – наверное, от духоты, решила Маша. Дамы слушали с улыбкой. Девушка в майке с крысой ерзала на месте и не сводила с писателя глаз. «Василий крепкой рукой схватил Иннокентия, отчего тот пискнул и привел остальных в неистовство». Маше тоже захотелось прийти в неистовство, но неудержимая дрема давила на веки, откидывала ее голову к спинке дивана. «Степан обнажил чресла, и все ахнули. Даже попугай в углу замолчал, пораженный до глубины своего незамысловатого птичьего сердца». Перед Машей мелькали Степан с обнаженными чреслами, попугай, расписанный под хохлому… Неподалеку расхаживал по палубе капитан Сильвер, и костыль его выглядел совершенно непристойно. Кучка матросов на юте изучала книжку Корнея Чуковского «Мойдодыр», время от времени заливаясь дружным гоготом. «Вот я вас, развратники!» – рявкнул капитан Сильвер с интонациями батюшки, гоняющего чертей. Она дернулась и открыла глаза.
– Перерыв! – громко объявила Коринна Андреевна, теребя бусы-сливы.
Распутинский уже вставал с места, обмахиваясь листом рукописи.
– Вот сюда, Матвей Сергеевич, вот сюда, – засуетилась Ниночка, вынырнув из-за угла. – В кабинет Коринны Андреевны. Там уже и чайничек…
– Мне бы лучше йоду, Ниночка, – ласково попросил Распутинский, показывая содранный на пальце заусенец.
«Лучше бы тебе яду», – мстительно подумала Маша, спрятавшаяся за вешалкой с одеждой. Ей безумно хотелось сбежать, но было неловко. «Вот, скажут, пришла, насладилась эротическим романом и ушла. Может быть, кто-то еще будет читать кроме этого… плодовитого».
В кабинет мимо нее проскочила маленькая шоколадная брюнеточка в таких облегающих джинсах, что, казалось, она вот-вот выстрелит из них, как из пушки. «Еще одна детская писательница? – мелькнуло в голове у окончательно очумевшей Маши. – Какие они, однако, разнообразные».
– Приехал, Коленька, – ласково сказала из-за двери брюнеточка.
Распутинский что-то ответил, но Маша не расслышала.
– А я вот постаралась, ради тебя пришла.
Подслушивать было неловко, и Маша вылезла из своего укрытия. Писатели столпились в соседней комнате около стола с плюшками и пирогами. Неторопливо прошла та же брюнеточка, в кабинет к Распутинскому начали входить и выходить люди, и Маша бочком протиснулась в коридор, выискивая Полину. Но той не было. Сосредоточенно жуя, прошел Карлсон и тоже завернул в кабинет, где сидел Распутинский.
«Слетелись, как мухи… на некую субстанцию», – злобно подумала Маша, ходя по коридору туда-сюда и рассматривая клонированные елки в обрамлении табуретных ножек.
– Милая моя! – поймала ее за рукав заведующая, опять материализовавшаяся непонятно откуда. – Очень вас прошу: отнесите нашему… уважаемому… пусть покушает. Столько людей сегодня!..
Она всучила Маше поднос с пирожками и исчезла.
– Твой-ю мать! – выругалась Маша в сердцах. – Чтоб я! Еще раз! К детским! Писателям!
Она схватила пирожок и откусила, направляясь к кабинету. «Откушайте, барин», – мелькнула у нее в голове подходящая случаю реплика. «А еще лучше: извольте угоститься!»
Она толкнула дверь плечом, протиснулась с широким и неудобным подносом внутрь, и слова застряли у нее в горле вместе с непроглоченным куском пирожка.
В кабинете никого не было. Почти никого. Плодовитый писатель Коля Чувычкин, известный как Матвей Распутинский, лежал головой на столе, устало прикрыв глаза. С виска стекала темная струйка, исчезая где-то за ухом. Рядом с его носом валялся пузырек, и по кожаной поверхности солидного библиотекарского стола растекалась темно-коричневая лужа. Сильно пахло йодом.
Кусок пирожка наконец проглотился, а вместе с ним появились и слова. Попятившись, Маша выскочила из кабинета, не выпуская из рук поднос, и жалобно пискнула первому встречному:
– Вы ведь писатель? Детский? Вызовите, пожалуйста, милицию – там человека убили.
* * *
Фамилия следователя была Корольков, но никто и никогда не называл его иначе, чем Кроль. За глаза, конечно, потому что официально он был Сергей Сергеевич. Корольков был пухлый, добродушный, с немного размытыми от излишней полноты чертами лица. У него была привычка робко взглядывать на собеседника, так что казалось, будто он вот-вот дернет ушами и отпрыгнет в кусты – и поминай как звали! Девять человек из десяти после этого фокуса переводили глаза на уши Королькова, но уши у него были самые обычные – в меру большие, в верхней части прижатые к черепу.
– Чем стукнули душку? – расстроенно спросил Корольков эксперта.
Он был уверен, что по традиции перед Новым годом свалится какая-нибудь гадость. В общем, так оно и получилось.
– Фиг его знает, – пожал плечами эксперт. – А точнее пока не скажу.
– Ладно, давай без шуток, – попросил Корольков. – У меня там дюжина человек, всех опрашивать…
– Острым предметом, ясное дело, – смилостивился тот. – А точнее, заостренным. Видимо, тяжелым, потому что проломили кость – слегка, но товарищу хватило. Хорошо, что заведующая не пустила никого в кабинет, после того как нашли тело, а то не видать бы тебе никаких улик.
– Как будто сейчас их много, – проворчал следователь и отложил протокол.
– Олег Георгиевич, я с писателями побеседую, – кивнул он немолодому оперативнику. – А вы с Игнатовым орудие убийства поищите, ладушки?
Дело, в общем, было простым, но муторным. Собрались себе писатели, один из них читал вслух свою рукопись. Сделали перерыв, и в этот перерыв кто-то зашел в кабинет, стукнул покойного Чувычкина заостренным предметом и смешался с ликующей толпой. То есть с остальными писателями.
Только Сергей Сергеевич собрался попросить, чтобы ему выделили отдельное помещение, как выяснилась любопытная подробность. Оказывается, весь процесс чтения снимали на камеру.
– Это интересно, интересно, – пробормотал Корольков, устраиваясь перед стареньким видеомагнитофоном, стоявшим в кабинете заведующей. – Давайте послушаем, может, покойный кого-нибудь обличал перед смертью.
На второй минуте просмотра молоденький оперативник Вася Игнатов хрюкнул, сложился пополам и выскочил из кабинета. На пятой Корольков решил, что иногда убийство бывает вполне оправданным, даже если не является самозащитой. На десятой подумал, что он лично прикончил бы автора, если бы присутствовал при чтении.
Через двадцать минут Кроль выключил кассету и выразительно посмотрел на оперативников, стоящих у него за спиной.
– Агата Кристи, – сообщил он. – Какой-то там экспресс, не помню точно, какой.
– А чего в экспрессе? – поинтересовался Вася Игнатов.
– Там все собрались и замочили одного, – просветил его Олег Георгиевич. – И, в общем, за дело. А их никто не мог поймать, потому что они были типа друг с другом незнакомы. Все смотрели в разные стороны, мотива ни у кого по отдельности нет. А у всех вместе – есть.
– Вроде как и эти тоже замочили? – Игнатов кивнул в сторону зала, где толпились писатели. – Не, они хором не могут. Они же для детей пишут!
– Да что ты, Вася, – покачал головой следователь. – Те, кто для детей пишут, они и есть самые садисты.
– Точно, – поддакнул Георгич. – Нормальный человек этим заниматься не будет. Он лучше опером пойдет работать. Или постовым.
Игнатов недоверчиво посмотрел на обоих.
– Че, и этот был садист… как его там…Чуковский? Который про Муху-цокотуху написал?
– А ты помнишь, что он там сотворил с мухой-то? – недобро ухмыльнулся Георгич. – Муха криком кричит, надрывается, – процитировал он с выражением, – а злодей молчит, ухмыляется! Во как! Это я тебе еще про Мойдодыра не рассказываю.
– Тот вообще был порождение мрака, – согласился Корольков. – Помешан на чистоте. Вдруг из маминой из спальни… Ужас. А нам потом мамин труп собирать по кускам.
Игнатов хмыкнул, покачал головой и задумался. Кроль решил не выводить пацана из ступора и побеседовать с народом. Точнее, с лучшей его частью.
Час спустя примерная картина взаимоотношений покойного со свидетелями преступления была ему ясна. Четыре человека из собравшихся видели господина Чувычкина впервые, но каждый признался, что лелеял мысль окончить грешную жизнь писателя на протяжении часа во время чтений каким-нибудь особенно изощренным способом. Семеро его знали, но встречались с ним исключительно на сборах писателей, тусовках и тому подобных мероприятиях. Они представляли, чего можно ожидать от Распутинского, и были морально подготовлены к встрече. К ним стоило присоединить заведующую библиотекой и ее помощницу.
А еще трое очень заинтересовали Сергея Сергеевича Королькова.
Из сопоставления сбивчивых показаний выяснилось, что, скорее всего, последним видел Чувычкина в живых Антуан Рокотов, близкий приятель покойного.
– Я зашел, – потрясенно качая курчавой головой, рассказывал тот. – Мы поговорили о его рукописи… Я спросил, когда выйдет новая книга… Позволил себе задать вопрос о гонораре. Невозможно, просто невозможно! Он был оживлен и совершенно ничем не опечален. Нет, я никого не заметил. То есть, конечно же, заметил – около кабинета стояло много людей. Вот Мармеладная Соня, например.
– Кто? – вскинул брови Корольков.
– Сонечка Феклистова, – пояснил Рокотов. – Больше всего в жизни любит спать и есть, поэтому ее и прозвали по Кэрроллу. Они с Колей встречались. Не очень долго – около года, кажется. Я, откровенно говоря, даже не знал, что она будет здесь. В общем-то, к писательскому кругу отношение она имеет, так сказать, опосредованное.
«Посмотрим-ка мы на даму с опосредованным отношением к писательскому кругу», – подумал Сергей Сергеевич. В крохотный кабинетик вошла, покачивая джинсовыми бедрами, миниатюрная брюнетка с сонным лицом.
– Я бы его кастрировала, – с порога сказала она. – Ненавижу писателей. Но убивать бы не стала. Так что вы зря меня подозреваете.
– А мы вас и не подозреваем, – открестился Корольков. – Просто опрашиваем всех свидетелей, по горячим следам. А за что бы вы его кастрировали?
– За импотенцию, – логично объяснила Мармеладная Соня. – Вы, конечно, знаете, что он был полным импотентом? Распутинский! Ха!
Следующие пять минут Корольков, втиснувшись в кресло, выслушивал интимнейшие подробности отношений убитого и Феклистовой. Ему хотелось сбежать точно так же, как и Маше два часа назад, но напор Сони Феклистовой остановить было невозможно.
– …И сказал, что бросил меня, потому что я, видите ли, недостаточно темпераментна! – шипела Мармеладная Соня, сбросив всю свою мнимую сонливость. – Потому что я, представьте себе, много сплю! И это сказал обо мне человек, у которого не хватало до двадцати сантиметров…
– Стоп! – решительно приказал Корольков.
– Девятнадцати! – торжествующе выкрикнула Соня, голос которой набрал удивительную силу. – Нет, вы можете себе такое представить?!
Корольков не мог представить и не хотел. Ему вполне хватило прослушивания рукописи под названием «Иннокентий: детство, отрочество, юность». Выпроводив дикую бабенку, он рухнул в кресло и зажмурил глаза. «Надо их в резервации держать, что ли, – мелькнула у него в голове нехорошая мысль. – Писателей и близких к ним личностей. Наружу не выпускать ни при каких условиях».
– Кого тебе еще нужно? – просунулась в дверь голова Георгича. – Там девица рыжая сидит… ничего, хороша! А с ней шатенка.
– К черту девицу, – содрогнувшись, заявил Корольков. – Мне нужен этот… как его…
Он сверился со своими записями, вышел в зал, где кучковались писатели, и громко спросил:
– Кто из вас Эдуард Резцов?
Писатели притихли, потом от них отделился маленький толстый человечек с лысеющей рыжей шевелюрой.
– Я – Эдуард Резцов, – спокойно сказал он.
– Вы ведь издатель покойного, правильно? – уточнил следователь.
Тот кивнул.
– Тогда давайте побеседуем, если вы не возражаете, – предложил Корольков и скрылся за дверью.
– Он – издатель? – недоверчиво спросила Маша, когда Карлсон исчез за следователем. – Издатель Распутинского? Почему же он нам ничего не сказал? И к писателю не подошел?
– Вот сейчас и узнаем, – зловеще протянула Полина. – Выведут добра молодца в наручниках, и сразу все станет ясно.
Но добрый молодец вернулся сам, без наручников, и сел на свое место.
– Что же вы, Эдуард, утаили от нас, что вступили в такие специфические отношения с несчастным Распутинским, как отношения издателя и автора? – укоризненно сказала Маша.
– Не упоминайте при мне слов «отношения» и «вступили» в одном предложении, пожалуйста, – буркнул Резцов, покосившись на нее. – Я собирался его издавать, потому что Чувычкин пользовался успехом. Да, я хотел сделать на нем деньги! Мемуары Ермолова, знаете ли, не окупаются. Но Коля за два дня до заключения договора неожиданно передумал, и я знаю, кто этому посодействовал – Крамошин, – лицо Эдуарда брезгливо скривилось. – Вот уж кого стоило прикончить, а не нашего раскованного Коленьку. Третьего автора переманивает у меня!
– Так вы приехали, чтобы переубедить Распутинского? – уточнила Полина.
– Разумеется, я не для этой цели примчался из Питера, – раздраженно отозвался издатель. – Я был в Москве по своим делам, узнал о том, что Коля собирается читать новую рукопись, решил воспользоваться случаем и попытаться уговорить его.
– Уговорили? – спросила Маша и, поймав вопросительный взгляд Резцова, объяснила: – Я видела, как вы входили в комнату.
– Не-а, – легко ответил издатель. – Распутинский вообще ни о чем не мог говорить, кроме своего романа. Требовал восхищения, признания достоинств стиля, жаждал внимания, как юная курсистка на балу. Я человек не злой: погладил его по шерсти и ушел.
Маша вздохнула, посмотрела на мрачную елку на фотографии и прикрыла глаза. «До ночи просидим, – подумала она, проклиная в душе Распутинского больше, чем его убийцу. – Как начнут нас всех опрашивать по очереди… Мама, наверное, дома волнуется».
Она достала из сумки сотовый телефон и уже собиралась позвонить, но тут обнаружила, что на часах – всего девять вечера. «Подожду пока, – решила она. – Позвоню через час».
Корольков сморщил нос и в самом деле стал похож на кролика. Если можно представить себе очень раздраженного кролика. Опрошены были все свидетели, но раскрыть убийство по горячим следам не получалось! Хотя, казалось бы, ничего сложного, ведь какой-то интерес в убийстве Распутинского мог быть только у нескольких человек.
Он просмотрел листки и задумался. Подозреваемым номер один был, на первый взгляд, басистый приятель покойного, после которого в комнату никто не заходил – кроме убийцы, конечно, если предположить, что это не Рокотов убийца. Самоуверен, вспыльчив и, на взгляд Королькова, легко мог тюкнуть покойного чем-нибудь острым. Опять-таки, волновался, хотя мог нервничать и по вполне естественным причинам: как-никак насильственная смерть приятеля мало кого оставит равнодушным. Вот только видимых причин для такого поступка у Антуана Валерьяновича, как ни крути, не было. Даже лакомый мотив профессиональной конкуренции следователю пришлось отбросить после того, как ему объяснили: Рокотов пишет для детей, иногда, под настроение, – для взрослых, но всегда только стихи. Прозаик Распутинский не мог перейти ему дорогу.
Мармеладная Соня, она же Феклистова, могла составить конкуренцию Рокотову. Она с легкостью пришибла бы фальшивого донжуана Распутинского. «Импульсивная дамочка, – вспомнил Корольков Соню с внутренним содроганием. – У нее-то как раз мотив просматривается, причем самый убедительный из всех». Но в глубине души Сергею Сергеевичу не нравилась эта версия – от нее попахивало театральностью.
Эдуард Викентьевич Резцов – вот фигура, далекая от театральности. Он не бросался громкими фразами, не обвинял Распутинского во всех смертных грехах, откровенно признался, какая неудача привела его на сегодняшнее сборище, хотя от детских писателей Резцов был далек, как коала от Северного полюса. Но следователю он не нравился, и Сергей Сергеевич сам не мог объяснить себе причину. Возможно, дело было в том, что интуитивно Корольков считал издателей акулами бизнеса и ожидал увидеть у них в пасти пять-шесть рядов острых зубов. То, что у Эдуарда Резцова их не было, заставляло относиться к нему настороженно.
Заведующая с ее трепетной помощницей, две молодые дамы, одна из которых пришла в клуб детских писателей впервые, редактор малоизвестного журнала для детей… И еще около десяти человек. Все они имели отличную возможность убить Распутинского, но не имели ни малейшего мотива для этого. «Рукопись! – мысленно восклицал Корольков, нарезая круги по кабинету. – Ей-богу, могли прикончить его из-за рукописи! А что? Какой-нибудь эстет оскорбился за российскую литературу, нравственное чувство его нехило пострадало во время прослушивания, вот он и выплеснул свою творческую неприязнь в бытовой форме».
Корольков вспомнил запись чтений и почувствовал глубокую симпатию к неизвестному эстету. Более того, он почувствовал позыв тоже немедленно выплеснуть неприязнь к Распутинскому, несмотря на то что данный автор был уже несколько часов как прочно мертв. «Стукнуть бы его, развратника, – злился Корольков, – чтобы больше не писал гадостей…»
В дверь постучали, и следователь пришел в себя. «Рукопись подействовала, – оправдываясь перед самим собой, подумал он. – Все-таки я – человек неподготовленный».
– Сергей Сергеевич, десять часов, – заглянувший в дверь Олег Георгиевич был мрачен, потому что орудие убийства за полтора часа так и не нашли. Если убийца прошел к стеллажам с книгами, то вполне мог спрятать его там, а это означает, что необходимо перерыть три больших зала.
– Давай отпустим свидетелей, – вздохнул Корольков и робко глянул на оперативника. Георгич на провокацию не поддался и на его уши смотреть не стал, потому что и так помнил: они большие и сверху прижаты к черепу. – Данные Игнатов переписал, досмотр провели, раскалываться никто не пожелал.
– Детские писатели – народ суровый, – сочувственно согласился оперативник. – Крепкий, закаленный в боях с детьми…
– И нахальный, – дополнил Корольков характеристику среднего детского писателя. – В комнатах куча народу, а товарищ входит, стучит Развратинскому по голове и выходит как ни в чем не бывало.
– Распутинскому, – поправил его Георгич.
– Один фиг, – махнул рукой Корольков. – Ладно, отпущу страдальцев, пусть к Новому году готовятся.
Когда полноватый, с двумя симметричными залысинами на висках мужик вышел в зал, разговоры стихли. Маша уставилась на следователя, ожидая чего-нибудь нехорошего, но вместо этого Корольков устало сказал:
– Товарищи, все могут быть свободны. На сегодня, – прибавил он многозначительно.
– Неужели вы за полтора часа так и не поняли, кто это совершил? – с возмущением осведомилась рослая девушка в майке с крысой. – Известнейший писатель убит, а вам лишь бы домой поскорее вернуться!
«И мне, мне домой поскорее вернуться!» – мысленно вякнула Маша.
Она со страхом посмотрела на следователя, ожидая, что сейчас он в одну секунду передумает и запретит им расходиться. Но тот устремил на рослую девушку неожиданно беспомощный взгляд, и Маше на долю секунды показалось, что сейчас он удерет из комнаты в паническом страхе. Видимо, то же самое показалось и девушке, потому что она, сменив тон, успокоительно добавила:
– Нет, я понимаю, конечно, что вы работали… Я понимаю. Вы не обижайтесь, господин следователь, просто все мы очень переживаем за Матвея Сергеевича!
– Вот лично мы не переживаем, – бессердечно сообщила на весь зал шоколадная брюнетка и встала с дивана. – Во-первых, переживать уже поздно, потому что он умер. Во-вторых, он был сволочь и импотент.
– Как вы смеете! – взвизгнула девица. – Как ваш язык повернулся!.. Он такое писал, а вы….
«Начинается», – с тоской понял Корольков.
– Вот именно, он такое писал, что лучше бы не писал вовсе, – вмешался юркий мужичок, в котором Маша неожиданно опознала хорошего сказочника, пару раз приходившего в гости к Хрюше и Степашке. – Мне теперь полгода будут фаллосы мерещиться во всех углах. Ваш Распутинский привил мне отвращение даже к киви, не говоря уже о бананах.
– Ну, бананы – вообще очень эротичный фрукт, – со знанием дела заметила Вика с акриловыми ногтями. – Это я вам как сценарист говорю.
– Да вы просто зашоренные ханжи! – обрушилась на них девица. – Вы не можете дойти до той степени свободы, раскованности, до которой дошел Матвей!
– И слава богу, что не можем, – решительно сказала Полина Лебедева, поднимаясь и подходя к вешалке, заросшей куртками и дубленками. – Мне, конечно, очень жаль, но я иду домой.
Все начали вставать со своих мест, не прислушиваясь к девице, по-прежнему что-то вещавшей о степени свободы. В наступившем шуме Маша уловила несколько реплик.
– Коринна Андреевна, что же дальше? – плаксиво спрашивала в углу Ниночка. – Нужно следующее собрание назначить…
– Да подожди ты, Нина, со своим собранием, – раздраженно отмахивалась заведующая. – Дай бог с этим разобраться.
– Коринна Андреевна, я вам очень сочувствую, – печально гудел Мастодонт – Рокотов. – Такое ужасное происшествие… в вашей старой библиотеке. Я понимаю, конечно, что это может быть смешно и некстати, но давайте я вам хотя бы новый стол подарю, что ли.
– Ах, Антуан Валерьянович, – растрогалась Коринна. – Все-таки галантный человек остается галантным в любой ситуации.
– Эх, не достанется «Детство Иннокентия» ни мне, ни Крамошину, – себе под нос пробормотал Эдуард Резцов, проходя мимо Маши.
«Ну почему же не достанется, – мысленно возразила Маша. – Если Распутинский уже заключил контракт на свою рукопись, то очень даже достанется».
И вдруг до нее дошло.
– Стоп! – громко сказала Маша, но в набирающем силу шуме на нее никто не обратил внимания. – Ну-ка все стойте!
Теперь ее услышали. Остановилась Полина Лебедева, прижимая к себе короткую светлую дубленку. Перестала вещать девица с крысой. Эдуард Резцов, Коринна Андреевна и дама по имени Вика смотрели на Машу с одинаково настороженным выражением на лицах. Все собравшиеся в комнате смолкли, обернувшись к ней и удивленно ожидая продолжения.
Маша не смотрела на них. Она смотрела на пухлого следователя, стоявшего около дверей соседней комнаты с заинтересованным лицом. «И что же дальше, голубушка?» – казалось, было написано на нем.
– Стол! – громко сказала Маша через весь зал, обращаясь только к нему. – Отчего опрокинулся пузырек с йодом?
– Убитый задел его головой, когда упал, – не задумываясь ответил Корольков.
Маша кивнула головой и вздохнула. Затем перевела взгляд на Антуана Рокотова, придерживавшего под локоть Коринну.
– Зачем же вы?.. – извиняющимся тоном проговорила она. – Зачем же вы так… про стол?
Мастодонт качнул чернявой головой, словно собираясь пробежать через зал и боднуть Машу. Потом выпустил локоть заведующей и поднял руку к глазам.
– Вы-ы?! – ахнула Ниночка, взвиваясь голосом на букве «ы» куда-то под высокий потолок библиотеки. – Не может быть!!! С чего вы взяли? – она направила длинный тонкий палец на Машу.
– Потому что Антуан Валерьянович только что предложил поменять в кабинете стол, – с сожалением сказала Маша. – Я это слышала своими ушами. Но никто не мог знать о том, что йод разлился по столу. Никто, кроме меня и Коринны Андреевны, которая опознавала труп… И убийцы. Ведь никто другой в кабинет не заходил.
– Коринна Андреевна, вы говорили кому-нибудь про йод? – живо спросил Корольков.
Та отрицательно покачала головой, и лицо у нее стало таким же желтым, как янтарные бусы на шее.
– Сволочь, – глухо проговорил Рокотов, проходя по залу и садясь на стул, на котором в начале вечера читал Распутинский. – Грязная развратная скотина. Неужели он думал, что я смогу пропустить эту подробность?!
– Какую подробность, Антуан Валерьянович? – осторожно спросила Маша.
– Р-р-родинку! – прогремел Мастодонт так, что вздрогнула девица с грызуном. – Ее родинку в форме листа клевера! Ах, я чувствовал, чувствовал, что не нужно было знакомить Настеньку с этим похотливым извращенцем! – простонал он. – Она молода, она ветрена, темпераментна, в конце концов! Конечно, она увлеклась! Но этот мер-рзавец! – Голос его прокатился по старому залу библиотеки как громовой шар. – Имел наглость сунуть мне свою бесстыдную книжонку с дарственной надписью! «Покорителю стихотворного Олимпа от покорителя женских сердец!» Разумеется, я его стукнул книжкой, – обыденно добавил он. – Каждый из вас, друзья, поступил бы так же.
* * *
Книга оказалась за одной из фотографий. Аккуратно лежала на табуретной ножке между стеной и оборотной стороной снимка. «Я почти угадала, – подумала Маша, глядя, как достают «Под грудью Маты Хари», угол которой был испачкан темным. – Мне хотелось самой спрятаться за этой дикой рамкой, а Рокотов придумал спрятать туда книгу».
– От души он его приложил, – покачал головой Корольков, рассматривая угол «Маты Хари». – Но это, конечно, чистая случайность – так ударить, чтобы убить острым углом книги. Помнишь историю, когда женщину нечаянно убили носом бумажного самолетика? А книга – это вам не самолетик, граждане.
– Висок проломить – много силы не надо, – пожал плечами Георгич. – А ревность, знаешь ли, добавляет этой… экспрессии.
– Смотри-ка, даже недолгое общение с писателями обогатило твой словарный запас, – невинно заметил Корольков. – Надеюсь, стихов писать не начнешь?
– Типун тебе на язык, – испугался Георгич. – Чтоб тебе ночью «Война и мир» приснилась! Меня и так Катька еле терпит, а если я еще стихи писать начну, точно выгонит.
– Значит, все-таки дело было в рукописи, – задумчиво сказала Полина Лебедева, когда они с Машей шли к метро под тихим неторопливым снегом. – Как же Распутинский так неосторожно проговорился про родинку?
– Творческий человек, – снисходительно заметила Маша. – Витал в эмпиреях, до дел земных не опускался.