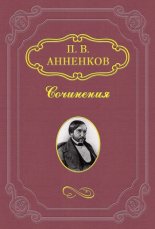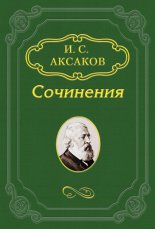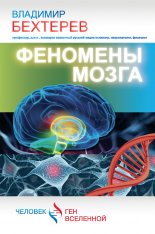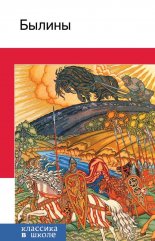Теория Фрейда (сборник) Фромм Эрих

Изучение характера еще только началось, и потенциал открытия Фрейда еще далеко не исчерпан. Однако восхищение теорией Фрейда не должно мешать видению того, что он сузил значимость своего открытия, привязав его к сексуальности. Он очень ясно высказал это уже в «Трех эссе по теории сексуальности»: «То, что мы называем характером человека, в большой степени строится на материале сексуальной активизации; он состоит из импульсов, устоявшихся с детства и преодоленных с помощью сублимации, и таких структур, которые направлены на эффективное подавление этих извращенных чувств, признанных бесполезными» [10; 233. – Курсив мой. – Э.Ф.]. Данные Фрейдом названия ориентаций характера показывают это совершенно ясно. Первые два обязаны энергией оральному либидо, третий – анальному либидо, четвертый – так называемому генитальному либидо, т. е. сексуальности взрослого мужчины или женщины. Наиболее важный вклад Фрейда в типологию характера содержится в его работе «Характер и анальный эротизм» [13]. Все три черты обладателя анального характера – аккуратность, бережливость, упрямство – могут рассматриваться как прямое выражение либидо, реакция на его формирование или его сублимация. То же верно и для других структур характера в терминах орального или генитального либидо.
Фрейд относил многие великие страсти – любовь, ненависть, амбициозность, жажду власти, алчность, жестокость, а также стремление к независимости и свободе – к различным видам либидо. В обновленной теории Фрейда, касающейся инстинктов жизни и смерти, любовь и ненависть считались имеющими в основном биологическую природу. Конструируя теорию инстинктов жизни и смерти, ортодоксальные психоаналитики сочли, что агрессия – столь же врожденный человеческий импульс, как любовь. Жажда власти была отнесена к проявлениям анально-садистского характера, хотя следует признать, что она, будучи, возможно, самым важным импульсом современного человека, не получила должного отражения в психоаналитической литературе. Зависимость рассматривалась в терминах подчинения, различными путями связанного с Эдиповым комплексом. Для Фрейда сведение великих страстей к различным видам либидо было теоретической необходимостью, поскольку, за исключением стремления к выживанию[37], все виды энергии в человеке считались имеющими сексуальную природу.
Если кто-то не считает себя обязанным считать все человеческие страсти имеющими корни в сексуальности, его нельзя заставить принять объяснения Фрейда; возможен более простой и, как мне кажется, более точный анализ чувств человека. Можно различать биологически заданные потребности, удовлетворение голода и секс, служащие выживанию индивида и расы, и страсти, обусловленные социально и исторически. Испытывают ли люди преимущественно любовь или ненависть, покоряются или борются за свободу, оказываются прижимистыми или щедрыми, жестокими или мягкими, зависит от социальной структуры, отвечающей за формирование всех потребностей, за исключением биологических (см. [36]). Существуют культуры, в которых в силу их социального характера преобладает стремление к кооперации и гармонии – например, культура североамериканских индейцев зуни, и другие, отличающиеся чрезвычайными собственническими устремлениями и деструктивностью, как добу (см. подробное обсуждение обществ, которым присуща агрессивность или взаимопомощь, в работе [37]). Для понимания того, как экономические, географические, исторические и генетические условия приводят к формированию различных типов социального характера, требуется подробный анализ социального характера, типичного для каждого данного общества. Вот пример: в племени, у которого слишком мало плодородной земли и недостаточно продуктов охоты и рыболовства, скорее всего разовьется воинственный, агрессивный характер, потому что единственная надежда на его выживание заключается в том, чтобы ограбить или обокрасть другие племена. С другой стороны, в племени, не производящем заметных излишков, но обеспечивающем всех своих членов достаточным количеством средств к существованию, имеет шанс развиться дух миролюбия и взаимопомощи. Такой пример, конечно, слишком упрощен; вопрос о том, какие условия приводят к появлению определенного типа социального характера, труден и требует тщательного анализа всех релевантных и даже кажущихся таковыми факторов. Это – область социальных и исторических исследований, которые, я уверен, имеют большое будущее, хотя до сих пор были заложены лишь основы этой ветви аналитической социальной психологии.
Исторически обусловленные чувства бывают настолько интенсивны, что могут оказаться сильнее биологически необходимых для выживания – утоления голода, жажды и стремления к продолжению рода. Это может быть не так для среднего человека, чьи страсти в основном сводятся к удовлетворению физиологических потребностей, но справедливо для значительного числа людей в любой исторический период: они рискуют жизнью ради чести, любви, достоинства – или ненависти. В Библии это выражено очень просто: «Не хлебом единым жив человек» (Евангелие от Матфея, 4:4). Представим себе, что Шекспир написал бы свои драмы о сексуальных неудачах героя или о стремлении героини утолить голод; они оказались бы столь же банальны, как некоторые из современных пьес, представленных на Бродвее. Драматический элемент человеческой жизни уходит корнями в небиологические страсти: не в голод или сексуальное влечение. Едва ли кто-то совершит самоубийство из-за неудовлетворенности своих сексуальных желаний, но многие готовы покончить с собой, если их честолюбие или ненависть не нашли удовлетворения[38].
Фрейд никогда не рассматривал индивида как существо изолированное, но всегда в его отношениях с другими. Он писал: «Индивидуальная психология, несомненно, занимается индивидом, а также изучает способы, которыми он пытается удовлетворить свои инстинктивные влечения. Однако лишь редко и в специфических исключительных условиях может она абстрагироваться от отношений данного индивида с другими. В психической жизни индивида другие люди обычно рассматриваются как модели, объекты, помощники или оппоненты. Таким образом, индивидуальная психология с самого начала оказывается одновременно и социальной психологией – в этом расширенном, но имеющем право на существование смысле» [19; 65]. Тем не менее это ядро социальной психологии не получило дальнейшего развития, потому что для Фрейда первичное образование – семья – считалось игающим в развитии ребенка решающую роль. Фрейд не видел того, что человек с раннего детства существует в различных кругах; самый тесный из них – семья, следующий – его класс, третий – общество, в котором он живет, четвертый – биологические условия человеческого существования, в котором он участвует; наконец, он – часть большего круга, о котором мы не знаем почти ничего, но который состоит по крайней мере из нашей солнечной системы. Только самый узкий круг – семья – имел значение для Фрейда; поэтому он очень недооценивал все остальные, частью которых является человек. А именно, он не понял, что сама семья детерминирована классом и социальной структурой и представляет собой «инструмент общества», функции которого – приобщать ребенка к характеру общества еще до того, как ребенок с обществом соприкоснется. Это осуществляется как в процессе раннего воспитания и образования, так и через характер родителей, который, в свою очередь, является социальным продуктом (см. [26]).
Фрейд рассматривал буржуазную семью как прототип всех семей и игнорировал существование очень разных форм семейной структуры и даже полное отсутствие «семьи» в других культурах. Примером этого служит то огромное значение, которое Фрейд придавал так называемой «первичной сцене», когда ребенок оказывается свидетелем сексуального акта между родителями. Очевидно, что значимость такого события резко увеличивается в связи с тем, что в буржуазных семьях дети и родители живут в разных комнатах. Будь Фрейд знаком с семейной жизнью более бедных слоев общества, когда для детей, живущих в одной комнате с родителями, половые сношения взрослых были привычным зрелищем, эти ранние впечатления не показались бы ему такими важными. Фрейд также не рассматривал многие так называемые примитивные общества, в которых на сексуальность не накладывалось табу и ни дети, ни родители не скрывали своих половых актов и игр.
Исходя из своей предпосылки, согласно которой все чувства имели сексуальную природу, а буржуазная семья являлась прототипом всех семей, Фрейд не видел, что первична не семья, а структура общества, создающего тот характер, в котором оно нуждается для своего успешного функционирования и выживания. Фрейд не пришел к концепции «социального характера», потому что на таком узком базисе, как секс, такая концепция развиться не могла. Как я показывал в примечании к работе [31], социальный характер – это структура характера, общая для большинства членов общества; его содержание зависит от потребностей данного общества, придающих ему такую форму, что люди хотят делать то, что они должны делать для обеспечения должного функционирования общества. То, что они хотят делать, зависит от доминирующих в их характере чувств, которые были сформированы нуждами и требованиями особой социальной системы. Различия, вызванные разницей семейных ситуаций, незначительны по сравнению с дифференциацией, создаваемой различными структурами общества и присутствующей в соответствующих классах. У члена класса феодалов должен был развиться такой характер, который позволял бы феодалу править другими и делал бы его нечувствительным к их страданиям. У буржуазного класса XIX столетия должен был развиться анальный характер, определяемый желанием экономить и запасать, а не тратить. В XX веке представитель того же класса уже считал накопление не главной добродетелью, а скорее пороком по сравнению с таким поведением, как траты и потребление. Подобное развитие было вызвано фундаментальными экономическими потребностями: в период первичного накопления капитала бережливость была необходима; в период массового производства вместо бережливости величайшее экономическое значение приобрело расходование средств. Если бы неожиданно человек XX века приобрел характер века XIX, экономика столкнулась бы с тяжелым кризисом, если не рухнула[39]. До сих пор я в очень упрощенном виде описывал проблему отношений между индивидами и социальной психологией. Более полный анализ данного вопроса, который вышел бы за рамки этой книги, потребовал бы проведения различий между потребностями или страстями, коренящимися в человеческом существовании, и теми, которые обусловлены в первую очередь не обществом, а самой природой человека и отсутствие которых следовало бы рассматривать как результат подавления или серьезной социальной патологии. Это – стремления к свободе, солидарности, любви.
Если освободить систему Фрейда от ограничивающего ее влияния теории либидо, то концепция характера приобретает еще большее значение, чем придавал ей сам Фрейд. Для этого требуется преобразовать индивидуальную психологию в социальную и ограничить индивидуальную психологию знанием лишь небольших вариаций, вызванных индивидуальными специфическими обстоятельствами, влияющими на базовую социально детерминированную структуру характера. Несмотря на критику фрейдовской концепции характера, следует снова подчеркнуть, что открытие Фрейдом динамической концепции характера дает ключ к пониманию мотивации индивидуального и социального поведения и в определенной мере позволяет его предсказывать.
Значение детства
К великим открытиям Фрейда относится и осознание значимости раннего детства. Это открытие имеет несколько аспектов. Младенцу уже свойственны сексуальные (либидозные) влечения, хотя еще не генитальные, а, как называл их Фрейд, прегенитальные; сексуальность сосредоточена в «эрогенных зонах» рта, ануса и кожи. Фрейд видел надуманность буржуазных представлений о «невинном» ребенке и показал, что с момента рождения младенец обладает многими либидозными влечениями прегенитальной природы.
Во времена Фрейда миф о невинности ребенка, который ничего не знает о сексе, был общепринятым[40]; более того, никто не догадывался о том важном значении, которое опыт детства, особенно раннего детства имеет для развития характера и тем самым всей судьбы человека. Благодаря Фрейду все это изменилось. Он сумел на многих клинических примерах показать, как события раннего детства, особенно имеющие травматический характер, формируют характер ребенка в такой степени, что можно заключить: еще задолго до полового созревания, за редкими исключениями, характер человека определяется и не претерпевает дальнейших изменений. Фрейд показал, как много ребенок знает, насколько он чувствителен, как события, кажущиеся взрослому незначительными, глубоко воздействуют на его развитие и последующее формирование невротических симптомов. Впервые ребенка и то, что с ним происходит, начали рассматривать всерьез, настолько всерьез, что стало казаться: в событиях раннего детства найден ключ ко всему позднейшему развитию. Многие клинические данные подтверждают справедливость и мудрость заключений Фрейда, но, как мне представляется, они также показывают и определенную ограниченность его теоретических выводов.
Прежде всего Фрейд недооценивал значение конституциональных, генетических факторов в формировании характера ребенка. Теоретически он их признавал, отмечая, что за развитие человека отвечают как особенности конституции, так и жизненный опыт, но на практике и он сам, и большинство психоаналитиков пренебрегали генетическими характеристиками; примитивный фрейдизм исходит из того, что исключительно семья и ранний опыт отвечают за развитие ребенка. Это зашло настолько далеко, что психоаналитики и родители стали считать, будто невротичный, или испорченный, или несчастный ребенок, должно быть, имеет родителей, вызвавших это негативное состояние, в то время как здоровый и счастливый ребенок, напротив, растет в здоровом и счастливом окружении. Фактически родителям приписывается вся вина за нездоровое развитие ребенка, так же как и вся заслуга, если детство оказывается счастливым. Все данные говорят о том, что это не так. Вот хороший пример: психоаналитик видит перед собой невротичного, изломанного человека, детство которого было ужасно, и говорит: «Несомненно, именно события детства привели к такому исходу». Если же он задаст себе вопрос о том, сколько он видел замечательно счастливых и здоровых людей, выросших в семьях такого же типа, у него должны возникнуть сомнения по поводу простой связи между событиями детства и психическим здоровьем или болезнью.
Главная причина такого разочарования в теории скорее всего кроется в том, что аналитик игнорирует различия в генетической предрасположенности. Это видно на простом примере: даже среди новорожденных имеются различия в уровне агрессивности или робости. Если у агрессивного ребенка мать тоже агрессивна, она не принесет ему особого вреда, а может быть, даже сделает много хорошего. Ребенок научится бороться с ней и не бояться ее агрессивности. Если же такая мать окажется у робкого ребенка, он будет испытывать перед ее агрессивностью страх и станет запуганным, покорным, а позднее и невротичным человеком.
Тут мы касаемся старой и многократно обсуждавшейся проблемы «природа или воспитание»: какое влияние преобладает – генетической предрасположенности или окружающей среды. Обсуждение этой проблемы так и не привело к окончательным выводам. Мой собственный опыт говорит о том, что генетическая предрасположенность играет гораздо более важную роль в формировании определенного характера, чем считает большинство психоаналитиков. Я полагаю, что одной из целей анализа должна быть реконструкция картины того, каким ребенок родился, чтобы можно было определить: какие черты у объекта анализа являются частью его натуры и какие приобретены под влиянием важных обстоятельств жизни, и более того: какие из приобретенных черт противостоят врожденным, а какие их усиливают. Мы часто обнаруживаем, что по желанию родителей (их собственному или как представителей общества) ребенок бывает вынужден подавлять или ослаблять свою врожденную предрасположенность и заменять ее теми чертами, которые желательны обществу. В этом мы и находим корни невротического развития; у человека появляется чувство ложной идентичности. В то время как настоящая идентичность основывается на осознании своей самости, то есть того, каков человек от рождения, псевдоидентичность порождается теми личностными чертами, которые человеку навязывает общество. В результате человек испытывает постоянную потребность в одобрении, чтобы сохранять равновесие. Настоящая идентичность не нуждается в таком одобрении, потому что представление человека о самом себе идентично с его аутентичной личностной структурой.
Открытие важности событий раннего детства для развития человека может с легкостью приводить к недооценке значимости более позднего опыта. Согласно теории Фрейда, характер человека более или менее полностью формируется к семилетнему или восьмилетнему возрасту; поэтому фундаментальные изменения в более позднем возрасте считаются практически невозможными. Эмпирические данные, впрочем, показывают, что такой вывод преувеличивает роль детства. Несомненно, если условия, помогавшие формированию характера человека в детстве, сохраняются, то структура характера, вероятно, останется той же самой. Далее, следует признать, что это верно для большинства людей, которые в позднейшей жизни продолжают жить в условиях, сходных с существовавшими в их детстве. Однако взгляды Фрейда отвлекли внимание от тех случаев, когда благодаря радикально новому опыту радикально меняется и человек. Возьмем, например, людей, которые в детстве были уверены, что никто никогда не станет заботиться о них, если этому человеку от них что-то не понадобится, что не существует любви и симпатии, которые не являлись бы платой за услуги или взяткой. Человек может прожить всю жизнь, не столкнувшись с кем-то, кто проявит к нему интерес или привязанность, ничего не ожидая взамен. Однако если такой человек встретит настоящую заинтересованность со стороны другого человека, которому ничего от него не нужно, это может разительно изменить такие черты его характера, как подозрительность, боязливость, убеждение в том, что его никто не любит. Конечно, Фрейд со своими буржуазными взглядами и неверием в любовь не ожидал бы подобного развития событий. В случаях очень резкой перемены характера можно даже говорить о настоящем преображении, полном пересмотре ценностей, ожиданий и установок в связи с тем, что в жизни человека случилось нечто совершенно новое. И все же такое превращение невозможно, если человек уже не обладает внутренним потенциалом, проявляющимся в преображении. Я признаю, что поверхностные наблюдения не говорят в пользу таких выводов, потому что люди обычно не меняются, но нужно иметь в виду, что большинство людей не сталкивается с чем-то по-настоящему новым. Человек обычно находит то, что ожидает найти, и это препятствует появлению фундаментально нового опыта, приводящего к фундаментальному изменению характер.
Трудность выяснения того, каким был человек в момент рождения и в первые месяцы жизни, заключается в том, что едва ли кто-то помнит, что тогда чувствовал. Самые ранние воспоминания обычно относятся ко второму или третьему году жизни; в этом и скрыта основная проблема, связанная с заключением Фрейда о важности раннего детства. Он пытался разрешить ее благодаря изучению трансфера. Иногда это давало результаты, но при изучении историй болезни пациентов школы Фрейда приходится признать, что многое из считавшегося впечатлениями раннего детства – всего лишь реконструкция. А такие реконструкции очень ненадежны. Они основаны на постулатах теории Фрейда, и убеждение в их аутентичности часто является продуктом искусного промывания мозгов. Хотя считается, что психоаналитик остается на эмпирическом уровне, в действительности он тонко подсказывает пациенту, что тот должен был бы пережить, и пациент в силу своей зависимости от аналитика очень часто заявляет – или, как часто пишется в истории болезни – «признает», что искренне чувствует именно то, что, как ожидается на основании теоретической конструкции, должен чувствовать. Несомненно, аналитику не следует ничего навязывать пациенту. Однако чувствительный – и даже не слишком чувствительный – пациент через некоторое время улавливает, что аналитик ожидает от него услышать, и соглашается с той интерпретацией, которая подтверждает предположение аналитика о том, что должно было случиться. Кроме того, необходимо учитывать, что ожидания аналитика основываются не только на требованиях теории, но и на буржуазном представлении о том, что собой представляет «нормальный» человек. Предположим, например, что у данного человека стремление к свободе и протест против подчинения несправедливым требованиям развиты особенно сильно; в этом случае аналитик может счесть, что сама мятежность этого человека имеет иррациональную основу и может быть объяснена Эдиповой ненавистью сына к отцу, коренящейся в сексуальном соперничестве из-за матери-жены. Тот факт, что детьми управляют и манипулируют и в детстве, и в последующей жизни, рассматривается как нормальный, а бунтарство, таким образом, как нечто иррациональное.
Я хотел бы указать на еще один осложняющий фактор, как правило, не привлекающий к себе внимания. Отношения между родителями и детьми обычно рассматриваются как улица с односторонним движением, а именно, как влияние родителей на детей. Однако часто игнорируется то обстоятельство, что это влияние совсем не одностороннее. У родителя может естественным образом возникнуть неприязнь к ребенку, даже новорожденному, не только в силу часто обсуждаемых причин – того, что ребенок нежеланный или у родителя деструктивные, садистские наклонности, – но и потому, что родитель и ребенок просто несовместимы по своей природе, и в этом смысле их взаимоотношения не отличаются от таковых между взрослыми. Родитель может просто не любить детей того типа, к которому принадлежит его собственный ребенок, а ребенок с самого начала чувствует эту неприязнь. С другой стороны, ребенок может не любить людей такого типа, как его родители; будучи слабее родителей, он подвергается наказаниям за эту неприязнь при помощи более или менее тонких санкций. Ребенок – и в равной степени мать – вынужден мириться с ситуацией, когда мать должна заботиться о нем, а ребенок – ее терпеть, несмотря на тот факт, что они от всей души друг друга не любят. Ребенок не в состоянии выразить это словами; мать должна испытывать чувство вины, если признается себе, что не испытывает симпатии к рожденноу ею ребенку; в результате оба ощущают особого рода напряженность и наказывают друг друга за то, что оказались принуждены к нежеланной близости. Мать притворяется, будто любит ребенка, и тонким образом наказывает его за то, что вынуждена это делать; ребенок так или иначе притворяется, что любит мать, потому что его жизнь полностью от нее зависит. В подобной ситуации очень много лжи, и ребенок часто выражает это собственными непрямыми способами, восстает, а мать отрицает это, потому что чувствует: нет ничего более постыдного, чем не любить собственных детей.
3. Фрейдовская теория толкования сновидений
Величие и ограничения открытия Фрейдом толкования сновидений
Если бы Фрейд не создал теории неврозов и не разработал метода их лечения, он все равно был бы одной из самых выдающихся фигур в науке о человеке, потому что открыл искусство толкования сновидений. Разумеется, люди почти во все времена пытались толковать сны. Да и как могло бы быть иначе, если человек, проснувшись утром, помнит о странных событиях, которые происходили в его сновидении? Существовало множество способов истолкования снов – некоторые из них основывались на суевериях и всяких иррациональных идеях, другие – на глубоком понимании значимости сновидений. Это понимание как нельзя глубже было выражено в Талмуде: «Сон, который не был истолкован, подобен письму, которое не было вскрыто». Это утверждение выражает осознание того, что сновидение – наше послание самим себе, которое мы должны понять, чтобы лучше понять себя. Однако несмотря на долгую историю толкования снов, Фрейд был первым, кто поставил интерпретацию сновидений на систематическую научную основу. Он снабдил нас для этого инструментами, которыми может пользоваться каждый, кто научится это делать.
Едва ли можно преувеличить значение толкования сновидений. В первую очередь они позволяют нам осознать те мысли и чувства, которые у нас имеются, но о которых в бодрствующем состоянии мы не отдаем себе отчет. Сновидение, как однажды сказал Фрейд, – это королевская дорога к пониманию бессознательного. Во-вторых, сон – акт творчества, благодаря которому средний человек демонстрирует творческие силы, о которых наяву и не подозревает. Далее, Фрейд открыл, что сны – не просто отражение бессознательных влечений, но что они обычно подвергаются влиянию тонкого контроля, присутствующего, даже когда мы спим, и заставляющего нас искажать истинный смысл мыслей во сне («латентное сновидение»). Однако цензора все же можно обмануть, что позволяет скрытым мыслям пересечь границу сознания, если они достаточно замаскированы. Такая концепция привела Фрейда к заключению, что все сновидения искажены (кроме детских), и их настоящее значение нужно восстанавливать с помощью толкования.
Фрейд создал общую теорию сновидений. Он предположил, что человек во сне испытывает множество импульсов и желаний, особенно сексуального характера, которые разбудили бы его, если бы не то обстоятельство, что во сне он ощущает эти желания как исполнившиеся и поэтому не должен просыпаться, чтобы осуществить их наяву. Для Фрейда сновидения были замаскированным выражением исполнения сексуальных желаний. Сон как исполнение желания был тем фундаментальным прозрением, которое Фрейд внес в область интерпретации сновидений.
Очевидным возражением на эту теорию является тот факт, что мы нередко видим кошмары, которые трудно истолковать как исполнение желания, поскольку они бывают настолько болезненны, что прерывают сон. Однако Фрейд изобретательно преодолел это препятствие. Он указывал, что существуют садистские или мазохистские желания, вызывающие большое беспокойство, но в сновидении они все равно исполняются, хотя другая часть нас их боится.
Логичность фрейдовской системы интерпретации сновидений настолько поразительна, что его концепции образуют очень впечатляющую рабочую гипотезу. Если, впрочем, не разделять базового допущения Фрейда насчет сексуального характера желаний, то потребуются другие соображения. Вместо положения о том, что сновидение – искаженное отображение желания, можно предположить, что сновидение отражает любое чувство, желание, опасение или мысль, достаточно важные, чтобы оказаться представленными во сне, и что их появление как раз и говорит об их важности. Мои наблюдения свидетельствуют о том, что многие сновидения выражают не желание; они предлагают прозрение относительно собственной ситуации человека или личностей других людей. Чтобы оценить эту функцию, нужно рассмотреть особенности состояния сна. Во сне мы освобождены от необходимости трудиться для поддержания своего существования или защищаться от возможных опасностей (только сигнал о непосредственной угрозе способен нас разбудить). Мы не подвержены влиянию социального «шума», под которым я подразумеваю мнения окружающих, житейские мелочи или общепринятые предрассудки. Наверное, можно сказать, что сон – это единственное время, когда мы действительно свободны. Такое положение имеет последствия: мы видим мир субъективно, а не руководствуясь объективной точкой зрения, воздействующей на нас наяву, – то есть той реальностью, которой должны манипулировать. Например, во сне огонь может выражать любовь или деструктивность, но это не тот огонь, на котором можно испечь пирог. Сновидение поэтично, оно говорит на универсальном языке символов, которые по большей части одинаковы для всех времен и всех культур. Это тот универсальный язык, который, вместе с поэзией и искусством, создало человечество. Во сне мы видим мир не таким, каким должны его видеть, чтобы им управлять; скорее нам открывается тот поэтический смысл, который мир имеет для нас.
Проникновение Фрейда в природу сновидений, впрочем, оказалось чрезвычайно ограниченным в силу особенностей его личности. Фрейд был рационалистом, лишенным склонности к искусству или поэзии и поэтому почти нечувствительным к символическому языку, говорят ли на нем сновидения или поэзия. Отсутствие этой способности выражалось в очень узком понимании символов. Фрейд рассматривал их или как сексуальные (а тут возможности очень широки, поскольку линия и круг – чрезвычайно распространенные формы символизма), или как раскрывающиеся лишь через ассоциации с тем, с чем еще они связаны. В этом заключается одно из самых странных противоречий: Фрейд, специалист по анализу иррационального и символического, сам был так мало способен понимать символы. Это особенно бросается в глаза, если мы сравним Фрейда с одним из величайших интерпретаторов символов – Иоганном Якобом Бахофеном, открывателем матриархата. Для него символ обладал богатством и глубиной, далеко выходящими за рамки термина «символ». Бахофен был способен посвятить множество страниц единственному символу – например, яйцу, в то время как Фрейд интерпретировал бы этот символ как «очевидно» выражающий некий аспект сексуальной жизни. Для Фрейда сновидение требовало поиска почти бесконечной цепи ассоциаций с его различными частями, и очень часто оказывалось, что в результате процесса истолкования удавалось узнать о значении сновидения ненамного больше, чем было известно ранее.
Роль ассоциаций в толковании сновидений
Чтобы дать пример применения фрейдовского метода ассоциаций, приведу содержание сна in extenso (полностью) и его интерпретацию. Это сон, который видел сам Фрейд и который составил часть его самоанализа [9; 170–174].
«Сон о монографии по ботанике. Я написал монографию об одном растении. Книга лежит передо мной, и я в этот момент разворачиваю сложенную цветную иллюстрацию. В каждый экземпляр книги вложено засушенное растение, как будто взятое из гербария.
Анализ. Утром накануне я видел в витрине книжной лавки новую книгу, называвшуюся «Род цикламена», – несомненно, монографию об этом растении. Цикламены, подумал я, любимые цветы моей жены, и я упрекнул себя за то, что так редко вспоминаю о том, чтобы принести ей цветы, которые ей очень нравятся. Мысль о том, чтобы принести цветы, напомнила мне историю, которую я недавно вновь рассказал в кругу друзей и которую использовал как доказательство в пользу своей теории о том, что забывание часто определяется бессознательной целью и всегда позволяет догадаться о тайных намерениях того человека, который забыл[41].
Молодая женщина привыкла получать букет цветов от мужа на свой день рождения. Однажды этот знак внимания не появился, и она расплакалась. Ее муж, войдя в комнату, не мог понять причины ее слез до тех пор, пока она не сказала ему о том, что это был ее день рождения. Он хлопнул рукой по лбу и воскликнул: «Прости, я совершенно забыл. Я сейчас же пойду и принесу тебе цветы». Однако женщину это не утешило: она поняла, что забывчивость мужа – доказательство того, что она больше не занимает того же места в его мыслях, что раньше. Эта дама, фрау Л., повстречалась с моей женой за два дня до того, как я увидел свой сон, сообщила ей, что чувствует себя хорошо, и справилась обо мне. За несколько лет до того она у меня лечилась.
Теперь у меня возник новый поток мыслей. Однажды, вспомнил я, я действительно написал что-то вроде монографии о растении, а именно – диссертацию о растении кока (1884), которая привлекла внимание Карла Коллера к обезболивающим свойствам кокаина. Я сам указал на такое применение алкалоида в своей опубликованной статье, но не провел достаточно полных исследований, чтобы развивать тему дальше. Это напомнило мне о том, что утром после того, как я увидел сон, – я до вечера не нашел времени интерпретировать его, – я видел что-то вроде сна наяву о кокаине. Если у меня когда-нибудь разовьется глаукома, думал я, нужно будет поехать в Берлин и подвергнуться операции, инкогнито, в доме моего друга (Флисса), пригласив хирурга, которого он мне порекомендует. Этот хирург, который не подозревал бы о том, кто я такой, стал бы, наверное, говорить, как легко делать такие операции с тех пор, как введен в употребление кокаин; я не подал бы ни малейшего намека на то, что участвовал в этом открытии. Такая фантазия вызвала у меня размышления о том, как неловко, в конце концов, врачу обращаться за медицинской помощью к своим коллегам. Берлинский хирург-офтальмолог не знал бы меня, и я смог бы заплатить ему, как любой другой пациент. Только когда я вспомнил это сновидение наяву, я понял, что за ним лежит воспоминание об определенном событии. Вскоре после открытия Коллера мой отец действительно заболел глаукомой; мой друг доктор Кёнигштейн, хирург-офтальмолог, прооперировал его; доктор Коллер осуществил анестезию кокаином и отметил, что этот случай свел вместе всех троих, кто имел отношение к введению кокаина в употребление.
Потом мои мысли вернулись к случаю, когда мне в последний раз напомнили о том деле с кокаином. Это было за несколько дней до моего сна, когда я просматривал сборник, которым благодарные ученики отметили юбилей своего учителя, директора лаборатории. Среди достижений лаборатории, перечисленных в сборнике, я нашел упоминание о том, что Коллер открыл обезболивающие свойства кокаина. Тут я неожиданно понял, что мой сон был связан с событиями предыдущего вечера. Я возвращался домой именно с доктором Кёнигштейном и разговорился с ним о предмете, который никогда не оставляет меня равнодушным. Пока я разговаривал с ним в вестибюле, к нам присоединились профессор Гертнер (что значит «садовник») с женой, и я не мог удержаться, чтобы не поздравить их обоих с их цветущим видом. Однако профессор Гертнер был одним из авторов юбилейного сборника, который я только что упомянул, и вполне мог мне о нем напомнить. Более того, фрау Л., чье разочарование в день рождения я описывал выше, была названа – хотя, правда, по другому поводу, – в моем разговоре с доктором Кёнигштейном.
Я попытаюсь также истолковать и другие обстоятельства, определившие содержание моего сна. В монографию был вложен высушенный образец растения, как если бы это был гербарий. Это вызвало у меня воспоминание об учебе в гимназии. Наш учитель однажды собрал учеников старших классов и вручил им школьный гербарий, чтобы они его просмотрели и почистили. В него пробрались какие-то мелкие червячки – книжные черви. Учитель, видимо, не питал ко мне особого доверия, потому что вручил мне всего несколько листов. Как мне помнится, они содержали образцы крестоцветных. Я никогда особенно не любил ботаники. На экзамене по этому предмету мне также предложили определить крестоцветные, – что мне не удалось сделать. Мои перспективы не были бы особенно блестящими, если бы мне не помогло знание теории. Я перешел от крестоцветных к сложноцветным; я сообразил, что артишоки – как раз сложноцветные, и их-то я действительно мог назвать своими любимыми цветами. Будучи более щедрой, чем я, моя жена часто приносит с рынка эти мои любимые цветы.
Я видел, что передо мной лежит монография, которую я написал. Это в свою очередь напомнило мне кое о чем. Накануне я получил письмо от моего друга Флисса из Берлина, в котором тот продемонстрировал свою способность к визуализации: «Меня очень занимает твоя книга о сновидениях. Я вижу ее оконченной и лежащей передо мной, я вижу, как перелистываю страницы»[42]. Как же я завидовал его дару провидца! Если бы я только мог увидеть лежащей перед собой свою книгу!
Сложенная цветная иллюстрация. Когда я был студентом-медиком, я постоянно испытывал соблазн все изучать по монографиям. Несмотря на ограниченные средства, я сумел приобрести несколько томов известий медицинских обществ, и меня восхищали их цветные иллюстрации. Я гордился своим стремлением к доскональности. Когда я сам начал публиковать статьи, я был обязан сам делать иллюстрации к ним, и я помню, что одна из них была такой ужасной, что мой друг и коллега посмеялся надо мной. Потом у меня возникло – не знаю, каким образом – воспоминание из очень ранней юности. Однажды моему отцу показалось забавным отдать книгу с цветными иллюстрациями (описание путешествия по Персии) мне и моей самой старшей сестре на растерзание. Нелегко оправдать это с точки зрения воспитания! Мне в то время было пять лет, сестре еще не исполнилось трех; картина того, как мы двое с наслаждением рвем книгу на части (листок за листком, как артишок, поймал я себя на мысли), оказалась почти единственным живым воспоминанием, сохранившимся с того периода моей жизни. Потом, став студентом, я испытывал страсть к собиранию книг, аналогичную страсти к изучению монографий: любимое увлечение (слово «любимое» уже появлялось в связи с цикламенами и артишоками). Я сделался книжным червем. Я всегда, с того времени, когда впервые начал размышлять о себе, объяснял эту свою страсть тем детским воспоминанием, о котором только что упомянул, или, скорее, понял, что та сцена моего детства была «прикрывающим воспоминанием» моих позднейших библиофильских пристрастий (см. мою статью о прикрывающих воспоминаниях в [8]). И я рано обнаружил, конечно, что страсти часто имеют печальные последствия. Мне было семнадцать, мой счет в книжной лавке оказался большим, платить мне было нечем, а мой отец не счел оправданием то обстоятельство, что у меня могли бы появиться и худшие наклонности. Воспоминание об этих обстоятельствах моей юности в более позднем возрасте сразу же вернуло мои мысли к разговору с моим другом доктором Кёнигштейном. В этой беседе мы обсуждали вопрос о том, что меня упрекают в излишнем погружении в мои любимые увлечения.
По причинам, сюда не относящимся, я не стану продолжать толкование своего сна, а лишь намечу направление, в котором оно шло бы. В ходе анализа мне пришлось вспомнить о своем разговоре с доктором Кёнигштейном не по одному только поводу. Если учесть темы, затронутые в том разговоре, смысл сна делается понятным. Все мысли, вызванные тем сновидением, – мысли о моей жене и о моих любимых цветах, о кокаине, о неудобстве обращения за медицинской помощью к коллегам, о моем предпочтении изучения монографий, о моем пренебрежении к некоторым областям науки, таким как ботаника, – все эти мысли при дальнейшем рассмотрении вели в конце концов к той или иной детали моего разговора с доктором Кёнигштейном. Опять сновидение, как и то, которое было проанализировано первым, – сон об инъекции Ирме, – имело природу самооправдания, защиты моих прав. Более того, оно развивало тему, затронутую в более раннем сне, и использовало свежий материал, полученный в промежутке между двумя сновидениями. Даже явно безразличная форма, которую принял сон, оказалась имеющей значение. Значило сновидение следующее: «В конце концов, я – человек, который написал ценную и памятную статью (о кокаине)», точно так же, как в более раннем сне я говорил в свою защиту: «Я ответственный и прилежный студент».
В обоих случаях я настаивал на следующем: «Я могу позволить себе делать это». Однако мне нет надобности продолжать толкование сновидения, поскольку моя единственная цель при его описании заключалась в иллюстрации связи между содержанием сновидения и событиями предыдущего дня, которые его и вызвали. До тех пор, пока я осознавал только явный смысл сна, казалось, что сновидение связано с единственным впечатлением того дня. Однако анализ выявил второй источник сна, заключавшийся в другом происшествии того же дня. Первое из двух впечатлений, с которыми был связан сон, оказалось второстепенным, побочным обстоятельством. Я увидел в витрине книгу, название которой на мгновение привлекло мое внимание, но тема которой едва ли могла меня заинтересовать. Второе событие обладало высокой степенью психической значимости: я в течение часа вел оживленную беседу со своим другом, хирургом-офтальмологом, и в ходе ее сообщил ему некоторые сведения, которые должны были оказать на нас обоих существенное влияние; это вызвало у меня воспоминания, привлекшие мое внимание к великому разнообразию внутренних стрессов в моем сознании. Более того, наш разговор был прерван до его завершения, поскольку к нам присоединились знакомые».
Что мы обнаружим при анализе фрейдовского анализа? Он приводит различные ассоциации, связанные со сновидением, – одну про молодую женщину, которая жаловалась, что муж забыл принести ей в день рождения цветы, другую про свою диссертацию, посвященную растению кока, которая привлекла внимание Карла Коллера к анестезирующим свойствам кокаина. Высушенное растение вызывает ассоциацию со школьной жизнью Фрейда, когда учитель поручил ему почистить гербарий. Вид лежащей перед ним монографии напоминает Фрейду о чем-то, что днем ранее написал ему его друг Флисс, а сложенная цветная иллюстрация – о его неспособности делать иллюстрации и страсти к приобретению книг. Потом Фрейд продолжает говорить о своей беседе с доктором Кёнигштейном.
Если задаться вопросом о том, что мы узнали о Фрейде из этой интерпретации сновидения, боюсь, придется признать, что мы не узнали почти ничего. И все же значение сна совершенно очевидно и действительно чрезвычайно важно как ключ к пониманию личности Фрейда.
Цветок – символ любви, Эроса, дружбы и радости. Что же Фрейд сделал с любовью и радостью? Он обратил их в объекты научного исследования; любовь и радость покинули цветок, который теперь высушен и превратился в предмет сухих рассуждений. Что могло бы еще полнее охарактеризовать всю жизнь Фрейда? Он сделал любовь (в его терминологии – сексуальность) объектом научных наблюдений; этот процесс высушил ее и лишил значения человеческого переживания. Именно это так ясно выражается в сновидении Фрейда, но при этом, нагромождая ассоциацию на ассоциацию, что практически ничего не дает, он умудряется скрыть понимание значения сна: трансформации любви из явления жизни в научный объект. Этот сон, как и многие другие, является примером того, что Фрейд с помощью бесчисленных ассоциаций очень часто прячет настоящее значение сновидения, потому что не хочет видеть этого значения. Другими словами, фрейдовский метод поиска бесконечных ассоциаций – выражение сопротивления пониманию значения собственных снов.
Ограничения толкования Фрейдом собственных сновидений
В анализе следующего сновидения не прослеживаются черты описанного выше метода – нагромождения бесконечных ассоциаций. Их использование здесь относительно просто; внимание привлекает проявленное Фрейдом сопротивление толкованию довольно очевидного материала сновидения. «Весной 1897 года, – пишет Фрейд, – я узнал, что два профессора нашего университета рекомендовали меня на должность professor extraordinarius[43]. Новость удивила и очень порадовала меня, поскольку говорила о признании моих заслуг двумя выдающимися людьми, что не могло быть отнесено за счет каких-либо личных соображений. Однако я сразу же предостерег себя от того, чтобы испытывать особые ожидания. На протяжении последних лет министерство отвергало подобные рекомендации, и несколько моих коллег, старших по возрасту и по крайней мере равных мне по заслугам, напрасно ждали назначения. У меня не было оснований надеяться, что меня ждет лучшая участь. Поэтому я решил ожидать будущего со смирением. Насколько я себя знаю, я не амбициозный человек; я занимаюсь своим делом, радуясь успеху, даже и без преимуществ, которые дает звание. Более того, мне не приходилось решать, зелен ли виноград: он висел слишком высоко над моей головой.
Однажды вечером меня посетил коллега – один из тех, чей пример я воспринимал как предостережение для себя. Он уже давно являлся кандидатом на должность профессора, а это звание в нашем обществе делает человека полубогом для его пациентов. Менее скромный, чем я, он имел привычку выражать свое почтение служащим министерства, рассчитывая поспособствовать своему продвижению. Один из таких визитов он нанес как раз перед тем, как зашел ко мне, и рассказал, что припер к стенке важного чиновника и прямо спросил, имеют ли отношение к задержке его назначения соображения, касающиеся вероисповедания. В ответ мой друг услышал, что, учитывая современное состояние умов, несомненно, в настоящий момент положение его превосходительства не позволяет… «По крайней мере я знаю теперь, как обстоят дела», заключил мой коллега. Это не было для меня новостью и только укрепило чувство безнадежности, поскольку те же соображения, касающиеся вероисповедания, имели место и в моем случае.
На рассвете после посещения моего друга мне приснился сон, чрезвычайно интересный, среди прочего, своей формой. Он состоял из двух мыслей и двух образов – за каждой мыслью следовала картина. Я, впрочем, перескажу только первую половину сновидения, поскольку вторая не имеет отношения к той цели, ради которой я описываю сон.
1. Мой коллега Р. был моим дядей. Я испытывал к нему глубокую привязанность.
2. Я видел перед собой его лицо, несколько изменившееся. Оно как бы удлинилось. Особенно ясно была видна окружающая лицо светлая борода.
За этим последовали две другие части сновидения, которые я опущу; опять же, за мыслью следовала картина.
Интерпретация сновидения происходила следующим образом.
Когда наутро я вспомнил сон, я рассмеялся и сказал: «Какая бессмыслица!» Однако сновидение не хотело уходить и преследовало меня весь день, пока наконец к вечеру я не стал упрекать себя: «Если бы один из твоих пациентов не придумал ничего лучше, чем назвать сон бессмыслицей, ты стал бы расспрашивать его и заподозрил, что за сном скрывается какая-то неприятная история, и пациент старается избежать осознания этого. Примени тот же подход к себе. Твое мнение о том, что сон – бессмыслица, означает только, что ты испытываешь внутреннее сопротивление его истолкованию. Не позволяй себе отступиться». Так что я приступил к интерпретации.
«Р. был моим дядей». Что это могло значить? У меня всегда был только один дядя – дядя Иосиф[44]. С ним произошла неприятная история. Однажды – более тридцати лет назад – стремясь подзаработать, он позволил вовлечь себя в предприятие, сурово преследовавшееся законом, и оказался осужден. Мой отец, от горя за несколько дней поседевший, всегда говорил, что дядя Иосиф – человек неплохой, только простак. Так, значит, если Р. был моим дядей Иосифом, не имел ли я в виду, что Р. – простак?
Едва ли правдоподобно и очень неприятно! Однако было еще и лицо, которое я видел во сне, – удлиненное и со светлой бородой. У моего дяди действительно было такое лицо – удлиненное и окруженное красивой светлой бородой. Мой коллега Р. с молодости был очень темноволос, но когда темноволосые люди начинают седеть, они расплачиваются за красоту своей юности. Волос за волосом их черные бороды претерпевают неприятное изменение цвета: сначала делаются рыжевато-каштановыми, и только потом – явно седыми. Борода моего коллеги Р. в то время как раз проходила эту стадию, – так же как и моя собственная, как я с неудовольствием заметил. Лицо, которое я видел во сне, было одновременно лицом Р. и лицом моего дяди. Это было похоже на одну из смешанных фотографий Гальтона (чтобы выявить семейное сходство, Гальтон снимал несколько лиц на одну и ту же пластинку). Так что не могло оставаться сомнений: я действительно имел в виду, что Р. – простак, как мой дядя Иосиф.
У меня все еще не было никакого представления о том, какой могла быть цель такого сравнения, чему я продолжал сопротивляться. Сходство не могло быть очень глубоким, потому что мой дядя являлся преступником, а у Р. репутация была безупречна, если не считать штрафа за то, что он на велосипеде сбил мальчика. Не мог ли я иметь в виду этот проступок? Такое предположение было просто смешным. В этот момент я вспомнил другой разговор, с другим своим коллегой, Н., который состоялся за несколько дней до того и, как я теперь вспомнил, касался того же предмета. Я повстречал Н. на улице. Его тоже рекомендовали на должность профессора. Он слышал о той чести, которая была оказана мне, и стал поздравлять с ней, но я решительно отказался принять поздравления. «Вы – последний, кто мог бы так шутить, – сказал я ему. – Вы знаете, чего стоит подобная рекомендация, на собственном опыте». «Кто может сказать? – ответил он, как мне показалось, не очень серьезно. – Против меня определенно были некоторые обстоятельства. Разве вы не знаете, что одна женщина подала на меня в суд? Мне не нужно говорить вам, что дело даже не дошло до разбирательства. Это была бессовестная попытка шантажа, и мне с трудом удалось избавить истицу от наказания. Однако, возможно, в министерстве используют тот случай как повод для того, чтобы меня не назначить. Но ведь у вас-то безупречная репутация». Теперь мне стало понятно, кто был преступником, и в то же время сделалось ясно, как следовало интерпретировать сон и какова была его цель. Мой дядя Иосиф совмещал в одном лице двух моих коллег, которых не назначили профессорами, – одного как простака, а другого как преступника. Я теперь также увидел, почему они представлены в таком свете. Если назначение моих коллег Р. и Н. откладывалось по причинам, связанным с вероисповеданием, мое собственное назначение тоже находилось под вопросом; если же отказ моим друзьям был связан с другими причинами, неприложимыми ко мне, то я все же могу надеяться. Такую процедуру избрал мой сон: показал, что если Р. – простак, а Н. – преступник, а я не был ни тем, ни другим, то у нас не было ничего общего, и я мог радоваться представлению на должность и не тревожиться о том, что ответ министерского чиновника Н. должен распространяться и на меня.
Однако я чувствовал, что обязан продолжать толкование сновидения; я чувствовал, что еще не завершил его удовлетворительно. Меня все еще смущало легкомыслие, с которым я принизил двух своих уважаемых коллег, чтобы оставить открытой себе дорогу к профессуре. Мое недовольство собственным поведением, впрочем, уменьшилось, когда я понял, какую цену следует приписывать образам сновидения. Я был готов категорически отрицать, что действительно считаю Р. простаком, и не верил в грязное обвинение, предъявленное Н., как не верил я и в то, что Ирма опасно заболела вследствие того, что Отто сделал ей инъекцию пропила. В обоих случаях сновидения выражали только мое желание, чтобы это было так. Ситуация с исполнением моего желания во втором сновидении казалась менее абсурдной, чем в более раннем, действительные факты в его конструкции использовались более искусно, как при тонкой клевете того типа, которая заставляет людей считать, что «в этом что-то есть». Ведь один из профессоров на своем факультете голосовал против моего коллеги Р., а Н. по наивности дал мне материал для подозрений. Так или иначе, должен повторить, что сон, как мне казалось, нуждался в дальнейшем прояснении.
Потом я вспомнил, что имеется еще часть сновидения, не затронутая интерпретацией. После того как у меня возникла мысль, что Р. – мой дядя, во сне я стал испытывать к нему теплое чувство. С чем это чувство было связано? Я, естественно, никогда не испытывал привязанности к моему дяде Иосифу. Мне нравился Р., и я уважал его на протяжении многих лет, но если бы я отправился к нему и стал выражать свои чувства – такие, какими они были в моем сновидении, – он, несомненно, очень бы удивился. Моя привязанность к Р. показалась мне неискренней и преувеличенной – как оценка его интеллектуальных качеств, выраженная в смешении его личности с личностью моего дяди, хотя в этом преувеличение было бы обращено в противоположном направлении. Передо мной забрезжил новый свет. Привязанность во сне не относилась к скрытому содержанию, к мыслям, скрывавшимся за сновидением; она находилась в противоречии с ними и должна была скрыть истинную интерпретацию. Возможно, именно здесь крылся raison d’tre [подлинный смысл]. Я вспомнил свое сопротивление тому, чтобы взяться за толкование, то, как долго я его откладывал, как объявил свой сон полной бессмыслицей. Опыт психоанализа научил меня, как следует интерпретировать подобные отрицания: они не имеют ценности как суждения, а просто являются выражением эмоций. Если моя маленькая дочь не хотела яблока, которое ей предлагали, она утверждала, что яблоко кислое, не попробовав его. И если мои пациенты вели себя по-детски, я знал, что их тревожит мысль, которую они хотели бы подавить. То же самое было верно в отношении моего сна. Мне не хотелось его интерпретировать, потому что интерпретация содержала что-то, против чего я боролся, – а именно, против утверждения, что Р. – простак. Привязанность, которую я чувствовал к Р., не могла быть выведена из скрытых сном мыслей, но, несомненно, произрастала из этой моей борьбы. Если мое сновидение было в этом отношении искажено и отличалось от своего скрытого содержания, – искажено до полной противоположности, – то явная привязанность во сне служила цели этого искажения. Другими словами, искажение в данном случае было намеренным и служило средством диссимуляции[45]. Мои мысли во сне содержали своего рода клевету на Р., а чтобы я этого не заметил, во сне проявилось нечто противоположное – чувство привязанности к нему.
Это представлялось открытием, имеющим важность для ситуации в целом. Действительно, как это видно из примеров, приведенных в главе III («Сновидение – это исполнение желания»), существуют сновидения, в которых исполнение желания ничем не прикрыто. Однако в случаях, когда исполнение желания неузнаваемо, когда оно замаскировано, должна существовать склонность выстроить защиту против этого желания, и в силу такой защиты желание оказывается не в силах выразить себя иначе, чем в искаженном виде. Попытаюсь найти этому внутреннему событию сознания параллель в социальной жизни. Где можем мы найти сходное искажение психического акта? Только там, где действуют два человека, один из которых обладает определенной властью, которую второй обязан принимать во внимание. В этом случае второй человек будет искажать свои психические действия или, как можно это назвать, прибегать к диссимуляции. Вежливость, которую я проявляю каждый день, в значительной мере и есть диссимуляция такого рода; когда же я интерпретирую мои сновидения для читателей, я обязан прибегать к подобным же искажениям» [9; 136–142].
Фрейд правильно толкует свой сон в том смысле, что превращение его коллеги Р. в его дядю – выражение уничижительности по отношению к Р., поскольку дядя был чем-то вроде преступника. Фрейд интерпретирует сноидение на основании нескольких простых ассоциаций со своими двумя коллегами, которые должны были быть назначены профессорами, но лишились этой чести потому, что один был простаком, а другой – преступником. Таким образом, отказано им в назначении было не потому, что они – евреи, и у Фрейда появилось больше надежды сделаться профессором. Фрейд говорит о сильном сопротивлении тому, чтобы трактовать сновидение, и мимоходом упоминает о том, что он искажает интерпретацию своих снов для читателей из соображений «вежливости». Фрейд явно опускает упоминание о значении своего сновидения: сила его желания стать профессором заставляет его хотеть, чтобы двое его соперников-евреев не получили назначения по причинам, не связанным с их вероисповеданием. Позднее Фрейд вернулся к этому сну, иллюстрируя им свое заключение о том, что детские желания и импульсы продолжают жить во взрослом человеке. Не признавая того, что принижение коллег было вызвано его собственным желанием стать профессором, он пишет: «Привязанность, которую я во сне чувствовал к своему коллеге Р., была следствием моего сопротивления и протеста против клеветы на моих коллег, которая содержалась в идеях сновидения, – однако продолжает: – Это сновидение было одним из моих собственных, так что я могу продолжить анализ, заявив, что мои чувства все еще не были удовлетворены тем решением, которое было достигнуто. Я знал, что мое суждение о коллегах, так приниженных во сне, наяву будет совсем иным, и сила моего желания не разделить их судьбу в отношении назначения на должность профессора показалась мне недостаточной для объяснения противоречия между оценкой их в бодрствующем состоянии и во сне. Если бы действительно я так страстно желал, чтобы ко мне обращались в соответствии с новым званием, то это говорило бы о патологической амбициозности, которой я за собой не замечал и которая, как мне кажется, мне чужда. Не могу сказать, как другие люди, полагающие, что знают меня, оценили бы меня в этом отношении. Может быть, я действительно амбициозен, но если так, то мои амбиции давно устремлены на объекты, совершенно отличные от звания и должности professor extraordinarious» [9; 191f].
Последнее утверждение звучит довольно решительно. Оно следует логике «не может быть того, чего не должно быть». Фрейд полагает, что не особенно амбициозен. Интересна формулировка решающей фразы. Фрейд говорит о «страстном желании, чтобы к нему обращались в соответствии с новым званием» и тем самым маскирует всю проблему. Как он отмечал ранее, профессор своим пациентам казался полубогом. Назначение на профессорскую должность имело огромное значение для общественного положения и по крайней мере для дохода. Невинными словами «обращались в соответствии с новым званием», как если бы это было совсем малозначимым, Фрейд продолжает отрицать свое стремление быть назначенным профессором. Более того, он утверждает, что патологическая амбициозность ему чужда; называя ее «патологической», Фрейд опять маскирует ситуацию. Что патологического в желании стать профессором, достичь цели, которая, как он признает в другом месте, очень для него важна? Напротив, такая амбиция совершенно нормальна. Он предоставляет другим судить о нем в этом отношении, но ограничивает их число теми, кто «полагает, что знает» его, а не теми, кто действительно знает; в конце концов он минимизирует проблему, говоря, что его «амбиции давно устремлены на объекты, совершенно отличные от звания и должности professor extraordinarius».
Потом, впрочем, Фрейд перефразирует свои слова, говоря об амбициозности, которая вызвала сон, и обсуждая вопрос о том, что могло быть причиной этого. Отвечая на него, он говорит о событии своего детства, когда предсказатель заявил, что в один прекрасный день он станет министром (это было во времена «бюргерского» совета министров, в котором некоторые министры были евреями; другими словами, талантливый еврейский мальчик имел такой шанс). «События того времени, – продолжает Фрейд, – несомненно, в какой-то мере повлияли на мое намерение изучать юриспруденцию, которое сохранялось у меня до самого поступления в университет; передумал я только в последний момент» [9; 192]. Эти слова служат веским доказательством стремления Фрейда к славе; мир потерял бы дары этого гения, если бы Фрейд решил стать юристом. Сон, продолжает Фрейд, на самом деле является исполнением его желания стать министром. «Плохо обойдясь со своими выдающимися учеными коллегами из-за того, что они были евреями, и отнеся одного к простакам, а другого – к преступникам, я вел себя как министр, я ставил себя на место министра. Так я мстил его превосходительству! Он отказался назначить меня professor extraordinarius, и я отплатил ему, заняв в сновидении его место» [9; 192f][46]. Фрейд, столь решительно отрицающий свою амбициозность во взрослом возрасте, утверждает, что проявившиеся в сновидении амбиции – это амбиции ребенка, а не взрослого.
Здесь мы находим одну из предпосылок мышления Фрейда. Те особенности, которые считаются несовместимыми с образом респектабельного профессионала, отнесены в детство, и предполагается, что раз они принадлежат детскому опыту, они не представляют опыт взрослого. Утверждение о том, что все невротические тенденции произрастают из детства, на самом деле служат защитой взрослому от подозрений в том, что он невротик. Фрейд действительно являлся невротиком, но для него было невозможно воспринимать себя как такового и одновременно чувствовать себя нормальным уважаемым профессионалом. Поэтому все, что не соответствовало образу нормального человека, считалось материалом детства, который не рассматривался как все еще полностью живой и присущий взрослому. Все это, конечно, изменилось за последние пятьдесят лет, поскольку невроз стал приметой респектабельности, а образец рационального, здорового, нормального взрослого-буржуа оказался вытеснен с культурной сцены. Однако для Фрейда он все еще имел большое значение, и только полностью понимая это, можно понять тенденцию Фрейда исключать все иррациональное из своей взрослой жизни. В этом кроется одна из причин того, почему его так называемый самоанализ потерпел неудачу: Фрейд обычно не видел того, чего не хотел видеть, – а именно того, что не соответствовало портрету рационального респектабельного буржуа.
Центральным элементом фрейдовского толкования сновидений является концепция цензуры. Фрейд открыл, что сны часто имеют тенденцию маскировать свое истинное значение и выражать его в формах, сходных с теми, которые использует оппозиционный политик во времена диктатуры: скрывает смысл между строк или переносит современные ему события в Древнюю Грецию. Так и для Фрейда сновидение никогда не являлось открытым сообщением, но должно было представлять собой кодированное послание, которое, чтобы сделать понятным, нужно расшифровать. Кодирование должно было происходить таким образом, чтобы даже сам человек, видящий сон, чувствовал себя спокойно, выражая во сне идеи, не соответствующие мыслительным паттернам общества, в котором он живет. Говоря это, хочу подчеркнуть, что цензура имеет социальный характер в большей мере, чем полагал Фрейд, однако в данный момент это несущественно. Значение имеет открытие Фрейдом того, что сон должен быть расшифрован. Впрочем, это утверждение в своей простой и догматической формулировке часто вело к ошибочным результатам. Не каждый сон нуждается в расшифровке, а степень кодирования разных сновидений очень различается.
Необходимо ли кодирование, и если да, то в какой степени, зависит от санкций, которые общество налагает на тех, у кого во сне возникают непозволительные мысли; это также зависит от таких индивидуальных факторов, как покорность и пугливость человека, а отсюда – от того, в какой мере он чувствует необходимость в кодировании опасных мыслей. Когда я говорю «опасных», я не имею в виду именно внешние санкции общества против того, кто опасные идеи питает. Это, несомненно, случается тоже и не обесценивается тем фактом, что в конце концов наши мысли во сне, т. е. наши сны, являются тайными и никто о них не знает. Если так важно избегать опасных мыслей и человек не должен допускать их даже во сне, то это потому, что они должны оставаться глубоко подавленными. Под опасными мыслями я понимаю такие, за которые человек был бы наказан или пострадал бы в повседневной жизни, если бы они стали известны. Такие мысли существуют, как все мы знаем, и человек хорошо понимает, о чем лучше не говорить, а потому лучше и не думать, чтобы не испытать неприятностей. Впрочем, здесь я говорю в основном о мыслях, которые являются опасными не потому, что говорят о чем-то конкретном, за что полагалось бы наказание, а потому, что они выходят за рамки признаваемого здравым смыслом. Это мысли, которые не разделяет больше никто, за исключением, может быть, небольшой группы; таким образом, они приводят к изоляции, одиночеству, отсутствию контактов. Это именно тот опыт, который содержит семя безумия, наступающего, когда человек полностью лишается каких-либо связей с окружающими.
Каким бы важным ни было открытие Фрейдом действий цензуры, оно также причиняло вред пониманию снов, если применялось догматически и по отношению к каждому сновидению.
Символический язык сновидений
Прежде чем продолжить дискуссию о том, каждое ли сновидение искажено, как полагал Фрейд, полезно провести различие между двумя разновидностями символов: универсальными и случайными. Случайный символ не имеет внутренней связи с тем, что символизирует. Предположим, у человека с определенным городом связано печальное событие; когда он слышит название этого города, он с легкостью связывает его с чувством печали, так же как связал бы с чувством радости, если бы событие было радостным. Совершенно очевидно, что в природе города как такового нет ничего ни печального, ни радостного. Именно личный опыт, связанный с городом, делает его символом определенного настроения. Такая же реакция могла бы возникнуть в связи с домом, улицей, одеждой, конкретным пейзажем или еще чем-то, что когда-то было связано со специфическим настроением. Картина во сне представляет именно это настроение, а город «замещает» настроение, когда-то там испытанное. Здесь связь между символом и символизируемым опытом совершенно случайна.
В результате нам требуются знать ассоциации того, кому снился сон, чтобы понять значение случайного символа. Если он не расскажет нам о своем опыте, связанном с приснившимся городом, или о своих отношениях с приснившимся человеком, мы едва ли сможем понять, что символ означает.
Универсальный символ, напротив, это такой, у которого имеются внутренние взаимоотношения между ним и тем, что он представляет. Возьмем, например, символ огня. Нас зачаровывают определенные качества огня в очаге, в первую очередь его живость – огонь постоянно меняется, все время движется, – и в то же время его постоянство. Огонь остается тем же, не будучи тем же. Он оставляет впечатление силы, грации и света. Кажется, что он танцует и обладает неистощимым источником энергии. Когда мы используем огонь как символ, мы описываем внутренний опыт, характеризуемый теми же элементами, которые дает сенсорное ощущение огня: энергией, светом, движением, грацией, радостью; иногда в этом чувстве преобладает один элемент, иногда – другой. Однако огонь может также быть разрушительным и устрашающе могучим; если нам снится горящий дом, огонь символизирует разрушение, а не красоту.
В чем-то сходным, а в чем-то отличным является символ воды – океана или потока. Здесь тоже мы обнаруживаем сплав непрерывного движения и постоянства. Мы также чувствуем живость, продолжительность и энергию. Однако имеется и различие: где огонь безрассудно смел, быстр, волнующ, там вода спокойна, медлительна и неизменна – если речь идет об озере или реке. Океан, впрочем, может быть столь же разрушителен и непредсказуем, как и огонь.
Универсальный символ единственный, в котором связь между символом и тем, что он символизирует, является не случайной, а внутренней. Она коренится в испытываемой человеком близости между эмоцией или мыслью, с одной стороны, и чувственным опытом – с другой. Такой символ может быть назван универсальным, потому что его разделяют все люди, в противоположность не только случайному символу, который по самой своей природе носит полностью личностный характер, но и условному (например, сигналу, регулирующему дорожное движение), имеющему ограниченное значение только для группы людей, живущих в сходных условиях. Универсальный символ проистекает из свойств наших тел, чувств и умов, которые являются общими для всех людей, и поэтому имеет значение не только для отдельных индивидов или групп. Действительно, язык универсальных символов – единственный общий язык, созданный человечеством.
Для Фрейда почти все символы были случайными, за одним исключением – сексуальных; башня или палка рассматривались как символ мужской сексуальности, дом или океан – женской. В отличие от Юнга, который считал, что все сны записаны простым и не закодированным языком, Фрейд придерживался прямо противоположных взглядов: почти ни один сон нельзя понять без расшифровки.
На основании опыта расшифровки сновидений многих людей, включая меня самого, я могу заключить, что Фрейд из-за догматических обобщений ограничил важность собственного открытия цензуры, действующей во сне. Есть много сновидений, в которых цензура проявляется только в поэтическом или символическом языке, на котором выражается содержание, однако это может быть названо «цензурой» только для людей, у которых поэтическое воображение развито слабо. Для тех, кто наделен естественным чувством поэзии, символическая природа языка сновидения едва ли может быть объяснена цензурой.
Ниже я процитирую сновидение (см. [32], гл. 6), которое может быть понято даже без всяких ассоциаций и где отсутствуют элементы цензуры. С другой стороны, можно видеть, что ассоциации, предложенные человеком, видевшим сон, обогащают понимание сновидения.
«Юрист двадцати восьми лет просыпается и вспоминает следующее сновидение, которое позднее пересказывает аналитику.
– Я видел себя едущим на белом коне перед многочисленными солдатами. Они громко приветствовали меня.
Первый вопрос, который аналитик задает пациенту, носит довольно общий характер:
– Что приходит вам на ум?
– Ничего, – отвечает пациент. – Сон глупый. Вы ведь знаете, что я не люблю всего, что относится к войнам и армии, что я наверняка не хотел бы быть полководцем, – и добавляет: – Я также не хотел бы оказаться в центре внимания, чтобы на меня глазели, будут меня при этом приветствовать тысячи солдат или нет. Вы знаете из того, что я говорил вам раньше о своих профессиональных проблемах, как трудно мне даже выступать в суде, когда все на меня смотрят.
– Да, – отвечает аналитик, – но это не отменяет того факта, что таков был ваш сон: вы сами написали его сценарий и отвели себе в нем роль. Несмотря на все очевидные несоответствия, сон должен иметь какое-то значение и смысл. Давайте начнем с ваших ассоциаций с содержанием сновидения. Сосредоточьтесь на картине, которую вы видели во сне, – на самом себе на белом коне, на приветствующих вас войсках, – и скажите мне, что приходит вам в голову, когда вы смотрите на эту картину.
– Странно, я сейчас вижу картину, которая мне очень нравилась, когда мне было лет четырнадцать-пятнадцать. На ней был изображен Наполеон, действительно едущий на белом коне перед войсками. Это очень похоже на увиденное мной во сне, за исключением того, что на той картине солдаты ничего не кричали.
– Это очень интересное воспоминание. Расскажите мне больше о своем интересе к картине и к Наполеону.
– Я многое могу об этом рассказать, только это меня смущает. Да, когда мне было четырнадцать-пятнадцать лет, я был довольно застенчив. Спорт мне не давался, и я побаивался крутых парней. О да, теперь я вспоминаю происшествие из тех времен, о котором я совершенно забыл. Один из тех крутых парней мне очень нравился, и я хотел с ним подружиться. Мы почти не разговаривали друг с другом, но я надеялся, что я тоже ему понравлюсь, если мы узнаем друг друга получше. Однажды я набрался смелости, подошел к нему и спросил, не хочет ли он пойти ко мне – у меня был микроскоп, и я мог показать ему много интересного. Он мгновение смотрел на меня, потом начал хохотать. «Ах ты девчонка, пригласи лучше приятелей своей маленькой сестрички!» Я отвернулся, глотая слезы. В то время я увлеченно читал про Наполеона, собирал его изображения и мечтал стать похожим на него – знаменитым полководцем, которым восхищается весь мир. Разве он тоже не был маленького роста? Разве он в юности тоже не был застенчивым, как я? Почему бы мне не стать похожим на него? Я много часов провел в мечтаниях – всегда только об успехе, почти никогда не задумываясь о конкретных способах достижения цели. Я был Наполеоном, вызывающим восхищение и зависть, и все же великодушным и готовым простить обидчиков. Когда я поступил в колледж, я вырос из этого поклонения герою и из наполеоновских мечтаний; я уже много лет не вспоминал о том периоде и наверняка ни с кем об этом не говорил. Меня довольно-таки смущает даже то, что я сейчас вам все рассказываю.
– Вы о том забыли, но другой вы, тот, который определяет многие ваши действия и чувства, хорошо скрытый от вас во время бодрствования, все еще хочет славы, обожания, власти. Тот вы-другой прошлой ночью высказался во сне, но давайте посмотрим, почему именно прошлой ночью. Расскажите мне, что вчера случилось важного для вас.
– Совсем ничего, день был как любой другой. Я отправился в офис, работал – готовил материалы для выступления в суде, вернулся домой, пообедал, сходил в кино и лег спать. Вот и все.
– Не похоже, чтобы это объясняло, почему ночью вы ездили на белом коне. Расскажите подробнее о том, что происходило у вас в офисе.
– Ох, я только что вспомнил… но это не может иметь никакого отношения к сновидению… ну, я все равно расскажу. Когда я пошел к боссу – старшему партнеру нашей фирмы, для него я и готовил материалы, – он обнаружил сделанную мной ошибку. Недовольно посмотрев на меня, он заметил: «Я очень удивлен, я думал, что вы справитесь лучше». Я на мгновение растерялся, и у меня промелькнула мысль о том, что он не возьмет меня в партнеры, как я надеялся. Но я сказал себе, что это ерунда, что каждый может ошибиться, что босс просто раздражителен и что этот случай не отразится на моем будущем. Я тут же забыл об этом эпизоде.
– В каком вы тогда были настроении? Вы нервничали или испытывали депрессию?
– Нет, ничуть. Напротив, я просто почувствовал усталость и сонливость. Я с трудом продолжал работать и порадовался, когда пришло время уйти из офиса.
– Значит, последняя важная вещь в тот день была – ваш поход в кино. Расскажите, что за фильм вы видели.
– Да. Фильм называется «Хуарес», и он мне очень понравился. Я даже всплакнул немножко.
– В каком месте?
– Сначала при описании бедности и страданий Хуареса, а потом, когда он победил. Даже и не припомню фильма, который бы так меня тронул.
– Потом вы отправились в постель, уснули, увидели себя на белом коне и услышали приветствия войск. Теперь мы немного лучше понимаем, почему вам это приснилось, не так ли? В юности вы были застенчивым, неуклюжим, отвергаемым другими. Нам известно из предшествующей работы, что все это в значительной мере было связано с вашим отцом, который так гордился своим успехом, но был неспособен стать близким вам и почувствовать – уж не говоря о том, чтобы проявить, – привязанность, не стремился вас подбодрить. Тот случай, о котором вы упомянули, – когда крутой парень не захотел с вами дружить, – был только последней каплей. Ваше самоуважение и так уже сильно пострадало, и случившееся добавило еще один элемент к вашему убеждению, что вы никогда не сравняетесь с отцом, никогда ничего не добьетесь, что вы всегда будете отвергаемы теми, кем восхищаетесь. Что вы могли поделать? Вы нашли убежище в фантазиях, в которых совершали те самые вещи, которые, как вы считали, были вам недоступны в реальной жизни. Там, в мире фантазии, куда никто не мог проникнуть и где никто не мог вам возразить, вы были Наполеоном, великим героем, которым восхищались миллионы, и – это, может быть, самое главное, – которым восхищались вы сами. До тех пор, пока вы могли сохранить эти фантазии, вы были защищены от острой боли, которую причиняло вам чувство собственной неполноценности, когда вы соприкасались с реальностью. Потом вы поступили в колледж, стали меньше зависеть от отца, почувствовали определенное удовлетворение от занятий, обнаружили, что можете начать все сначала и достичь успеха. Более того, вы стали стыдиться своих «детских» мечтаний, так что вы убрали их подальше; вы почувствовали, что находитесь на пути к тому, чтобы стать настоящим человеком… Однако, как видим, эта новая уверенность в себе оказалась несколько обманчивой. Вы ужасно боялись экзаменов, вы чувствовали, что ни одна девушка не заинтересуется вами, если рядом окажется хоть какой-нибудь другой молодой человек, вы всегда боялись недовольства своего босса. Это возвращает нас к дню накануне того, как вы увидели сон. То, чего вы так старались избежать – критики со стороны босса, – случилось; вы снова начали испытывать прежнее чувство неадекватности, но вы его прогнали; вместо того чтобы встревожиться и опечалиться, вы почувствовали усталость. Потом вы посмотрели фильм, который напомнил вам о ваших мечтаниях, о герое, который сделался обожаемым спасителем нации, хотя в юности был презираемым и бессильным. Вы представили себя, как это случалось, когда вы были подростком, героем, который вызывает восторг, которого приветствуют. Разве вы не видите, что на самом деле вы не отказались от прежнего убежища в мечтах о славе, что вы не сожгли мосты, ведущие обратно в страну фантазий, но продолжаете возвращаться туда, как только реальность разочаровывает или пугает вас? Разве вы не видите, что это обстоятельство помогает возникновению той самой опасности, которой вы боитесь, – вести себя по-детски, не быть воспринимаемым всерьез взрослыми людьми – и самим собой?»
Связь функции сна с работой сновидения
Фрейд считал, что все сновидения являются по сути исполнением желаний и благодаря этому призрачному исполнению осуществляют функцию сохранения сна. После пятидесяти лет толкования сновидений я должен признаться в том, что нахожу этот фрейдовский принцип лишь отчасти верным. Несомненно, Фрейд совершил выдающееся открытие, когда понял, что сны очень часто представляют собой символическое исполнение желаний. Однако он нанес ущерб значимости своего открытия из-за догматического представления о том, что это обязательно верно для всех сновидений. Сновидения могут представлять исполнение желаний, могут выражать просто тревогу, но могут также – и это очень важный момент – обеспечивать глубокое проникновение в собственную личность и в личности других людей. Чтобы оценить эту функцию сновидений, полезно рассмотреть некоторые соображения, касающиеся различий между биологическими и психологическими функциями сна и бодрствования (см. также [32], гл. 3).
В бодрствующем состоянии мысли и чувства в первую очередь откликаются на необходимость овладевать окружающей средой, изменять ее, защищать себя от нее. Задача бодрствующего человека – выживание, он подчиняется законам, управляющим реальностью. Это означает, что он должен мыслить в терминах времени и пространства.
Во сне же мы не связаны с необходимостью менять в своих целях окружающий мир. Во сне мы беспомощны, и недаром сон называют братом смерти. Однако при этом мы и свободны, более свободны, чем наяву. Мы избавлены от бремени труда, от задач обороны и нападения, от пристального наблюдения за реальностью и управления ею. Нам не требуется оглядываться на внешний мир, мы сосредоточены на мире внутреннем, заняты исключительно собой. Спящий человек может быть уподоблен зародышу в чреве или трупу, ангелу, на которого не распространяются законы реальности. Во сне царство необходимости уступает место царству свободы, и в этом царстве «Я» – единственное, к чему обращены наши мысли и чувства.
Психическая активность во сне обладает логикой, отличной от той, которая управляет нашим бодрствованием. Как было отмечено выше, события сновидения не обязаны обращать внимание на обстоятельства, которые имеют значение только тогда, когда мы сталкиваемся с реальностью. Если я полагаю, например, что какой-то человек – трус, во сне он может представиться мне цыпленком. Эта перемена осмысленна в терминах того, что я думаю о человеке, а не в терминах ориентации на внешний мир.
Жизнь во сне и жизнь наяву – два полюса человеческого существования. Бодрствование посвящено действиям, в сновидении мы от этого освобождены. Сон выполняет функцию самовыражения. Когда мы просыпаемся, мы переходим в царство действия, ориентируемся на его правила, и наша память ведет себя соответственно. Мир сна исчезает. События, происходившие в сновидении, само сновидение вспоминаются с величайшим трудом[47]. Эта ситуация символически отражена во многих народных сказках: ночью на сцену выходят призраки и духи, добрые и злые, но с рассветом они исчезают, и от напряженных переживаний человека ничего не остается.
Сознание представляет собой психическую деятельность, когда мы заняты внешней реальностью – действием. Свойства сознания определяются природой действия и функцией выживания в бодрствующем состоянии. Бессознательное – это психическая деятельность, когда мы существуем в отрыве от каких-либо связей с внешним миром и не заняты иными действиями, кроме самовосприятия. Бессознательное заключает в себе переживания, связанные с особым образом жизни: бездеятельностью, и характеристики бессознательного вытекают из природы этого образа существования.
В данном случае «бессознательное» является таковым только по отношению к «нормальному» состоянию активности. Когда мы говорим о «бессознательном», мы на самом деле говорим только о том, что это переживание чуждо состоянию ума, которое существует, когда мы действуем; тогда оно ощущается как призрачный, назойливый элемент, который трудно ухватить и трудно запомнить. Однако дневной мир столь же «бессознателен» для нас во сне, как и ночной – для бодрствующего сознания. Термин «бессознательное» обычно употребляется исключительно с точки зрения дневного восприятия; таким образом упускается из рассмотрения тот факт, что и сознание, и бессознательное – лишь различные состояния ума, относящиеся к различным состояниям существования.
Следует отметить, что в бодрствующем состоянии мысли и чувства также не полностью подчинены ограничениям пространства и времени; творческое воображение позволяет думать о событиях прошлого и будущего так, словно они происходят в настоящем, и об удаленных предметах, как если бы они были у нас перед глазами; наши чувства наяву не зависят от физического присутствия объекта и от сосуществования с ним в один и тот же момент времени. Таким образом, отсутствие пространственно-временной системы характерно не для восприятия во сне в противовес бодрствующему, а для мышления и чувствования в противовес действию. Это существенное обстоятельство позволяет мне прояснить важный момент в моей позиции.
Следует различать содержание мыслительного процесса и категории, используемые мышлением. Я могу, например, думать о своем отце и утверждать, что его отношение к определенной ситуации такое же, как и мое. Это – рациональное утверждение. С другой стороны, если я скажу «Я – мой отец», то такое утверждение иррационально, поскольку не соответствует состоянию дел в физическом мире. Впрочем, фраза вполне рациональна в плане чистого восприятия: она выражает ощущение моей идентичности с отцом. Рациональные мыслительные процессы в бодрствующем состоянии подчиняются категориям, коренящимся в особой форме существования – той, в которой мы связываем себя с реальностью в терминах действия. В моем существовании во сне, характеризующемся отсутствием даже потенциального действия, используются категории, имеющие отношение только к моему самоощущению. То же самое касается чувств. Что бы я ни чувствовал наяву по отношению к человеку, которого не видел двадцать лет, я осознаю, что он или она отсутствует. Если же этот человек мне снится, мои чувства к нему таковы, как если бы он или она присутствовали. Но сказать «как если бы он присутствовал» означает выразить чувство в концепциях «жизни во время бодрствования». В существовании внутри сновидения нет «как если бы»; человек просто присутствует.
На предшествующих страницах была предпринята попытка описать условия сна и сделать из этого описания определенные выводы, касающиеся качества активности в сновидении. Исчерпывает ли понимание сна как исполнения желаний или как проявления чувств, достаточно сильных, чтобы найти выражение даже во сне, все возможные объяснения того, почему мы видим сны?
Я предположил бы, что имеется еще одно объяснение, которым обычно пренебрегают. Оно относится к тому факту, что человек испытывает глубокую потребность объяснить себе, почему он что-то делает или чувствует. Это наблюдаемый и общепризнанный факт, обычно называемый рационализацией. Если, например, нам кто-то не нравится и мы недовольны тем, что испытываем такое чувство, мы стремимся заставить свою антипатию выглядеть как резонное следствие определенных фактов; тем самым мы наделяем человека, который не нравится, качествами – реальными или чаще вымышленными, – которые позволяют нашему отношению выглядеть обоснованным. То же самое, конечно, верно в случае любви или обожания; в наиболее очевидной форме это проявляется в массовом энтузиазме по отношению к некоторым лидерам или в неприязни к определенным классам или расам.
Явлениями того же типа являются постгипнотические феномены. Предположим, что во время гипнотического транса человек получает задание через пять часов, скажем, в четыре часа дня, снять пальто, забыв, что получил такой приказ. Что происходит в четыре часа пополудни? Хотя погода может быть холодной, человек пальто снимет, но при этом скажет что-то вроде: «Сегодня удивительно тепло, совсем не по сезону». Он чувствует необходимость объяснить себе, почему он так поступает, и испугается, если будет не в состоянии объяснить свой поступок.
Приложение этого принципа к сновидению может привести к следующей гипотезе: во сне мы испытываем те же чувства, что и наяву, но для нас во сне так же, как наяву, невыносимы чувства, которые нельзя объяснить. Поэтому мы придумываем историю, объясняющую, почему мы испытываем страх, радость, ненависть и т. д. Другими словами, сновидение имеет функцию рационализации чувств, которые мы питаем во сне. Если бы это было так, это показывало бы, что даже во сне проявляется та же тенденция заставлять эмоции казаться оправданными, как и в состоянии бодрствования. Сновидения, таким образом, могут рассматриваться как результат внутренней тенденции подгонять чувства под требования резонности.
Теперь мы должны изучить одну специфическую особенность сна, которая, как будет показано, имеет огромное значение для понимания процессов сновидения. Уже говорилось о том, что во сне мы не озабочены управлением внешним миром. Мы его не замечаем и на него не воздействуем; не подвержены и мы его воздействию. Отсюда следует, что этот эффект отстранения от реальности зависит от качеств самой реальности. Если влияние внешнего мира в целом благотворно, то отсутствие такого влияния во сне приведет к снижению ценности работы сновидения, так что она окажется второстепенной по сравнению с психической деятельностью наяву, когда мы подвержены благотворному влиянию внешнего мира.
Однако правы ли мы, предполагая, что влияние реальности в целом благотворно? Не может ли быть, что оно также и вредоносно и что, таким образом, отсутствие влияния выдвигает на передний план качества, более высокие по сравнению с теми, которыми мы обладаем наяву?
Говоря о внешнем мире, мы не имеем в виду исключительно мир природы. Природа как таковая не хороша и не плоха. Она может быть нам полезна или опасна, и отсутствие восприятия реальности освобождает нас от задачи пытаться освоить окружающий мир или защититься от него, но это не делает нас глупее или умнее, лучше или хуже. В отношении созданного человеком мира вокруг нас, культуры, в которой мы живем, все обстоит совершенно иначе. Их влияние на нас неоднозначно, хотя мы склонны считать, что оно идет нам исключительно на пользу.
Действительно, свидетельства того, что культурные влияния благотворны, представляются почти неоспоримыми. От мира животных нас отличает именно способность создавать культуру.
Не является ли созданная человеком реальность вне нас самым важным фактором развития наших лучших качеств, и не следует ли ожидать, что, лишившись контакта с внешним миром, мы временно опускаемся до примитивного, животного, неразумного состояния? В пользу такого заключения можно сказать многое, и мнение о том, что подобная деградация является основным отличием состояния сна и тем самым работы сновидения, разделялось многими исследователями от Платона до Фрейда. С этой точки зрения сновидения можно рассматривать как выражения иррациональных, примитивных побуждений, и тот факт, что сны так легко забываются, убедительно объясняется тем, что мы стыдимся этих неразумных, преступных импульсов, возникающих, когда нас не контролирует общество. Несомненно, такое толкование сновидений в определенной степени верно, но остается вопрос: полностью ли оно верно и не ответственны ли негативные элементы влияния общества за тот парадокс, что мы во сне не только менее разумны и менее добропорядочны, но также более сообразительны, мудры и проницательны, чем когда бодрствуем.
Наши сны не только выражают иррациональные желания, но и даруют глубокие прозрения, и важная задача толкования сновидений заключается в том, чтобы определить: когда имеет место первое, а когда – второе.
4. Фрейдовская теория инстинктов и ее критика
Развитие теории инстинктов
Последним из великих открытий Фрейда является его теория инстинктов жизни и смерти[48]. В 1920 году, при работе над книгой «По ту сторону принципа удовольствия», Фрейд приступил к фундаментальному пересмотру всей своей теории инстинктов. Он отнес характеристики инстинкта к «принудительным повторениям» и в первый раз сформулировал новую дихотомию «Эрос – инстинкт смерти», природу которой подробно обсудил в работе «Я и Оно» (1923) и в последующих сочинениях. Эта новая дихотомия «инстинкт жизни (Эрос) – инстинкт смерти» заняла место исходной дихотомии «Эго – сексуальные инстинкты». Хотя теперь Фрейд попытался отождествить Эрос с либидо, новая полярность представляла собой совершенно иную концепцию побуждений.
Работая над книгой «По ту сторону принципа удовольствия», Фрейд еще совершенно не был убежден в том, что его новая гипотеза валидна. «Можно спросить, – писал он, – насколько уверен я сам в справедливости изложенных на этих страницах гипотез. Мой ответ мог бы быть следующим: сам я не уверен и не стремлюсь принудить других в них верить. Точнее, я не знаю, насколько я убежден в них» [18; 58f]. Учитывая, что Фрейд пытался разработать новую теоретическую доктрину, угрожающую валидности многих более ранних концепций и потребовавшую огромных интеллектуальных усилий, его искренность, столь блестяще проявляющаяся во всех его работах, особенно впечатляет. Последующие восемнадцать лет он посвятил разработке новой теории и все больше испытывал убежденность в ее верности, которой ему сначала не хватало. К такому результату привело не добавление совершенно новых элементов, а скорее интеллектуальная «проработка»; это, должно быть, еще более усилило его разочарование тем, что лишь немногие его последователи поняли и разделили его взгляды. Новая теория нашла полное изложение в работе «Эго и Ид».
Чрезвычайной важностью обладает следующее предположение: «С каждым из двух классов инстинктов следовало бы связать особый физиологический процесс (анаболизма или катаболизма): обе разновидности инстинктов должны были бы быть активны в каждой частице живой материи, хотя не в равных пропорциях, так что какая-то одна субстанция была бы главной представительницей Эроса. Эта гипотеза совершенно не проливает свет на то, каким образом два класса инстинктов соединяются, смешиваются, сплавляются друг с другом, однако то, что это происходит регулярно и весьма широко, – допущение, необходимое для нашей концепции. Как результат объединения одноклеточных форм жизни в многоклеточные, инстинкт смерти у единственной клетки может успешно нейтрализоваться и деструктивные импульсы могут быть направлены во внешний мир при помощи особого органа. Этот особый орган представлялся бы мускульным аппаратом, и таким образом инстинкт смерти выразился бы – хотя, возможно, лишь частично – в инстинкте разрушения, обращенного на внешний мир и другие организмы» [20; 41. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Этими формулировками Фрейд более эксплицитно выразил новое направление своей мысли, чем в книге «По ту сторону принципа удовольствия». Вместо механистического физиологического подхода, содержащегося в прежней теории, которая строилась на модели химически вызываемого напряжения и необходимости ослабить это напряжение до нормального уровня (принцип удовольствия), новая теория имеет биологический характер; предполагается, что каждая клетка организма наделена двумя базовыми свойствами живой материи: Эросом и стремлением к смерти. Впрочем, принцип ослабления напряжения сохранен в более радикальной форме: редукции возбуждения до нуля (принцип нирваны).
Годом позже, в «Экономической проблеме мазохизма» (1924) Фрейд сделал еще один шаг: проясняя отношения между двумя инстинктами, он писал: «Задача либидо – сделать инстинкт разрушения безвредным, и эту задачу оно выполняет, в значительной мере обращая его – при помощи особой органической системы, мускульного аппарата – наружу, на объекты внешнего мира. Тогда этот инстинкт получает название инстинкта владычества или жажды власти[49]. Часть инстинкта напрямую служит сексуальной функции, где играет важную роль: это и есть садизм. Другая часть не участвует в этой обращенности наружу: она остается внутри организма и, при помощи сопутствующего сексуального возбуждения, описанного выше, делается либидозно связанной. Именно в этой части мы узнаем исходный, эротогенный мазохизм» [21; 163].
В «Новых вводных лекциях» (1933) Фрейд придерживался той же позиции. Он говорил об «эротических влечениях, которые стремятся объединить все больше живой материи во все большие Единства, и об инстинкте смерти, который противится такой попытке и переводит живое обратно в неорганическое состояние» [26; 107].
В тех же лекциях Фрейд писал об исходном инстинкте разрушения: «Мы может воспринять его лишь при двух условиях: если он объединяется с эротическими влечениями в мазохизм или если – с гораздо меньшим эротическим добавлением – он направлен против внешнего мира как агрессивность. Следует отметить важность возможности того, что агрессивность может оказаться не в силах найти удовлетворение во внешнем мире, столкнувшись с реальными препятствиями. Если так случится, она, возможно, отступит и увеличит само-деструктивность, господствующую внутри. Мы рассмотрим, как это на самом деле происходит и насколько важен этот процесс. Задержанная агрессивность наносит тяжелое увечье. Действительно, представляется, что нам необходимо уничтожить какой-то предмет или человека, чтобы не уничтожить себя, чтобы защититься от импульса самоуничтожения. Печальное открытие для моралиста! [26; 105. – Курсив мой. – Э.Ф.].
В двух своих последних статьях, написанных за год или два до смерти, Фрейд не внес существенных изменений в те концепции, которые развивал в предыдущие годы. В работе «Конечный и бесконечный анализ» он еще более подчеркивал силу инстинкта смерти. Как писал Джеймс Стрэчи в редакторских примечаниях, «самый мощный препятствующий фактор из всех, полностью находящийся вне нашего контроля, – это инстинкт смерти» [28; 212. – Курсив мой. – Э.Ф.]. В «Очерке истории психоанализа», написанном в 1938, а опубликованном в 1940 году, Фрейд подтвердил систему прежних предположений без каких-либо важных изменений.
Анализ предположений, касающихся инстинктов
Дальнейшее краткое изложение новых теорий Фрейда – теори Эроса и инстинкта смерти – не может в достаточной мере показать, насколько разительным было их отличие от старой теории; Фрейд не замечал радикальной природы этого изменения и многочисленных теоретических несоответствий и имманентных противоречий. На следующих страницах я постараюсь показать важность изменений и проанализировать конфликт между старой и новой теориями.
После Первой мировой войны у Фрейда появились две новых идеи. Первая касалась власти и интенсивности агрессивно-деструктивных влечений человека, не зависящих от сексуальности. Говорить о том, что это новая идея, не совсем верно. Как я уже отмечал, Фрейд все же осознавал существование агрессивных импульсов, не связанных с сексуальностью. Однако такое понимание выражалось лишь спорадически, и оно никогда не меняло главной гипотезы о полярности между сексуальными влечениями и Эго, хотя эта теория и была впоследствии модифицирована благодаря введению концепции нарциссизма. В теории инстинкта смерти понимание человеческой деструктивности раскрывается в полной мере, деструктивность рассматривается как один из полюсов бытия, противостоящий другому полюсу, Эросу, что и выражает самую суть жизни. Деструктивность становится первичным феноменом жизни.
Вторая идея, отличающая новую теорию Фрейда, не только не имеет предшественников в прежней; она полностью ей противоречит. Она заключается в том, что Эрос, присутствующий в каждой клетке живой материи, имеет своей целью унификацию и объединение всех клеток; более того, он служит цивилизации – объединению групп в единое человечество [25]. Фрейд открывает несексуальную любовь. Инстинкт жизни он называет также инстинктом любви; любовь ассоциируется с жизнью и ростом; сражаясь с инстинктом смерти, она определяет человеческое существование. В прежней теории Фрейда человек рассматривался как изолированная система, управляемая двумя побуждениями: стремлением выжить (Эго-инстинктом) и стремлением получить удовольствие путем преодоления напряжения, порожденного химическими процессами в теле и локализованного в эрогенных зонах, одной из которых являются гениталии. Согласно такому взгляду человек изначально изолирован, но вступает в контакт с представителями противоположного пола, чтобы удовлетворить свое стремление к удовольствию. Отношения между полами рассматривались как те, что существуют между людьми на рынке: каждый озабочен только удовлетворением собственных потребностей, но именно ради этого удовлетворения должен вступать в отношения с другими: они предлагают то, что нужно ему, и нуждаются в том, что предлагает он.
В теории Эроса все обстоит совсем иначе. Человек более не воспринимается как изначально изолированный и эгоистичный, как l’homme machine (человек-машина); он в первую очередь связан с другими, движим жизненными инстинктами, заставляющими его нуждаться в союзе с другими. Жизнь, любовь и рост едины, укоренены глубже и более фундаментальны, чем сексуальность и удовольствие.
Изменение воззрений Фрейда ясно видно в его новой оценке евангельской заповеди: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». В работе «Неизбежна ли война?» он писал: «Все, что способствует росту эмоциональных связей между людьми, действует против войны. Такие связи могут быть двух видов. Во-первых, они могут напоминать отношение к любимому человеку, хотя и не иметь сексуальной цели. Психоанализу нет нужды стыдиться, говоря о любви в этой связи, поскольку сама религия пользуется теми же словами: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это, впрочем, легче сказать, чем сделать. Второй вид эмоциональных связей возникает путем идентификации. Важные общие интересы ведут к общности чувств, к идентификации. На этом в значительной мере и базируется структура человеческого общества» [27; 212. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Эти строки написаны тем же человеком, который всего тремя годами ранее закончил свой комментарий к этой же евангельской заповеди вопросом: «Какой смысл в предписании, изложенном с такой торжественностью, если его осуществление нельзя рекомендовать как разумное?» [25; 110. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Произошло радикальное изменение точки зрения. Фрейд, противник религии, которую он называл иллюзией, не позволяющей человеку достичь зрелости и независимости, теперь цитировал одну из самых основополагающих заповедей, какие только можно найти во всех великих гуманистических религиях, в поддержку своего психологического предположения. Он подчеркивал: «Психоанализу нет нужды стыдиться, говоря о любви в этой связи» (для сравнения: [27; 212] и [14]); действительно, Фрейд нуждался в таком утверждении, чтобы преодолеть смущение, которое он должен был испытывать из-за такого резкого поворота в том, что касалось концепции братской любви.
Осознавал ли Фрейд, какой резкий поворот произошел в его подходе? Видел ли полное и неустранимое противоречие между старой и новой теориями? Совершенно очевидно, что нет. В работе «Эго и Ид» [20] он идентифицировал Эрос (инстинкт жизни, или инстинкт любви) с сексуальными влечениями (в сочетании с инстинктом самосохранения): «В соответствии с этими взглядами мы должны проводить различие между двумя классами инстинктов, один из которых, сексуальный инстинкт, или Эрос, гораздо более заметен и доступен для изучения. Он охватывает не только несдерживаемое сексуальное побуждение как таковое и вытекающие из него инстинктивные импульсы бесцельной или сублимированной природы, но также и инстинкт самосохранения, который должен быть отнесен к Эго и который в начале нашей аналитической работы мы на основании веских причин противопоставляли сексуальным побуждениям, направленным на объект» [20; 40. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Именно потому, что Фрейд не осознавал этого противоречия, он пытался примирить старую и новую теории таким образом, чтобы они сохраняли последовательность – без резкого разрыва. Это вело ко многим имманентным противоречиям и нестыковкам в новой теории, которые Фрейд снова и снова пытался сглаживать или отрицать, однако безуспешно. Ниже я постараюсь описать превратности новой теории, вызванные неспособностью Фрейда понять, что новое вино – и в данном случае, по-моему, лучшее – нельзя налить в старые мехи. Прежде чем мы займемся этим анализом, нужно указать на еще одно изменение, которое – также не замеченное Фрейдом – еще более осложнило дело. Свою старую теорию Фрейд строил в соответствии с научной моделью, которую легко узнать: это была механико-материалистическая модель, служившая идеалом его учителю фон Брюкке и всем сторонникам механико-материалистических взглядов, включая Гельмгольца и Бюхнера[50]. Они рассматривали человека как механизм, который приводится в движение химическими процессами; чувства, аффекты и эмоции объяснялись как вызванные специфическими и выявляемыми физиологическими процессами. Большинство открытий последних десятилетий в области эндокринологии и нейрофизиологии были неизвестны этим ученым, однако они настаивали на правильности своего подхода с решимостью и изобретательностью. Потребности и интересы, для которых нельзя было найти соматических источников, игнорировались, а понимание тех процессов, которые нельзя было игнорировать, следовало механистическим принципам. Физиологическая модель фон Брюкке и фрейдовская модель человека сегодня могли бы быть повторены в соответствующим образом запрограммированном компьютере. В «нем» развивается определенная степень напряжения, которое, достигнув некоего порога, должно быть облегчено и снижено, в то время как реализация этого сдерживается другой частью программы, Эго, которая наблюдает за действительностью и препятствует облегчению, когда оно вступает в противоречие с потребностями выживания. Такой фрейдистский робот был бы схож с научно-фантастическим роботом Айзека Азимова, однако программирование было бы иным. Первым законом роботехники оказалось бы не непричинение вреда человеку, а избегание ущерба себе или саморазрушения.
Новая теория Фрейда не следовала этой механистической «физиологизированной» модели. Ее центром становилась биологическая ориентация, согласно которой фундаментальные силы жизни (и ее противоположности – смерти) оказывались первичными силами, мотивирующими человека. Природа клетки – т. е. всей живой материи, – а не физиологический процесс, протекающий в определенных органах тела, становилась теоретической основой учения о мотивации. Новая теория Фрейда была, пожалуй, ближе к виталистской философии (см. [42]), чем к механико-материалистическим концепциям немецких ученых. Однако, как я уже говорил, Фрейд этого отчетливо не осознавал и поэтому снова и снова пытался приложить свой метод физиологизирования к новой теории; эта попытка найти квадратуру круга неизбежно кончалась неудачей. Впрочем, в одном важном вопросе обе теории исходили из общей предпосылки, остававшейся для Фрейда неизменной аксиомой: психикой правит закон стремления к снижению напряжения (или возбуждения) до постоянного низкого уровня (принцип константности, на котором основывается принцип удовольствия) или до нуля (принцип нирваны, на котором основывается инстинкт смерти).
Теперь мы должны вернуться к более подробному анализу двух новых идей Фрейда – инстинкта смерти и инстинкта жизни как первичных сил, определяющих человеческое существование[51].
Что заставило Фрейда постулировать инстинкт смерти?
Одним из факторов, о которых я уже упоминал, был, возможно, шок от Первой мировой войны. Фрейд, как многие в его время, разделял оптимистические взгляды, типичные для европейского среднего класса, и внезапно оказался перед лицом таких ярости и разрушений, которые едва ли можно было представить до 1 августа 1914 года.
Можно предположить, что к этому историческому фактору добавился личный. Как известно из биографии Фрейда, написанной Эрнестом Джонсом, Фрейд был одержим мыслями о смерти. С тех пор как ему исполнилось сорок, он каждый день думал о конце жизни, у него были приступы Todesangst (страха смерти); иногда при прощании он добавлял: «Вы можете никогда больше меня не увидеть» [41; 301]. Можно также предположить, что подкреплением страха смерти послужила тяжелая болезнь, что и привело к формулированию положения об инстинкте смерти. Такое рассуждение, впрочем, является упрощением, поскольку первые признаки болезни появились лишь в феврале 1923 года, через несколько лет после разработки концепции инстинкта смерти. Однако, может быть, допустимо предположение, что прежняя поглощенность мыслями о смерти усилилась вследствие болезни, что и привело к представлению о том, что конфликт между жизнью и смертью (а не между двумя жизнеутверждающими побуждениями – сексуальными желаниями и Эго) и является центром переживаний человека. Заключение о том, что человек должен умереть, потому что смерть – скрытая цель его жизни, может рассматриваться как своего рода утешение, предназначенное для того, чтобы смягчить страх смерти.
Помимо исторических и личных факторов, образующих одну группу мотивов, приведших к возникновению концепции инстинкта смерти, есть и другая группа, способствовавшая разработке Фрейдом этой теории. Фрейд всегда мыслил дуалистически. Он видел противоположные силы, борющиеся друг с другом, и рассматривал процессы жизни как исход этой борьбы. Первоначально эту дуалистическую теорию выражали противостояние секса и стремления к самосохранению. Однако при появлении концепции нарциссизма, который относил инстинкт самосохранения к либидо, прежний дуализм оказался под угрозой. Разве концепция нарциссизма не утверждала монистическую идею, согласно которой все инстинкты имели либидозную природу? Хуже того, разве это не оправдывало одну из главных ересей Юнга – концепцию, согласно которой либидо воплощает в себе всю психическую энергию? Действительно, Фрейд должен был избавиться от этой невыносимой дилеммы – невыносимой потому, что ее принятие означало бы согласие с юнговской концепцией либидо. Фрейду нужно было найти новый инстинкт как основу для нового дуалистического подхода. Инстинкт смерти удовлетворял этому требованию. На замену старому дуализму был найден новый, и на человеческую жизнь снова можно было смотреть как на поле битвы противоположных устремлений – Эроса и инстинкта смерти.
При создании нового дуализма Фрейд придерживался образа мыслей, о котором будет сказано ниже, и создал две широкие концепции, в которые должен был попадать любой феномен. Он проделал это с понятием сексуальности, расширив его, так что все, что не было Эго-инстинктом, принадлежало сексуальному инстинкту. Тот же метод он применил к инстинкту смерти. Он сделал это понятие настолько широким, что любое устремление, не попадавшее в ведение Эроса, относилось к инстинкту смерти, и наоборот. Таким образом, агрессивность, разрушительность, садизм, стремление контролировать и властвовать, несмотря на их качественные различия, оказывались проявлениями одной и той же силы – инстинкта смерти.
Того же паттерна мышления, имевшего столь сильное влияние на него на ранней стадии построения теоретической системы, Фрейд придерживался и еще в одном аспекте. Об инстинкте смерти он говорит, что изначально он весь внутри; потом он частично направляется наружу и действует как агрессивность, в то время как часть остается внутри как первичный мазохизм. Однако если часть, направленная наружу, встречает непреодолимые препятствия, инстинкт смерти оказывается перенаправлен внутрь и проявляется как вторичный мазохизм. Этот метод рассуждений в точности тот же, что и использовавшийся Фрейдом при описании нарциссизма. Сначала все либидо содержится в Эго (первичный нарциссизм), затем распространяется вовне, на объекты (объектное либидо), но часто направляется снова внутрь и тогда формирует так называемый вторичный нарциссизм.
Термин «инстинкт смерти» часто употребляется как синоним инстинкта разрушения или агрессивных побуждений (см., например, [25]), но в то же время Фрейд проводит тонкие различения между этими понятиями. В целом, как указал Джеймс Стрэчи во введении к «Недовольству культурой» [25], в более поздних работах – например, «Недовольстве культурой» [25], «Эго и Ид» [20], «Новых вводных лекциях» [26], «Очерках истории психоанализа» [29] – агрессивный инстинкт оказывается чем-то вторичным, следствием первичной саморазрушительности.
Вот несколько примеров таких взаимосвязей между инстинктом смерти и агрессивностью. В «Недовольстве культурой» [25] Фрейд пишет, что инстинкт смерти «отводится во внешний мир и выходит на свет как инстинкт агрессивности и разрушения» [25; 118]. В «Новых вводных лекциях» он говорит о «саморазрушительности как выражении инстинкта смерти, который неизменно присутствует в любом жизненном процессе» [26; 107. – Курсив мой. – Э.Ф.]. В той же работе Фрейд выражает эту мысль еще более отчетливо: «Мы пришли к мнению, что мазохизм древнее садизма, а садизм – разрушительный инстинкт, направленный вовне, который тем самым приобретает характеристики агрессивности» [25; 105]. То количество деструктивности, которое остается внутри, или объединяется «с эротическими побуждениями в мазохизм, или – с большими или меньшими эротическими добавлениями – направляется против внешнего мира как агрессивность» [Там же]. «Однако, – продолжает Фрейд, – если направленная вовне агрессивность встречается со слишком значительными препятствиями, она возвращается и увеличивает само-деструктивность, властвующую внутри» [Там же]. Заключение этих теоретических и несколько противоречивых рассуждений содержится в последних двух статьях Фрейда. Внутри Ид «оперируют органические инстинкты, которые сами представляют собой соединение двух первичных сил (Эроса и деструктивности) в разных пропорциях» [29; 198. – Курсив мой. – Э.Ф.]. В «Конечном и бесконечном анализе» Фрейд также говорит об Эросе и инстинкте смерти как о двух «первичных инстинктах» [28].
Изумляет и впечатляет, как твердо Фрейд держался за свою концепцию инстинкта смерти, несмотря на огромные теоретические трудности, которые он упрямо – и, на мой взгляд, безуспешно – пытался преодолеть.
Главная трудность, возможно, заключалась в предположении об идентичности двух тенденций – тенденции тела вернуться к исходному, неорганическому состоянию (как результату действия принципа принудительного повторения) и инстинкта разрушения (себя или других). Для первой тенденции может быть адекватен термин «Танатос», говорящий о смерти, или даже «принцип нирваны», указывающий на стремление к снижению напряжения, уменьшению энергии до уровня прекращения всех энергетических устремлений[52]. Однако является ли это медленное угасание жизненных сил аналогом деструктивности? Конечно, логически можно доказывать – и Фрейд имплицитно это делает, – что если тенденция к умиранию является для организма врожденной, должна существовать активная сила, стремящаяся к разрушению (это тот самый образ мыслей, который можно обнаружить у инстинктивистов, утверждающих, что за каждым действием скрывается особый инстинкт). Однако если выйти из этого замкнутого круга рассуждений, то отыщется ли свидетельство или хотя бы повод отождествлять тенденцию к прекращению всякого возбуждения с разрушительным импульсом? Едва ли. Если предположить, на основании фрейдовского принципа принудительного повторения, что жизнь имеет тенденцию к замедлению и в конце концов к смерти, такая врожденная биологическая тенденция была бы совершенно отлична от разрушительного импульса. Если добавить к этому, что та же самая тенденция также, как предполагается, служит источником жажды власти и инстинкта главенства, а будучи смешанной с сексуальностью – источником садизма и мазохизма, то теоретический tour de force (подвиг) окажется напрасным. Принцип нирваны и страсть к разрушениям – это две несопоставимые сущности, которые нельзя включить в ту же категорию, что и инстинкт смерти.
Еще одна трудность заключается в том, что «инстинкт» смерти не вписывается в общую фрейдовскую концепцию инстинктов. Во-первых, он не обладает, как это имеет место в ранней теории Фрейда, специфической телесной зоной, из которой происходит; скорее это – биологическая сила, присущая всей живой материи. Это убедительно показал Отто Феникел: «Диссимуляция на клеточном уровне – иначе говоря, объективная деструкция – не может быть источником инстинкта разрушения в том же смысле, в каком химическая сенсибилизация органа путем стимуляции эрогенных зон порождает сексуальный инстинкт. Согласно определению, инстинкт направлен на устранение тех соматических изменений, которые мы рассматриваем как источник инстинкта; однако инстинкт смерти не имеет целью устранение диссимуляции. По этой причине мне не кажется возможным рассматривать «инстинкт смерти» как один из видов инстинктов наряду с другими видами» [3; 60f].
Феникел указывает здесь на одну из тех теоретических трудностей, которые создал для себя Фрейд, хотя, можно сказать, подавил осознание этого. Эта трудность тем более серьезна потому, что Фрейд, как я покажу ниже, должен был прийти к выводу, что в отношении Эроса также не выполняются условия теории инстинктов. Действительно, не будь у Фрейда сильной личной мотивации, он не использовал бы термин «инстинкт» в смысле, совершенно отличающемся от исходного, не указав на это. Эта трудность ощущается даже в терминологии. Слово «Эрос» не может употребляться вместе со словом «инстинкт», и Фрейд вполне логично никогда не говорил об «инстинкте Эроса». Однако он преодолел трудность, говоря об «инстинкте жизни» попеременно с «Эросом».
На самом деле инстинкт смерти ничем не связан с ранней теорией Фрейда, за исключением общей аксиомы об ослаблении влечения. Как мы видели, в более ранней теории агрессия рассматривалась или как составляющая побуждения прегенитальной сексуальности, или как Эго-побуждение, направленное против внешних стимулов. Теория инстинкта смерти не устанавливает связей с прежними источниками агрессии, если не считать того, что инстинкт смерти в смеси с сексуальностью теперь используется для объяснения садизма [26; 104f].
Суммируя, можно сказать, что концепция инстинкта смерти определялась двумя главными требованиями: во-первых, потребностью удовлетворить новому убеждению Фрейда в силе человеческой агрессии и, во-вторых, необходимостью сохранить приверженность дуалистическому взгляду на инстинкты. После того как Эго-инстинкты также стали рассматриваться как либидозные, Фрейд должен был найти новую дихотомию, и наиболее подходящей оказалась дихотомия между Эросом и инстинктом смерти. Однако, будучи удобной с точки зрения немедленного разрешения проблемы, она совершенно не годилась с точки зрения развития всей фрейдовской теории, связанной с инстинктами мотивации. Инстинкт смерти сделался всеобъемлющей концепцией, и попытки с его помощью разрешить непреодолимые противоречия были обречены на неудачу. Фрейд, возможно, из-за возраста и болезни, не рассматривал проблему всерьез и только залатал прорехи. Большинство тех психоаналитиков, которые не приняли фрейдовской концепции Эроса и инстинкта смерти, нашли легкое решение: они преобразовали инстинкт смерти в «разрушительный инстинкт», противопоставленный прежнему сексуальному инстинкту. Таким образом они объединили свою лояльность Фрейду с собственной неспособностью выйти за пределы старомодной теории инстинктов. Даже учитывая все недостатки новой теории, она представляла собой существенное достижение: указывала на основополагающий конфликт человеческого существования – выбор между жизнью и смертью, – и заменяла прежнюю физиологическую концепцию влечений более глубоким биологическим подходом. Фрейд не сумел найти выхода и был вынужден оставить свою теорию инстинктов незавершенной. Дальнейшее развитие его теории нуждается в признании проблемы и в преодолении трудностей в надежде найти новые решения.
Обсуждая теорию инстинкта жизни и Эроса, мы обнаруживаем, что тут теоретические трудности, пожалуй, еще более велики, чем связанные с концепцией инстинкта смерти. Причины для этого очевидны. В теории либидо возбуждение было следствием химически вызванной сенсибилизации через стимуляцию различных эрогенных зон. В случае инстинкта жизни мы имеем дело с тенденцией, общей для всей живой материи, для которой нет специфического физиологического источника или специализированного органа. Как могли бы прежний сексуальный инстинкт и новый инстинкт жизни – или сексуальность и Эрос – оказаться одним и тем же?
Тем не менее, хотя Фрейд в «Новых вводных лекциях» писал, что новая теория «заменила» теорию либидо, в тех же лекциях и в других работах он подтверждал, что сексуальные инстинкты и Эрос идентичны. Он писал: «Наша гипотеза заключается в том, что существуют два принципиально различных класса инстинктов: понимаемые в широчайшем смысле сексуальные инстинкты – или Эрос, если вы предпочитаете это название, – и инстинкты агрессивные, цель которых – разрушение» [26; 103], а в «Очерках истории психоанализа» – «Обо всей наличной энергии Эроса… мы впредь будем говорить как о либидо» [29; 150]. Временами Фрейд отождествляет Эрос с сексуальным инстинктом, а также с инстинктом самосохранения [20], что только логично после ревизии исходной теории и признания обоих изначальных противников – инстинкта самосохранения и сексуального инстинкта – имеющими либидозную природу. Однако хотя Фрейд иногда приравнивает Эрос и либидо друг к другу, несколько иной взгляд он высказывает в последней работе, «Очерках истории психоанализа». Здесь он пишет: «Большая часть того, что нам известно об Эросе – другими словами, о его представителе, либидо, – была получена в результате изучения сексуальной функции, которая, по преобладающему мнению, если и не в соответствии с нашей теорией, совпадает с Эросом» [29; 151. – Курсив мой. – Э.Ф.]. Согласно этому утверждению и в противоположность процитированному выше Эрос и сексуальность не совпадают. По-видимому, здесь Фрейд имел в виду, что Эрос является «первичным инстинктом» (помимо инстинкта смерти), одним из представителей которого служит сексуальный инстинкт. На самом деле Фрейд возвращается к взгляду, уже высказанному в «За пределами принципа удовольствия», где в примечании сказано, что сексуальный инстинкт «трансформировался для нас в Эрос, который стремится собрать и удержать вместе все части живой материи. То, что обычно называют сексуальными инстинтами, нами рассматривается как часть Эроса, направленная на внешние объекты» [18; 61].
Фрейд однажды даже сделал попытку указать на то, что его исходная концепция сексуальности «была совершенно не идентична представлению об импульсе, направленном на союз двух полов или вызывающем приятное ощущение в гениталиях; она скорее походила на всеохватывающий и всесохраняющий Эрос из «Пира» Платона» [22; 218]. Справедливость первой части этого утверждения очевидна. Фрейд всегда считал сексуальность чем-то более широким, чем сексуальность генитальная. Однако трудно понять, на каком основании он утверждает, что его прежняя концепция сексуальности напоминает платоновский Эрос.
Прежняя теория сексуальности полностью противоположна платоновским взглядам. Согласно Фрейду, либидо принадлежит исключительно мужчине, соответствующего женского либидо не существует. Женщина, в соответствии с чрезвычайно патриархальными предубеждениями Фрейда, не была существом, равным мужчине, – она являла собой изувеченного, кастрированного мужчину. Сама суть платоновского мифа о том, что мужчина и женщина когда-то были единым целым, заключается в равенстве половинок, а их полярность сопряжена со стремлением к воссоединению.
Единственная причина попытки Фрейда интерпретировать прежнюю теорию либидо в свете платоновского Эроса заключалась, должно быть, в желании избежать разрыва между двумя фазами, даже ценой очевидного искажения своей прежней теории.
Как и в случае инстинкта смерти, Фрейд столкнулся с трудностью в отношении инстинктивной природы инстинкта жизни. Как указывал Феникел [3], инстинкт смерти не может быть назван инстинктом в терминах новой фрейдовской концепции, изложенной сначала в работе «За пределами принципа удовольствия», а затем во всех позднейших работах, включая «Очерки истории психоанализа». Фрейд писал: «Хотя они [инстинкты] являются первопричиной любой активности, они по природе консервативны; какого бы состояния ни достиг организм, существует тенденция к восстановлению этого состояния, как только оно окажется нарушено» [29; 148].
Обладают ли Эрос и инстинкт жизни этим консервативным качеством всех инстинктов, и таким образом могут ли они по праву быть названы инстинктами? Фрейд очень старался найти решение, которое позволило бы сохранить консервативный характер инстинкта жизни.
Говоря о зародышевых клетках, которые «борются против смерти живой материи и успешно выигрывают сражение, что мы можем рассматривать только как потенциальное бессмертие» [18; 40], Фрейд утверждал: «Инстинкты, присматривающие за судьбой этих элементарных организмов, которые переживают индивида в целом, обеспечивающие им надежное убежище, пока они беззащитны против стимулов внешнего мира, ведущие к встрече с другими зародышевыми клетками и т. д., образуют группу сексуальных инстинктов. Они консервативны в том же смысле, что и другие инстинкты, так как воспроизводят более ранние состояния живой материи, но они консервативны в большей степени, будучи удивительно устойчивыми против внешних воздействий; к тому же они консервативны и в другом смысле: они сохраняют саму жизнь на сравнительно долгий период. Это – истинные инстинкты жизни. Они действуют против других инстинктов, по своей функции ведущих к смерти, и этот факт показывает, что между теми и другими существует противостояние, противостояние, важность которого давно выявлена теорией неврозов. Представляется, что организм существует в меняющемся ритме: одна группа инстинктов стремится вперед, чтобы достичь окончательной цели жизни как можно быстрее; однако когда в этом продвижении достигается определенная стадия, другая группа устремляется обратно к некой точке, чтобы начать все сначала и тем самым продлить путешествие. Хотя несомненно, что сексуальность и различия между полами не существовали, когда жизнь только возникла, сохраняется возможность того, что те инстинкты, которые позднее были названы сексуальными, действовали с самого начала и вовсе не только впоследствии начали противостоять Эго-инстинктам» [18; 41. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Наибольший интерес в этом пассаже – и причина, по которой я привожу такую длинную цитату, – заключается в том, как отчаянно Фрейд пытается спасти концепцию консервативности всех инстинктов, а тем самым и инстинкта жизни. Ему приходится искать выход в новой формулировке определения сексуального инстинкта как заботящегося о зародышевых клетках, что совершенно отличается от всей концепции инстинктов, содержащейся в его предыдущих работах.
Несколькими годами позже, в работе «Эго и Ид», Фрейд предпринял попытку придать Эросу статус настоящего инстинкта, приписав ему консервативную природу. Он писал: «На основании теоретических соображений, поддерживаемых биологией, мы выдвигаем гипотезу инстинкта смерти, задачей которого является возвращение органической жизни в неодушевленное состояние; с другой стороны, мы предположили, что Эрос, приводя к имеющему все более и более важные последствия объединению частиц, на которые рассеяна живая материя, направлен к усложнению жизни и в то же время, конечно, к сохранению ее. Действуя таким образом, оба инстинкта были бы консервативны в строжайшем смысле слова, поскольку оба стремились бы восстановить положение вещей, которое было нарушено возникновением жизни. Возникновение жизни, таким образом, было бы причиной продолжения жизни и в то же время стремления к смерти, а сама жизнь была бы конфликтом и компромиссом между этими двумя направлениями. Проблема происхождения жизни осталась бы проблемой космологии, а проблема смысла и цели жизни получила бы дуалистический ответ» [20; 40].
Эрос направлен к усложнению и сохранению жизни, и поэтому он тоже консервативен, поскольку с возникновением жизни рождается инстинкт, который должен ее сохранять. Однако, должны мы спросить, если в природе инстинкта – восстанавливать самую раннюю стадию существования, неорганическую материю, как может он в то же время стремиться восстановить более позднюю стадию – а именно, жизнь?
После всех этих безуспешных попыток сохранить консервативный характер инстинкта жизни Фрейд в «Очерках истории психоанализа» наконец приходит к негативному решению: «В случае Эроса (и инстинкта любви) мы не можем применить эту формулу [консервативного характера инстинктов]. Сделать это значило бы предположить, что живая материя была когда-то единым целым, которое впоследствии распалось, а теперь стремится к воссоединению» [29; 149. – Курсив мой. – Э.Ф.]. Здесь Фрейд добавляет важное примечание: «Некоторые писатели воображают нечто подобное, но ничего такого из действительной истории живой материи нам не известно» [Там же]. Совершенно очевидно, что Фрейд здесь имеет в виду платоновский миф об Эросе, но возражает против него как против поэтической вольности. Такое отвержение удивительно. Ответ Платона действительно удовлетворил бы теоретическим требованиям консервативной природы Эроса. Что более подошло бы для обоснования формулы, согласно которой инстинкт стремится восстановить более раннюю ситуацию, чем положение о том, что мужчина и женщина изначально были единым целым, затем оказались разъединены и испытывают стремление к воссоединению? Почему Фрейд не принял этот выход и тем самым не избавил себя от теоретического возражения, согласно которому Эрос – не настоящий инстинкт?
Возможно, удастся пролить на этот вопрос больше света, если мы сравним примечание в «Очерках истории психоанализа» с более ранним детальным его рассмотрением в работе «За пределами принципа удовольствия». В нем Фрейд цитировал слова Платона в «Пире» об исходном единстве человека, который был разделен пополам Зевсом; после такого разделения каждая половинка жаждет найти вторую; они встретились и обняли друг друга, стремясь слиться. Фрейд писал: «Не следует ли нам принять намек, который дал нам поэт-философ, и допустить гипотезу, что живая материя в тот момент, когда она обрела жизнь, была раздроблена на мелкие частицы, которые с тех пор стремятся к соединению с помощью сексуальных инстинктов? Что эти инстинкты, в которых выражалось химическое сродство элементов неодушевленной материи, развиваясь в царстве простейших одноклеточных организмов, постепенно добились успеха в преодолении трудностей, создаваемых окружающей средой, полной опасных стимулов – стимулов, побуждавших организмы формировать защитный корковый слой? Что эти разбросанные фрагменты живой материи таким образом достигли многоклеточного состояния и наконец передали инстинкт к воссоединению, в его наиболее концентрированной форме, в зародышевые клетки? Однако здесь, я думаю, пора остановиться» [18; 58].
Мы с легкостью видим различие между двумя утверждениями: в более ранней формулировке (в «За пределами принципа удовольствия») Фрейд оставляет вопрос открытым, в то время как позднее (в «Очерках истории психоанализа») ответ на него оказывается определенно отрицательным.
Однако гораздо важнее формулировка, содержащаяся в обоих высказываниях. В обоих случаях Фрейд говорит о «живой материи», разорванной на части. Платоновский миф, однако, говорит не о живой материи, разорванной на части, а о разделенных мужчине и женщине, стремящихся к воссоединению. Почему Фрейд настаивал на понятии живой материи как на решающем моменте?
Думаю, что ответ может заключаться в субъективном факторе. Фрейд был глубоко проникнут патриархальным чувством, согласно которому мужчина выше женщины, а не равен ей. Поэтому предположение о полярности мужчины и женщины, которая, как и любая полярность, предполагает различия и равенство сторон, было для него неприемлемо. Эмоциональные мужские предубеждения в гораздо более ранний период творчества привели Фрейда к теории о том, что женщина – это искалеченный мужчина; ею управляют комплекс кастрации и зависть к пенису; женщина ниже мужчины еще и потому, что ее Суперэго слабее, а нарциссизм, напротив, сильнее, чем у мужчины. Можно, безусловно, восхищаться блеском этого построения, однако трудно отрицать, что заключение о том, что одна половина рода человеческого – всего лишь искалеченная версия другой половины, попросту абсурдно и может быть объяснено только глубиной сексуальной предубежденности (мало отличающейся от расовых и/или религиозных предрассудков). Так удивительно ли, что Фрейд столкнулся с препятствием, когда, следуя за мифом Платона, должен был бы признать равенство мужчины и женщины? Конечно, он не мог сделать такой шаг; поэтому он и заменил союз мужчины и женщины на единство «живой материи» и отверг логический путь преодоления трудности, заключающейся в том, что Эрос не разделял консервативной природы инстинктов.
Критика фрейдовской теории инстинктов
Фрейд оставался пленником образа мыслей и чувств общества, в котором жил, и выйти за его пределы был неспособен. Когда ему открылось новое понимание, только часть его – как и его следствий – оказалась осознанной, в то время как другая часть осталась в подсознании, поскольку была несовместима с его «комплексом» и прежними мыслями. Осознанное мышление Фрейда должно было попытаться преодолеть противоречия и непоследовательность, создавая конструкции, достаточно правдоподобные, чтобы удовлетворить сознательный мыслительный процесс.
Фрейд не выбрал – и как я постарался показать – не мог выбрать решение, которое позволило бы Эросу удовлетворять его собственному определению инстинкта, т. е. обладать консервативной природой. Был ли у Фрейда другой теоретический выбор? Думаю, что был. Фрейд мог бы найти другое решение, соответствующее его новому пониманию доминирующей роли любви и деструктивности, в пределах своей традиционной теории либидо. Он мог бы рассмотреть полярность прегенитальной сексуальности (орального и анального садизма) как источника деструктивности и генитальной сексуальности – как источника любви. Однако, конечно, принять такое решение Фрейду было трудно в силу причин, рассмотренных выше. Это привело бы его опасно близко к монистическим взглядам, поскольку и деструктивность, и любовь оказались бы либидозными. Однако Фрейд уже заложил основу для того, чтобы связать деструктивность с прегенитальной сексуальностью, сделав вывод о том, что разрушительная часть анально-садистского либидо является инстинктом смерти [18], [20]. Если это так, то уместно предположить, что само анальное либидо находится в глубокой связи с инстинктом смерти; на самом деле, представляется оправданным заключение о том, что сущность анального либидо – стремление к разрушению.
Однако Фрейд не приходит к такому заключению, и интересно рассмотреть причины этого.
Первая причина лежит в слишком узкой интерпретации анального либидо. Для Фрейда и его последователей основным аспектом анальности являлась тенденция к контролю и обладанию (помимо дружелюбного аспекта сдерживания). Но ведь контроль и обладание – несомненно, тенденции, противоположные любви, содействию, освобождению, которые образуют самостоятельный синдром. С другой стороны, контроль и обладание не содержат в себе истинной сути деструктивности, стремления к разрушению, враждебности к жизни. Несомненно, анальный характер характеризуется глубоким интересом и ощущением родства с фекалиями, будучи частью их общей близости ко всему неживому. Фекалии – продукт, в конце концов отвергаемый организмом, который больше не находит им применения. Анальный характер привлекают фекалии, как привлекает его все, что бесполезно для жизни, – грязь, смерть, гниль. Можно сказать, что стремление к контролю и обладанию – лишь один аспект анального характера, более мягкий и менее злостный, чем ненависть к жизни. Я полагаю, что если бы Фрейд увидел эту прямую связь между фекалиями и смертью, он мог бы прийти к заключению, что главная полярность существует между генитальной и анальной ориентациями, двумя хорошо клинически изученными состояниями, эквивалентами Эроса и инстинкта смерти. Сделай он это, и Эрос и инстинкт смерти не выглядели бы двумя биологически заданными одинаково сильными тенденциями; Эрос рассматривался бы как биологически оправданная цель развития, в то время как инстинкт смерти основывался бы на нарушении нормального развития и в этом смысле являлся бы патологическим, хотя и глубоко укорененным стремлением. Если пожелать прибегнуть к биологическим спекуляциям, можно соотнести анальность с тем фактом, что ориентация по запаху свойственна всем четвероногим млекопитающим, а прямохождение предполагает изменение ориентации по запаху на зрительную ориентацию. Изменение функций древних обонятельных отделов мозга соответствовало бы такой же трансформации ориентации. Учитывая это, можно считать, что анальный характер представляет собой регрессивную фазу биологического развития, для которой, возможно, существуют даже конституционально-генетические основания. Анальность ребенка может рассматриваться как эволюционное повторение биологически более ранней фазы в процессе перехода к полностью сформированному человеческому функционированию (в терминах Фрейда анальность-деструктивность имела бы консервативную природу инстинкта, т. е. возврат от ориентации на генитальность-любовь-зрение к ориентации на анальность-деструктивность-обоняние).
Связь между инстинктами жизни и смерти по сути была бы той же, как связь между прегенитальным и генитальным либидо во фрейдовской схеме развития. Фиксация либидо на анальном уровне была бы патологическим феноменом, имеющим, однако, глубокие корни в психосексуальной конституции, в то время как генитальный уровень был бы характеристикой здорового индивида. При таком рассуждении анальный уровень обладал бы двумя довольно различающимися аспектами: стремлением к контролю и стремлением к разрушению. Как я старался показать, это было бы различием между садизмом и некрофилией.
Однако Фрейд таких связей не выявил, а возможно, и не мог выявить по причинам, которые обсуждались выше в связи с трудностями в теории Эроса.
Выше я указывал на имманентные противоречия, к которым оказался принужден Фрейд при переходе от теории либидо к теории Эроса – инстинкта смерти. В последней содержится конфликт другого рода, на который следует обратить внимание: это конфликт между Фрейдом-теоретиком и Фрейдом-гуманистом. Теоретик приходит к заключению, что человек имеет выбор только между тем, чтобы уничтожить себя (медленно, в результате болезни), и тем, чтобы уничтожать других; иначе говоря, между причинением страданий себе или другим. Гуманист восстает против этой трагической альтернативы, которая сделала бы войну рациональным решением проблемы человеческого существования.
Нельзя сказать, что Фрейд питал отвращение к трагическим альтернативам. Напротив, в своей ранней теории он именно трагическую альтернативу и выстроил: подавление требований инстинктов (особенно прегенитальных) считалось основой развития цивилизации; подавленное инстинктивное влечение «сублимировалось» по ценным культурным каналам, но все же за счет полного человеческого счастья. С другой стороны, подавление вело не только к росту цивилизации, но и к развитию неврозов у многих из тех, у кого процесс подавления не происходил успешно. Такова и была альтернатива: отсутствие цивилизации соотносилось с полным счастьем, а цивилизация – с неврозами и уменьшением счастья.
Противоречие между инстинктом смерти и Эросом ставит человека перед вполне реальной и поистине трагической альтернативой: реальной, потому что человек может предпочесть нападение и войну, агрессию, выражение враждебности собственной болезни. Что такая альтернатива трагична, едва ли нужно доказывать, по крайней мере с точки зрения Фрейда или любого другого гуманиста.
Фрейд не делает попытки затушевать проблему, смягчив остроту конфликта. В «Новых вводных лекциях» он писал: «А теперь мы видим важность того, что агрессивность может не найти удовлетворения во внешнем мире, столкнувшись с реальными препятствиями. Если это случится, она, возможно, обратится вспять и увеличит самодеструктивность, владычествующую внутри. Мы рассмотрим, как это на деле происходит и насколько важен этот процесс» [26; 105].
В «Очерках истории психоанализа» Фрейд писал: «Сдерживание агрессивности в целом явление нездоровое и ведет к болезни» [29; 150]. Как, столь четко выразив свои взгляды, мог Фрейд противиться импульсу безнадежно смотреть на человеческие дела и не присоединиться к тем, кто рекомендовал войну как лучшее лекарство для человечества?
Действительно, Фрейд предпринял несколько попыток найти выход из противостояния между теоретиком и гуманистом. Одна из них заключалась в идее о том, что разрушительный инстинкт может трансформироваться в совесть. В «Недовольстве культурой» Фрейд спрашивал: «Что с ним [агрессором] должно произойти, чтобы его стремление к агрессии стало безвредным?» и отвечал: «Нечто удивительное, чего нельзя было бы предположить и что тем не менее совершенно очевидно. Его агрессивность интроецируется, интернализуется; она на самом деле направляется туда, откуда возникла – другими словами, направляется против его собственного Эго. Там она побеждается той частью Эго, которая выступает против остальных частей как Суперэго и которая теперь в форме совести готова использовать против Эго ту самую жесткую агрессивность, которую Эго хотело бы удовлетворить за счет других индивидов, находящихся вовне. Напряжение между жестким Суперэго и подчиненным ему Эго называется чувством вины и выражается в потребности в наказании. Цивилизация, таким образом, приобретает власть над опасным стремлением индивида к агрессии путем ослабления и разоружения его и создания внутри него наблюдающей инстанции, подобной гарнизону в завоеванном городе» [25; 123f].
Трансформация деструктивности в самонаказывающую совесть не представляется таким преимуществом, как это предполагает Фрейд. Согласно его теории, совесть должна была бы быть столь же жестокой, как и инстинкт смерти, поскольку она заряжена его энергией; не приводится никаких обоснований того, почему инстинкт смерти должен «ослабнуть» и «разоружиться». Представляется, что более логично реальные последствия идеи Фрейда выразит следующая аналогия: город, которым правил жестокий враг, освобождается с помощью диктатора, который затем устанавливает систему, ничуть не менее жестокую, чем та, которая была при поверженном враге; таким образом, каков же выигрыш?
Впрочем, эта теория суровой совести как проявления инстинкта смерти является не единственной попыткой Фрейда смягчить свою концепцию трагической альтернативы. Другое, менее трагичное объяснение выражено в следующих словах: «Инстинкт разрушения, умеренный, укрощенный и в результате не способный достичь цели, должен, когда направлен на объект, удовлетворять жизненные потребности Эго и давать ему контроль над естеством» [25; 121]. Это представляется хорошим примером «сублимации»[53]; стремление инстинкта к цели не ослаблено, но он направлен на другие, социально приемлемые цели, – в данном случае на «контроль над естеством».
Действительно, это выглядит отличным решением. Человек освобождается от трагического выбора между уничтожением других или себя, потому что энергия инстинкта разрушения используется для контроля над естеством. Но, должны мы спросить, может ли такое быть? Может ли на самом деле деструктивность трансформироваться в конструктивность? Что может значить «контроль над естеством»? Приручение и разведение животных, собирательство и земледелие, ткачество, строительство жилищ, гончарное производство и многие другие виды деятельности, включая проектирование машин, строительство железных дорог, аэропланов, небоскребов – все эти акты конструирования, строительства, унификации, синтеза при желании приписать их одному из двух базовых инстинктов с тем же успехом могут мотивироваться Эросом, как и инстинктом смерти. За возможным исключением убийства животных для пропитания и убийства людей на войне, действий, которые можно рассматривать как имеющие корни в деструктивности, материальное производство не деструктивно, а конструктивно.
Фрейд делает еще одну попытку смягчить суровость предложенной им альтернативы в своем ответе Эйнштейну «Неизбежна ли война?». Даже в этом случае, столкнувшись с вопросом о психологических причинах войны, поставленным одним из величайших ученых и гуманистов столетия, Фрейд не стал маскировать суровость предложенной им альтернативы. С полнейшей ясностью он писал: «В результате некоторых рассуждений мы стали полагать, что этот инстинкт действует в любом живом существе и стремится его уничтожить, а жизнь вернуть в исходное состояние неживой материи. Таким образом, он со всей серьезностью заслуживает названия инстинкта смерти, в то время как эротические инстинкты представляют собой стремление к жизни. Инстинкт смерти превращается в инстинкт разрушения, когда с помощью специальных органов оказывается направлен вовне, на объекты. Организм, так сказать, сохраняет свою жизнь, разрушая чужую. Некоторая часть инстинкта смерти, впрочем, остается действующей внутри организма, и мы проследили достаточно большое число нормальных и патологических явлений, подтверждающих интериоризацию инстинкта разрушения. Мы даже позволили себе еретическое утверждение, отнеся происхождение совести за счет такого обращения агрессивности вовнутрь. Как вы заметите, это совсем не мелочь: если такой процесс заходит достаточно далеко, то определенно вредит здоровью. С другой стороны, если силы инстинкта смерти обращены на уничтожение внешнего мира, организм испытывает облегчение и эффект должен быть благоприятным. Это послужило бы биологическим оправданием всех отвратительных и опасных импульсов, против которых мы боремся. Следует признать, что они ближе природе, чем наше им сопротивление, для чего также нужно найти объяснение» [27; 211. – Курсив мой. – Э.Ф.].
Сделав это очень ясное и бескомпромиссное утверждение, суммирующее его ранее высказанные взгляды на инстинкт смерти, и заявив о недоверии к рассказам о счастливых народах, которые «не знают ни принуждения, ни агрессии», Фрейд к концу письма постарался прийти к менее пессимистическому решению, чем, казалось бы, предсказывало начало. Его надежды основывались на нескольких возможностях. «Если готовность вступить в войну, – писал он, – есть эффект инстинкта разрушения, самым очевидным средством было бы призвание Эроса, его антагониста, для противодействия. Все, что поощряет рост эмоциональных связей между людьми, должно действовать против войны» [27; 212].
Удивительно и трогательно, как Фрейд-гуманист (пацифист, как он сам себя называл) отчаянно старался обойти логические следствия собственных предпосылок. Если инстинкт смерти так могуществен и фундаментален, как во всеуслышание утверждал Фрейд, можно ли его значительно ослабить, вводя в игру Эрос, если учесть, что оба инстинкта свойственны каждой клетке и что они представляют собой неустранимое свойство живой материи?
Второй аргумент Фрейда в пользу мира еще более фундаментален. В конце своего письма Эйнштейну он пишет: «Война полнейшим образом противоречит психическим установкам, выработанным у нас цивилизационным процессом; по этой причине мы обязаны выступить против нее, мы просто не можем с ней больше мириться. Это не только интеллектуальная и эмоциональная нетерпимость; у нас, пацифистов, имеет место конституциональная непереносимость войны, идиосинкразия, выраженная в величайшей степени. Действительно, представляется, что снижение эстетических стандартов, свойственное военному времени, играет в нашем неприятии войны едва ли меньшую роль, чем ее жестокость. Сколько должны мы ждать, чтобы остальное человечество также прониклось идеалами пацифизма? Трудно сказать…» [27; 215].
В письме Фрейд также затрагивает тему, иногда встречающуюся в его работах: цивилизационный процесс является фактором, ведущим к длительному, «конституциональному», «органическому» подавлению инстинктов [Там же].
Фрейд уже высказывал эту мысль много раньше, говоря об остром конфликте между инстинктом и цивилизацией: «При наблюдении за цивилизованными детьми складывается впечатление, что возведение этих плотин – продукт воспитания, и несомненно, воспитание играет важную роль. Однако на самом деле такое развитие задано органически и закреплено наследственностью; оно иногда может возникнуть без всякой помощи воспитания» [14; 178. – Курсив мой. – Э.Ф.].
В «Недовольстве культурой» Фрейд продолжал эту линию рассуждений, говоря об «органическом подавлении», например, в случае табу, относящегося к менструации или анальному эротизму, которое таким образом мостит дорогу цивилизации. Еще в 1897 году, в письме Флиссу от 14 ноября, он писал, что «в подавлении играет роль что-то органическое» [5].
Различные высказывания, процитированные здесь, показывают, что уверенность Фрейда в «конституциональной» нетерпимости к войне была не только попыткой обойти в его дискуссии с Эйнштейном трагическую перспективу, созданную его концепцией инстинкта смерти, но и находилась в соответствии с той линией мысли, которая, хоть и не была ведущей, присутствовала в глубине его сознания уже давно.
Если верны были предположения Фрейда о том, что цивилизация создает «конституциональное» и наследуемое подавление, что цивилизационным процессом некоторые инстинкты действительно ослабляются, – тогда он действительно нашел способ разрешить дилемму. Тогда цивилизованный человек не испытывал бы определенных инстинктивных побуждений, противоречащих культуре, в той же степени, что и первобытный человек, и разрушительные импульсы не имели бы у него той же интенсивности и силы. Эта линия рассуждений привела бы к предположению о том, что в процессе цивилизации мог возникнуть внутренний запрет на убийство, который закрепился наследственностью. Впрочем, даже если бы удалось обнаружить подобные наследственные факторы в целом, было бы чрезвычайно трудно предположить их существование в связи с инстинктом смерти.
Согласно фрейдовской концепции, инстинкт смерти – тенденция, присущая всей живой материи; предположение, что эта фундаментальная биологическая сила могла бы быть ослаблена в процессе цивилизации, было бы очень трудно обосновать теоретически. Следуя той же логике, можно предположить, что Эрос тоже мог бы быть конституционально ослаблен, что привело бы к более общему предположению о том, что сама природа живой материи может быть в процессе цивилизации изменена с помощью «органического» подавления[54].
Как бы то ни было, сегодня одним из самых важных направлений исследований представляется попытка установить факты, имеющие отношение к этому вопросу. Имеются ли достаточные свидетельства того, что в процессе цивилизации возникло конституциональное органическое подавление некоторых инстинктивных влечений? Отличается ли такое подавление от подавления в обычном для Фрейда смысле, т. е. ослабляет инстинктивные побуждения, а не удаляет их из сознания или направляет на другие цели? Есть и особый вопрос: сделались ли в ходе истории разрушительные импульсы человека слабее и возникли ли сдерживающие механизмы, закрепленные генетически? Ответ на этот вопрос потребовал бы широких исследований, особенно в антропологии, социопсихологии и генетике.
Может быть, загадка самообмана Фрейда насчет валидности его концепции инстинкта смерти требует еще одного элемента решения. Каждый внимательный читатель трудов Фрейда должен также понимать, насколько предположительно и осторожно он формулировал свои новые теоретические построения, представляя их в первый раз. Он не настаивал на их валидности и даже иногда оценивал уничижительно. Однако чем больше проходило времени, тем больше гипотетические конструкты приобретали вид теорий, на которых возводились новые построения и теории. Фрейд-теоретик очень хорошо осознавал сомнительную обоснованность многих своих построений. Почему же он забыл свои первоначальные сомнения? На этот вопрос трудно ответить; один из возможных ответов можно найти в его роли лидера психоаналитического движения (см. [34]). Те его ученики, кто осмеливался критиковать фундаментальные аспекты его теорий, тем или иным способом выживались. Основной контингент последователей Фрейда составляли, так сказать, пешеходы, которым их теоретическая подготовка не позволяла в полной мере следовать за Фрейдом в основных теоретических переменах. Они нуждались в догме, в которую верили и на основании которой могли строить свое движение[55]. Так Фрейд-ученый стал в определенном смысле пленником Фрейда – вождя движения или, иными словами, Фрейд-учитель стал пленником своих верных, но лишенных творческой жилки учеников.
5. Почему психоанализ превратился из радикальной теории в теорию адаптации?
Хотя Фрейда нельзя счесть «радикалом» даже в широчайшем политическом значении этого слова – на самом деле он был типичным либералом с сильными консервативными предпочтениями, – его учение было неоспоримо радикальным. Радикальными не были его теория сексуальности и метапсихологические рассуждения, но выдвижение на центральную роль подавления и придание фундаментального значения бессознательной стороне нашей психической жизни вполне могут быть названы радикальными. Они были таковыми, потому что разрушали последние твердыни веры человека в собственные всемогущество и всеведение, веры в то, что сознательная мысль является последним и высочайшим уровнем человеческого опыта. Галилей избавил человечество от иллюзии того, что Земля – центр мира, Дарвин – от иллюзии того, что человек создан Богом, но никто не подвергал сомнению тот факт, что сознательное мышление – последнее, на что человек может полагаться. Фрейд лишил человека гордости за собственную рациональность. Он докопался до корней – а именно это означает слово «радикал» (от латинского radix – корень) – и обнаружил, что значительная часть нашего сознательного мышления лишь маскирует настоящие мысли и чувства и скрывает правду; большая часть сознательного мышления – обман, рационализация мыслей и желаний, которые мы предпочитаем не осознавать.
Открытие Фрейда было потенциально революционным, потому что могло открыть людям глаза на реальную структуру общества, в котором они живут, и тем самым вызвать желание изменить его в соответствии с интересами и стремлениями подавляющего большинства. Однако, хотя мысль Фрейда обладала таким революционным потенциалом, ее широкое признание не привело к его реализации. Нападки коллег и общественного мнения были направлены главным образом против взглядов Фрейда на сексуальность, потому что они разрушаи некоторые табу европейского среднего класса XIX века; открытие бессознательного не имело революционных последствий. На самом деле это неудивительно. Требование, прямое или косвенное, большей толерантности в отношении секса по сути совпадало с другими либеральными установками: лучших условий содержания преступников, более свободного воспитания детей и т. д. Пристальное внимание к вопросам секса ослабляло общественную критику и тем самым отчасти выполняло политически реакционную функцию. Если в основе общего неблагополучия лежит неспособность человека разрешить свои сексуальные проблемы, нет нужды в критическом рассмотрении экономических, социальных и политических факторов, стоящих на дороге к полному развитию индивида. Напротив, политический радикализм можно было рассматривать как признак невроза, потому что, с точки зрения Фрейда и большинства его последователей, либеральный буржуа являлся образцом здорового человека. Можно было попытаться объявить левый или правый радикализм следствием невротических процессов, например, Эдипова комплекса, и политические взгляды, отличавшиеся от взглядов либерального среднего класса, заподозрить в «невротичности».
Подавляющее большинство психоаналитиков принадлежали к тому же среднему классу городской интеллигенции, что и основная масса их пациентов. Лишь горстка психоаналитиков придерживалась радикальных взглядов; из них наиболее известен был Вильгельм Райх, считавший, что подавление сексуальных побуждений создает контрреволюционный характер, а сексуальная свобода – революционный. Он выдвинул теорию, согласно которой сексуальная свобода ведет к революционной ориентации. Конечно, как показали дальнейшие события, Райх был совершенно не прав. Сексуальная либерализация по большей части явилась проявлением все возрастающего потребительского отношения к жизни. Если людей стали учить тратить и тратить, в отличие от установки XIX века – копить и копить, если их превратили в «потребителей», оставалось не только разрешить, но и поощрять и сексуальное потребление.
В конце концов, это простейший и самое дешевый из видов потребления. Райх заблуждался, потому что в его время у консерваторов была строгая сексуальная мораль, и из этого он заключил, что сексуальная свобода поведет к неконсервативным, революционным установкам. Историческое развитие показало, что сексуальная либерализация служит росту потребительского отношения к жизни и, если уж на то пошло, ослабляет политический радикализм. К несчастью, Райх плохо знал и понимал Маркса; его можно было бы назвать «сексуальным анархистом».
Фрейд мыслил как дитя своего времени и еще в одном аспекте. Он был членом классового общества, в котором незначительное меньшинство монополизировало большую часть богатств и защищало свои привилегии с помощью силы и контроля над умами тех, кем правило. Фрейд, считая такой тип общества единственно возможным, и модель человеческого разума конструировал соответственно. Эго – рационалистически мыслящая элита – должно было контролировать Ид, символизировавшее необразованные массы. Если бы Фрейд мог себе представить бесклассовое свободное общество, он отказался бы от Эго и Ид как от универсальных категорий человеческой психики.
На мой взгляд, опасность реакционной функции психоанализа может быть преодолена только раскрытием неосознаваемых факторов политической и религиозной идеологий[56]. Маркс в своей интерпретации буржуазной идеологии сделал по сути для общества то же, что Фрейд – для индивида. Однако часто упускается из виду, что Маркс дал собственную трактовку психологии, избежав ошибок Фрейда, что и служит основой социально ориентированного психоанализа. Он проводил различие между врожденными инстинктами, такими как удовлетворение сексуальных потребностей и насыщение, и такими явлениями, как амбициозность, ненависть, алчность, стремление к эксплуатации и т. д., которые порождаются жизненной практикой и в конечном счете производственными отношениями в определенного типа обществе, а потому могут меняться в историческом процессе[57].
Приручения психоанализа и превращения его из радикальной в либеральную теорию адаптации едва ли можно было избежать, потому что из буржуазного среднего класса происходили не только практиковавшие его аналитики, но и пациенты. Большинство пациентов хотело не стать более гуманными, более свободными, более независимыми – что значило бы более критически мыслящими и революционно настроенными, – а страдать не больше, чем средний представитель их собственного класса. Они хотели быть не свободными людьми, а успешными буржуа; они не хотели платить радикальную цену, которой потребовало бы предпочтение в пользу «быть» над «иметь». Да и с какой стати? Они едва ли видели когда-нибудь действительно счастливых людей – только относительно довольных своей судьбой, особенно если удалось добиться успеха и восхищения окружающих. Это была именно та модель, следовать которой они стремились, и психоаналитик, играющий роль такой модели, заключал, что пациент уподобится ему, если только достаточно долго будет говорить. Естественно, очень многие, получив сочувствующего слушателя, начинали чувствовать себя лучше; кроме того, с течением времени опыт заставляет среднего человека исправлять свою жизненную ситуацию, за исключением тех, кто слишком болен, чтобы учиться на ошибках.
Некоторые политически наивные люди могут думать, что если психоанализ – радикальная теория, он должен быть популярен среди коммунистов и особенно в так называемых социалистических странах. Действительно, в начале революции он пользовался некоторой популярностью (например, сам Троцкий интересовался психоанализом и в особенности теорией Адлера), но это было так только до тех пор, пока Советский Союз еще сохранял элементы революционной системы. С утверждением сталинизма и превращением общества в совершенно консервативное и реакционное, каким Советский Союз и остается по сей день, популярность психоанализа снизилась до полного исчезновения. Советская критика утверждает, что это идеалистическое буржуазное учение, игнорирующее экономические и социальные факторы; делаются и другие критические замечания, некоторые из которых не лишены оснований. Однако со стороны советских идеологов это всего лишь притворство. Чего они не выносят в психоанализе, так это не отдельные его недостатки, а главное его достижение – а именно, критическое мышление и недоверие к идеологиям.