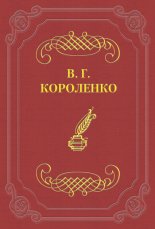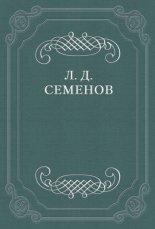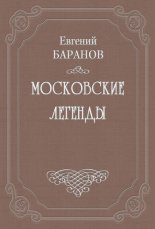Те, которые Жвалевский Андрей

И вот показывает мой полутезка эскизы искусствоведу, а тот за сердце хватается. «Боже! – кричит. – Это же талант! Самородок! Смотрите, как он стремительно прогрессирует!»
– Он там еще что-то говорил, – вздохнул участковый, – только я не запомнил. Он очень просил о встрече… Но я решил сначала с вами посоветоваться. Вы ведь не против?
Башка гудела, и я не мог сообразить, против я или нет. Я быстро провел подушечками пальцев по казенному одеялу. Нащупал на нем выпуклый узор и принялся его поглаживать. Как я выяснил в результате экспериментов, это нехитрое действие меня успокаивает.
А теперь пожмякать панцирную сетку – мозги прочищает.
– Этот профессор предлагает, – продолжил Вениамин Петрович, не дождавшись ответа, – подучить вас немного. А потом персональную выставку. Он говорит, вы талантливый художник, один на миллион…
И тут раздался хохот фрезеровщика:
– Твою ермолку! Художник, блин! Он же слепой, как чучело! Ты чего, командир, не заметил?
Я кожей почувствовал, как окаменел участковый.
– Ннне может быть… Как?..
– А вот так, – грустно отозвался я, вызвав новый приступ веселья фрезеровщика. – Тюкнули эти таксисты мне по затылочку монтировочкой – и все. Полная темнота.
Со стороны койки Макара Антоновича раздалось приглушенное шипение. Наверное, бывший учитель пытался урезонить ржущего пролетария. Добился он только того, что фрезеровщик от изнеможения перешел на похрюкивание.
– Ах, суки, – с чувством сказал Вениамин Петрович, – они же говорили… Ну я их найду!
Раздался грохот отодвигаемой табуретки, но я уже привел мысли в порядок и отпускать моего посетителя не собирался. Мои пальцы резвились среди пружин, и легкое покалывание бодрило не хуже крепкого кофе.
– Вениамин Петрович, – сказал я весело, – а приводите своего искусствоведа! У меня есть к нему предложение!
Из угла фрезеровщика донесся всхлип:
– Я щас сдохну!
* * *
– Слушай, Петрович, – сказал сосед слева, – а ты что, точно художник?
После визита участкового мой авторитет в палате вырос почти до уровня Путина.
– Учился, – коротко ответил я.
Не то чтобы брезговал беседой, но сосредоточился на другом. Мои пальцы и ладони шарили по одеялу, выискивая нужные шероховатости и выстраивая складки по определенной схеме.
– А че? – хохотнул фрезеровщик. – Был же глухой композитор! Че бы не быть слепому художнику?!
Теперь у него появилась новая тема для разговоров, и я искренне скучал по тем временам, когда выслушивал многоэтажные пожелания руководству завода.
Пальцы и ладони старательно отыскивали, выглаживали, сминали…
– Ну и как оно, – продолжал любопытствовать сосед слева, – много художники получают?
– Хрен его ведает, – тут я был совершенно честен. – Я ж только учился.
– И не узнал? – сосед был откровенно разочарован. – Чего учился, если расценок не знаешь?
– Ради идеи! – неожиданно подал голос пацан-«косильщик».
– Помолчал бы! – проскрипел Макар Антонович. – Что ж ты в военном комиссариате об идеях забываешь?!
В палате тут же завязалась живая дискуссия на тему «Духовное и материальное – что важнее?». Меня оставили в покое, всем кагалом навалившись на юного идеалиста.
Я продолжал свои манипуляции. Должно быть, со стороны казалось, что я просто нервничаю – руки снуют над одеялом, как ткацкие челноки. Иногда замирают, что-то сминают или разглаживают, снова проверяют. Я понимал всю степень риска. Молился богу, которого пока не встречал во Вселенной, чтобы искусствовед имел не только тонкую душу…
…И вздрогнул, когда услышал над самым ухом:
– Здравствуйте, любезнейший! Вы позволите присесть на вашу постель?
– Нет! – я испуганно раскинул руки над одеялом, как курица, которая пытается прикрыть птенцов от падающего камнем коршуна.
– О, – только и смог сказать гость.
– Вы его извините, – послышался голос Вениамина Петровича. – У него травма. Сотрясение мозга…
– …и потеря зрения, – добавил я. – Прошу простить, но садиться на кровать не нужно. Меня зовут…
– Александр Петрович, – сказал гость, – я уже знаю. А я Михаил Леонидович, кандидат искусств.
– Очень приятно, Михаил Леонидович, – я счел нужным слегка наклонить голову.
Впрочем, при этом старался не пошевелиться. Одеяло ни в коем случае не должно потерять форму.
– Как вы понимаете, – я старался говорить сухо, почти строго, – путь в изобразительное искусство для меня закрыт.
– Ну… – кандидат искусств явно пытался меня приободрить. – Медицина сейчас…
– Не с моими деньгами… Извините, что перебиваю.
Я вдруг понял, что вся палата превратилась в одно большое ухо. Это плохо… Могут украсть идею… Хотя кому тут красть? Не тот контингент.
– Поэтому мне пришлось изобрести новый вид искусства, – я сделал паузу. – Кинестетический. Или, если угодно, тактильный.
Кто-то – наверняка бывший учитель – уважительно прищелкнул языком. Фрезеровщик, к счастью, пока не видел причин для веселья.
– Это… – Михаил Леонидович пока не понимал, куда я клоню. – Это, простите, как?
– Дайте руку!
Я протянул обе руки в сторону голоса, ладонями вверх. После паузы (с участковым перемигивался, что ли?) искусствовед осторожно положил на них свою руку. Я аккуратно, но цепко ухватил ее и слегка пробежался пальцами. Теплая… кожа тонкая. Лучше не придумаешь!
– Не волнуйтесь, Михаил Леонидович, – я улыбнулся, искренне надеясь, что улыбка слепого не выглядит слишком жутко, – больно не будет.
Я аккуратно перевернул его руку ладонью вниз. Он все-таки был слишком напряжен…
– В таких случаях, – нервно сказал искусствовед, – врачи обычно врут: «Вы ничего не почувствуете!».
– О, нет! – таинственно сказал я. – Почувствуете! И еще как!
Я осторожно опустил его ладонь на одеяло.
– Ой, – сказал Михаил Леонидович как-то совсем по-детски. – Как… как странно…
Я порадовался. С первого раза попал на зону расслабления – хорошее начало. Рука кандидата искусств почти не сопротивлялась, когда я нежно передвинул ее вдоль одеяла.
Михаил Леонидович замер… и рассмеялся звонко и счастливо.
– Щекотно? – мой участковый, кажется, плохо понимал, что происходит.
Как, надеюсь, и все остальные, кроме искусствоведа.
– Не-а! Здорово! Весело! Вот это да! А еще что у вас есть?
– Немного грусти, если позволите.
– Только потом верните в эту зону, ладно? – по голосу искусствоведа было понятно, что он улыбается.
– Любой каприз! – ответил я и передвинул его руку на десять сантиметров вправо.
* * *
Я как раз заканчивал небольшую композицию, когда в дверь мастерской постучали. Деликатно, нервно – это искусствовед Миша.
– Занят! – крикнул я.
У меня действительно сейчас был важный этап – придание профилю нужной шероховатости. Для этого нужно рассыпать крупный песок по поверхности, на которую нанесен клей. Сыпать нужно очень равномерно, чтобы не пришлось потом сдирать лишнее.
Но Миша постучал вторично. Это было странно. Обычно после моего «Занят!» он затихал на полчаса и стучать более не отваживался, только покашливал. Значит, причина есть, и неотложная.
– Минуту! – сказал я тоном потише, но засыпку завершил.
Тщательно протер руку ветошью (вдруг Миша наконец привел нужного человека?) и только после этого отпер. Запах чужого одеколона заставил сердце биться сильнее. Это был отличный одеколон, дорогой, не резкий. И нанесен без фанатизма, с чувством меры.
Его хозяин вполне мог оказаться человеком, который мне нужен. Поэтому я решил сделать вид, что не заметил его. Пусть посмотрит на товар без упаковки.