Мумия из Бютт-о-Кай Изнер Клод
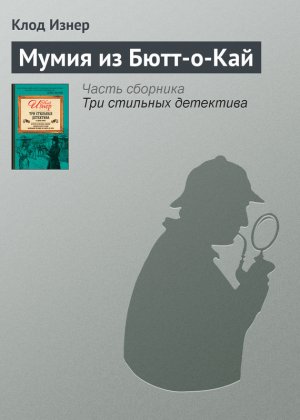
Пролог
Начало января 1896 года
Густой мелкий снег засыпал улицы белой пудрой. Париж дремал в объятиях зимней ночи. Однако, как и в любом другом городе, далеко не все его обитатели впали в оцепенение: нетвердой походкой возвращались домой гуляки, бодрствовали сутенеры, а те, кому просто не спалось, слонялись по городу, проклиная свою жалкую участь. Большинство тех, кто оставался на ногах, делали это не по своей воле: они подчинялись некоей неумолимой госпоже — работе. Это по ее прихоти бессонно гудел среди дремлющих кварталов порт Сен-Николя, где непрерывно подходили к причалу все новые баржи, покуда мирные рантье острова Сите посапывали на своих мягких перинах.
«Утренняя звезда», доставившая товар из Гавра, завершала свой путь по темной воде, в которой отражались кормовые огни и свет уличных фонарей. Она прошла вдоль купален Вижье, недалеко от Королевского моста, а когда оказалась у моста Карузель, небо побледнело и озарилось первыми лучами солнца. Павильон Флоры тенью мелькнул на фоне светлых облаков. Вот показался острый угол сквера Вер-Галан, возник силуэт Нотр-Дама с ее башнями, похожими на дымоходы. «Утренняя звезда» дала гудок и прошла среди драг[2] и подъемных кранов. Она пришвартовалась между трамповым судном из Лондона и огромной баржей, на которой, выбиваясь из сил, портовые рабочие кидали лопатами известь в огромные корзины. Эти корзины затем переправляли вниз, на набережную.
У берега покачивались, стукаясь бортами, лодки. Здесь же бродила черная дворняга, похожая на изможденного волка. Ее терзал мучительный голод. Ей бы хоть что-нибудь проглотить, свернуться калачиком у мотка троса и провалиться в небытие. Неподалеку искал себе пристанища вихрастый мальчишка в разбитых деревянных башмаках. Его тощее тело едва выдерживало груз непомерно большой головы, постоянно клонившейся вправо. Час назад он заморил червячка овощным бульоном в столовой для нищих, и теперь хотел лишь одного — найти укромный уголок, где можно было бы согреться и поспать. Родители бросили его два года назад на перекрестке, сказав, что скоро вернутся, и с тех пор он бродяжничал, побирался и почему-то надеялся однажды вновь увидеть родные лица. Когда у него спрашивали, куда он направляется, заморыш хрипло отвечал: «За город». Это было почти правдой, потому что летом он ошивался в Венсенском лесу и парке Сен-Клу. Там ему, возможно, попадалась и собака, рыскавшая по лесной просеке в поисках чего-нибудь съедобного — крота, лесной мыши или любых объедков. Несколько раз люди устраивали облаву, намереваясь поймать собаку и поместить в установленную на телеге огромную клетку, из которой доносился громкий лай, исполненный ярости и отчаяния. Несмотря на жалкий вид и запавшие бока, собака была сильна и осторожна. Инстинкт самосохранения помогал ей избегать многих опасностей и проявлять чудеса изобретательности, так что до сего дня ей удалось избежать живодерни, где погибло множество ее бездомных сородичей.
Когда солнце робко коснулось куполов Ла Монне и Института Франции и шлейф тумана растянулся вдоль Нового моста и моста Искусств, нависая над шлюзами и узким притоком Сены, собака наконец нашла себе прибежище и, свернувшись калачиком, задремала. По берегу взад-вперед сновали грузчики. Они сгибались под тяжестью огромных ивовых корзин, до краев заполненных каменным углем. Уголь грузчики сваливали в огромную кучу и снова возвращались к трюму за очередной порцией. У груды песчаника суетились женщины в повязанных вокруг головы платках. Этот камень, столь необходимый для строительства новых домов, везли из Сенара. От «Утренней звезды» к пристани протянулась цепочка людей, которые передавали друг другу тяжелые ящики.
Из своего убежища собака могла исподволь следить за портовой суетой. Она уж было смежила веки, как вдруг ее тонкий нюх различил едва уловимый запах. Поджав уши, на полусогнутых лапах, она отважилась выйти из укрытия. Ее тут же заметили грузчики и принялись что-то кричать. В панике собака метнулась по льду на разъезжающихся лапах и забилась под груду досок. «Держи! Держи ее! Ату!» — вопили вслед.
Но голод оказался сильнее чувства опасности. Когда шум немного затих, собака высунула из укрытия морду, но в нее тут же кто-то запустил камнем. Собака затаилась.
Из-за кучи песка за ней внимательно наблюдал мальчик. Он ей сочувствовал, ведь и ему самому приходилось несладко, и все это время он постоянно сталкивался с человеческой несправедливостью, равнодушием и жестокостью. А потому он придумал уловку, чтобы помочь четвероногому товарищу по несчастью. Подхватив брус, он поднял его как можно выше и резко бросил на груду щебня. Щебень с шумом осыпался на мостовую. Грузчики, ругаясь на чем свет стоит, никак не могли сообразить, что произошло. Тем временем собака, воспользовавшись суматохой, смогла наконец пробраться к источнику запаха — мешкам, выгруженным с «Утренней звезды».
Мальчик наблюдал, как дворняга с рычанием разодрала джутовую ткань и засунула в дыру морду. Когда она ее вытащила, морда оказалась перепачканной чем-то бурым. Мальчик сделал резкое движение, и собака испуганными прыжками вернулась в убежище. Удостоверившись в том, что никто на него не смотрит, мальчик отважился подойти к мешку. Он уже собирался засунуть в дырку руку, чтобы извлечь содержимое. Но тут увидел то, чего предпочел бы не видеть никогда. Взвизгнув, он как безумный ринулся к лестнице, ведущей с набережной на парапет.
А тем временем торговка вопила:
— Рюмашку! Кому рюмашку?
На правой руке у нее висела корзина, в которой позвякивали разноцветные бутылки, а в левой она держала термос с горьковатым кофе. Горячий кофе и выпивка отлично согревали грузчиков, береговых рабочих и бурлаков. К тому же это пойло неплохо заглушало голод. Торговка видела, как в мешке копались сначала голодная шавка, а потом этот заморыш, испугавшийся собственной тени. Сгорая от любопытства, она быстро подошла к мешку — и ее чуть не вывернуло наизнанку. Отвратительное зрелище! Отставив прочь корзинку, она бросилась к знакомому носильщику, который, недовольно морщась, все-таки согласился ее сопровождать.
Когда они наконец оказались на месте, страшный мешок исчез. На земле валялся лишь вывалившийся из дыры осколок человеческого черепа с ошметками окровавленной плоти.
Глава первая
29 февраля 1896 года, середина дня
Маленькая стрелка часов, казалось, застыла на цифре три. Айрис вернется около пяти. Виктор думал, что Дафнэ наконец устанет и он сможет передохнуть, но стоило ему уложить ее в кроватку, как она тут же вскочила и протянула ручонки, прося, чтобы он ее поднял и посадил к себе на плечи.
Сестра позвонила утром. Ей нужно было отлучиться, и она попросила его присмотреть за племянницей. Кэндзи был занят в книжной лавке, у бабушки разыгрался ревматизм, а Жозеф был занят — он разносил книги, так что без помощи старшего брата было не обойтись.
Виктор сослался на то, что не умеет обращаться с детьми. Айрис возразила, что это полезный опыт, ведь рано или поздно и у него появятся свои дети. Виктор неохотно согласился, ругая себя за уступчивость. Айрис уже покормила дочку, и ему нужно было всего лишь присмотреть за ней во время дневного сна.
Дневной сон? Утопия, мираж, несбыточная мечта!
Они строили на полу домики из кубиков с буквами, наряжали кукол, а потом затерялись в джунглях кресел и диванных подушек, охотясь за деревянным медведем, жирафом и слоном, которых Жозеф раздобыл в прошлом году у торговцев, попавших в затруднительное положение.[3] Наконец, превратившись в лошадку, Виктор несколько раз обежал на четвереньках квартиру. Девочка, сидя верхом, крепко держала его за волосы и визжала от радости, когда он громко, с удовольствием, ржал.
В конце-то концов ему даже понравилось возиться с этой крошкой, но сил уже не было никаких. Он предпринял очередную попытку уложить ребенка в постель. Безуспешно. Стоило ему уйти из комнаты, как Дафнэ принималась горько плакать, и перед ее слезами не мог бы устоять даже человек с каменным сердцем, не то что Виктор. Он посмотрел на часы. Было без четверти четыре.
— Не плачь, сейчас пойдем играть! — вздохнул незадачливый дядя.
Усадив Дафнэ на детский стульчик, Виктор огляделся и заметил под раковиной стопку старых газет. Он вспомнил, как в детстве, когда оставался один в резиденции Слоун-сквер, папа разрешал ему вырезать ножницами фигурки из старых номеров журнала «Таймс», правда, при условии, что на полу не будет валяться обрезков. Виктор взял газету, оторвал страницу и сложил гармошкой.
Он вырезал из сложенной страницы фигурку с толстым животом и огромным шиньоном на голове. А когда ее развернул, одна фигурка превратилась в десяток тетушек-близнецов, танцующих фарандолу.
— Мадам Толстушка! — объявил он.
Дафнэ посмотрела на фигурки, хитро улыбнулась и отрицательно покачала головой.
— Не тойстушка, — возразила она, — это баба Фосина! — Довольная, она рассмеялась и нежно прошептала: — Хочу сказку.
Виктор поднял с пола газетные странички и вдруг увидел заметку, обведенную красным карандашом:
Человек, встретивший смерть вчера ближе к вечеру у Дворца колоний, вероятно, тоже был ужален пчелой. Это американский исследователь-натуралист. На днях приехав в Париж, он…
Эта заметка уже канула в Лету, ее постигла участь всех прочих подобных публикаций, но теперь, нарушив ход времени, она вдруг оживила события семилетней давности, и Виктор представил себя таким, каким был тогда. Он вспомнил, как бежал по лестнице с букетом маргариток, белых солнышек с желтыми сердцевинками. Вот Таша открывает ему дверь своей мансарды, босая, в широкой блузе. Ее собранные гребешком рыжие волосы переливаются в радужном свете, проникшем в комнату через слуховое окно…
Это видение вызвало у него счастливый вздох.
Таша… Без нее жизнь не имела бы смысла…
Он почувствовал, что его дергают за рукав, и мгновенно вернулся к реальности.
— Тише, Дафнэ! Это бумаги Жозефа! 1889 год, Всемирная выставка, наше первое расследование![4] Если твой папа обнаружит, что бабушка опять использует его газеты как туалетную бумагу… Ой, что будет!
Он скомкал обрезки и, от греха, сунул в мусорное ведро, чтобы Жозеф ничего не заприметил. Ополоснув руки, подхватил Дафнэ и направился в комнату. Девочка прижалась к нему щекой, ее веки дрогнули.
— Бай-бай, — прошептал Виктор, подхватил вырезанную фигурку и, скомкав, сунул в карман.
Дафнэ, словно в насмешку, тут же широко раскрыла глаза.
— Тото, сказку!
— Ну хорошо, хорошо… Но какую? Я уж и не помню никаких сказок…
Ему странно было возиться с этой крошкой в своей бывшей квартире. Когда-то они с Таша целую неделю наслаждались здесь друг другом, почти не выходя из дома.
Испытывая легкую грусть, он принялся напевать:
- Время улетает прочь,
- Улетают наши жизни,
- Улетим и мы с тобой —
- Завтра, может, иль сегодня…[5]
— Не пой! Сказку!
Он подумал о маргаритках, о том, как Таша встретила его на пороге своей мансарды: «Извините за мой вид, я ужасно выгляжу…» — и начал рассказывать.
— Жил-был цветок, и был он совсем некрасивым… Э-э-э… Даже уродливым. У него было всего четыре крошечных серых лепестка, тонкий, как проволока, стебелек и два невзрачных круглых листика. Он был так безобразен, что пчелы, сновавшие вокруг, жужжали: «Ж-ж-ж… Ах! Какой уж-ж-ж-жас!» И перелетали на другой цветок. А бабочки, порхавшие поблизости, хлоп-хлоп-хлоп, никогда на него не садились. Несчастный цветок грустил, ведь он был совсем-совсем никому не нужен.
Виктор рассказывал ребенку сказку впервые в жизни, он не знал, как это делается, и потому, подражая какому-то комедийному актеру, строил рожицы, размахивал руками и даже делал вид, что плачет. Дафнэ невозмутимо наблюдала за ним, засунув в рот большой палец.
«Неужели ей интересно?!» — подумал он, не представляя, чем закончить свой рассказ.
— Сказку, Тото! — потребовала девочка.
— Погоди минуточку…
Разве может мужчина тридцати шести лет устоять перед просьбами полуторагодовалой кокетки?
— …И вот однажды, когда стало совсем одиноко, — продолжил Виктор, — некрасивый цветок отважился заговорить с другим цветком, своей соседкой. А соседка была очаровательна, с яркими лепестками, зелеными листочками и прямым стебельком. «Скажи, пожалуйста, как тебе удается быть столь лучезарной?» — спросил безобразный цветок. «Это так просто! — ответила красавица. — Я дружу с солнышком». — «С солнышком? А как же с ним подружиться?» — «С ним надо поговорить». — «Отлично!» — сказал безобразный цветок, принялся размахивать своими жалкими листочками и даже вырвал из земли свои тощие корешки. Цветок закружился в нелепом полете, развеселившем пролетавших мимо птичек, и добрался до солнышка. А очутившись наверху… Э-э-э… Ну… Неизвестно, что с ним произошло дальше, потому что, когда смотришь на солнце, так больно глазам, что приходится зажмуриваться. Закрывай глазки, Дафнэ, баю-бай, баю-бай…
Кто-то вдруг захлопал в ладоши. Виктор поднял голову: в дверях, в мокром плаще, стоял Жозеф.
— Браво, Тото!
— Тсс! Она спит. И не называйте меня Тото! — прошептал Виктор.
— Конечно, извините, — промямлил Жозеф. — Поздравляю, из вас вышел бы прекрасный сказочник!
— Жозеф, прошу вас, я едва стою на ногах. Не представляю, как вы со всем этим справляетесь…
— Наконец хоть кто-то посочувствовал. Я и сам не знаю. Когда разрываешься между книжной лавкой, нашими расследованиями, вами, Кэндзи, моей матерью, доставками, написанием книг… Кстати, вам не кажется, что моя дочь еще маловата для этой истории про безобразный цветок?
— Я не думаю, что это может ей навредить.
- Трам-тара-рам!
- Чихать я хотел на школу!
- Трам-тара-рам!
- От грамматики я взопрел.
- Трам-тара-рам…[6]
Жан-Батист Бренгар, так называемый Бренголо, перестал горланить песню и глотнул еще ратафии.[7] Целый день он бродил под колючим дождем, мелким и пронизывающе холодным. Под этой мерзостью промокаешь порой сильнее, чем под ливнем. Он попал в Жантийи вечером, когда не боявшиеся восточного ветра прохожие отважно тянулись к дому. И уже почти отчаялся найти приют, когда поток света, разорвав мутное небо, словно перст Божий, указал ему на невзрачную хижину. Бренголо, не раздумывая, направился к бедной лачуге, на двери которой даже не было замка. Там он обнаружил грабли, лопату и мешок с гнилой картошкой. Самое Провидение привело его к этому райскому жилищу, хорошо бы только, чтобы никто его не потревожил.
Увы, очень скоро в дверях появился худощавый человек с корзиной на плечах.
— Простите, мсье, на улице я бы просто околел! — воскликнул Бренголо.
— Не беспокойтесь, дружище. Я просто вспомнил, что не запер дверь… Но раз уж вы здесь… — Хозяин лачуги махнул рукой. — Огород был нашей с женой радостью. Мы сажали капусту, салат, лук-порей. Это, конечно, не рай земной, но зато, когда обрабатываешь клочок земли, тебе кажется, что ты богач. А какой был горох! А помидоры! Мы удобряли почву куриным навозом, а лучшего удобрения для овощей и не придумать!
— Отличное удобрение, к тому же бесплатное, — поддакнул Бренголо. Ему хотелось завоевать расположение хозяина. Вдруг тот позволит ему остаться здесь на пару деньков?
— Увы, жена умерла, а огород хотят отобрать. Мол, он мне не принадлежит. Да что уж тут поделать! Когда-то мы с Монетт приезжали сюда каждое воскресенье, она возилась с грядками, я пил охлажденное в ведре с водой пиво и дремал, надвинув на затылок соломенную шляпу… Без нее все утратило смысл…
— Кстати о пиве… Может, у вас остался хотя бы глоточек?
— Нет, дружище, ни капли. Вот, держите… два су… Я не богач, сколько могу… А если что — в двадцати метрах отсюда стоят фургоны старьевщиков, они хоть и живут в постоянной нужде, но всегда выручат, если что.
— Да-да, это правда. Всегда найдутся люди несчастнее тебя. Уж я-то знаю, как меня встретят в деревушке. Слава богу, что ненароком не арестовали: ведь что бы ни стряслось, легче легкого обвинить в том бездомного. А я и мухи не обижу! — воскликнул Бренголо.
— Мне-то кажется, честного человека сразу видно… Оставайтесь здесь, если хотите. Эту лачугу снесут только в августе, а я буду сюда захаживать, когда в огороде что-нибудь поспеет.
— Вы так добры! Знаете, для таких, как я, нет ничего страшнее, чем в холодрыгу ночевать на улице.
— Я попрошу у соседа сена, вот вам и постель.
— А кто ваш сосед?
— Он держит нечто вроде постоялого двора. Там ночуют возницы, а лошадям дают овса. Вам не кажется, что тут как-то странно пахнет?..
С этими словами хозяин домишки вдруг удалился, и Бренголо даже не успел попросить у него хотя бы похлебки. Придется довольствоваться краюхой хлеба и почками, которыми его угостила добродушная колбасница.
Бренголо давно уже усвоил нехитрые правила, совершенно необходимые для таких, как он. Во-первых, никогда не отказываться от чьей-либо помощи, даже полицейских. Во-вторых, как можно реже мыться. Корка грязи не только спасает от палящих лучей солнца и кусачего мороза, но и отпугивает докучливых комаров. Что до вшей, то черт с ними, пусть живут: этих тварей нипочем не изничтожить, они — неизменные спутники всякого оборванца. В-третьих, профессиональному бродяге полагается иметь два вида одежды: для лета нужно как можно больше дыр (так лучше проветривается тело), а для зимы сгодятся сильно штопанные обноски, своим видом вызывающие жалость у прохожих и в то же время хорошо удерживающие тепло. В-четвертых, никогда не напиваться в стельку и предпочитать потроха любому другому мясному блюду: они богаты железом. Если повезет, следует употреблять сухофрукты и сырую морковь — они также очень полезны. Ну а духовную пищу черпать из книг, которые, пару раз прочитав, можно безжалостно выбросить. Сейчас у него была с собой «Песнь оборванцев» Жана Ришпена.[8] В ожидании возвращения своего благодетеля, он открыл первую попавшуюся страницу и начал декламировать:
- Зима прокашляла последнюю простуду,
- И грустный след ее сметается повсюду.
- Надолго сгладились узоры на стекле,
- Снега растаяли в нахлынувшем тепле,
- И светлая весна сошла на землю Божью.[9]
Согретый этими строчками, он поплотнее укутался в свои лохмотья и задремал.
В тот же день, на закате
Фирма «Романт», специализирующаяся на производстве парфюмерии и косметики, не поскупилась. Просторный холл, где прежде хранили заказы, освободили и украсили разноцветными гирляндами. На буфетных столах, застеленных скатертями, расставили подсвечники. А на стене красовался транспарант с надписью:
Да здравствует Бенуа Маню!
Мы благодарны ему за долгую и верную службу!
Тут собрались управляющие предприятием, мрачные и торжественные, словно гробовщики на похоронах, одетые в одинаковые черные костюмы; у всех были одинаковые бакенбарды, а из-под одинаковых цилиндров выглядывали седеющие волосы. Несмотря на разницу в росте и телосложении, они казались братьями, семьей, единым целым. Сложно было представить, что у кого-то из них могут быть собственные мысли или свое, отдельное мнение. Сейчас их неподвижность и сплоченность выражала одну идею: Бенуа Маню должен нас покинуть, это неизбежно, alea jacta est![10]
Остальные служащие, сгрудившиеся в сторонке, были одеты не так строго и держались непринужденней. Поглядывая на бутыли игристых вин и сдобные булочки, щедро оплаченные дирекцией, каждый думал, как лучше ко всему этому подступиться. Речь главного управляющего никого из них не интересовала.
— Друзья мои, мы собрались здесь сегодня, чтобы проводить на заслуженный отдых нашего доблестного сотрудника, на протяжении долгих лет много делавшего для процветания компании. Так давайте воздадим должное его преданности и…
Старик вдруг затрясся от приступа кашля и не мог произнести ни слова; один из коллег бросился к нему со стаканом игристого вина, которое, увы, не помогло (управляющий чуть не захлебнулся, пытаясь сделать глоток), — а многие тем временем восприняли его жест как приглашение к угощению и ринулись к буфету. Остальные пытались их остановить, но безуспешно: их призывы напоминали рев осла при виде полчища саранчи. Наконец главному управляющему удалось справиться с кашлем, он отдышался и продолжил:
— …И пусть отныне мсье Маню, отдыхая от забот, наслаждается заслуженным покоем.
Кто-то тихо, но отчетливо сказал: «Аминь». Последовала пауза, во время которой оголодавшие служащие с бешеной скоростью поглощали закуски.
— Благодарим вас, мсье Маню, — в заключение сказал управляющий, — эффективность вашей работы превзошла все наши ожидания!
Раздались жидкие аплодисменты. Управляющий после паузы извлек из кармана футляр — ему не сразу удалось его нащупать, так как он затерялся между носовым платком, табакеркой и зажигалкой, — и продемонстрировал коллегам.
— Административный совет по такому случаю заказал в честь мсье Маню серебряную медаль. На лицевой стороне выгравирован его профиль, а на реверсе — витой флакон и ветка мимозы, в память о нашем первом успехе, духах «Мимозетт». Позвольте вручить вам медаль, мсье Маню!
Под звуки трубы из группы сотрудников выбрался человек в поношенном шевиотовом костюме. Нос, похожий на клюв попугая, глубоко запавшие глаза, незаметный рот, подбородок с ямочкой. И все это окружал нимб из взлохмаченной, с проседью, шевелюры. Бенуа Маню поправил пенсне, слушая дрожащий голос управляющего:
— Дирекция, президент и служащие говорят вам…
— … идите к черту! — вновь встрял записной остряк, но оратор пропустил эту колкость мимо ушей и громогласно закончил:
— Вы — наша гордость!
Вновь раздались жидкие аплодисменты. Бенуа Маню решил, что ему, видимо, следует взглянуть на медаль, что он и сделал, поблагодарив всех легким кивком головы. В левую руку ему вложили футляр, а правую лихорадочно пожали.
— Речь, речь! — проблеяла высоченная дама в желтом платье, заговорщически посмотрев на свою соседку, коротышку в розовом.
Бенуа Маню взглянул на коллег, среди которых у него не осталось ни единого друга, и невнятно пробормотал:
— Я вам… бесконечно признателен… — Но его никто не слушал. Его голос потонул в выкриках «ура!» и «браво!». Маню прошептал управляющему:
— Спасибо, мсье Кларанс. — Дыхание у него перехватило, и непрошенная слеза скользнула по щеке.
Оркестр, состоявший, помимо трубача, из тромбониста, саксофониста и барабанщика, заиграл самый модный шлягер, «Вальс тыкв». Сквозь слезы Бенуа Маню различал кружащиеся в танце пары — желтую даму в объятиях пижона с пышными бакенбардами, розовую коротышку рядом с громилой с ассирийской бородой. Никто уже не обращал на виновника торжества ни малейшего внимания, кроме одного сутулого близорукого человечка, который, подойдя, похлопал его по плечу. Он почувствовал себя таким одиноким в этой толпе! Маню задыхался, голова шла кругом, его то и дело толкали и пихали бывшие сослуживцы. Всем было на него наплевать. Шатаясь, хотя не выпил ни капли, нетвердой походкой он направился во двор. Там стояли телеги, а в расположенной рядом конюшне лошади жевали сено.
Было холодно и совсем темно, но он знал, что у него в запасе еще много времени. Если повезет, он успеет на пароход, который отходит в половине седьмого. Он с досадой сжал кулаки. Его трясло и от холода, и от обиды: как внезапно и несправедливо его выпроводили из компании, которой он верно служил тридцать лет!
Тридцать лет рабства!
— Пустяковая ошибка в дозировке, — заявил он начальству.
— Непростительная рассеянность, — жестко ответили ему. — Вы больше не можете занимать эту должность. Не упорствуйте, дорогой мсье Маню, ведь ваше время истекло.
Гнев заставлял его ускорять шаги, пока боль не сковала колени. К счастью, он был уже у моста Шарантон, а там рукой подать до пристани Бато Паризьен. Бенуа Маню едва успел на суденышко, разрисованное рекламой шоколада «Менье» и бульона «Магги». Контролер за десять сантимов вручил ему металлический жетон, который следовало вернуть при выходе.
Маню заметил среди пассажиров несколько знакомых и поприветствовал их. Мужчины покуривали сигары, облокотясь на леер,[11] на скамейках нижней палубы вязали женщины. Он скользнул рукой в карман сюртука, чтобы удостовериться, что медаль на месте. Ничтожная благодарность за годы самозабвения, за творчество, итогом которого стало создание неповторимых ароматов!
— Вы допустили прискорбную оплошность. Но не беспокойтесь, мсье Маню, мы просто отправим вас на пенсию. Случай не будет предан огласке, и ваша репутация не пострадает. С вашими рекомендациями вы сможете даже подыскать новое место работы, — улещивал его заместитель директора мсье Тадорн.
Новое место работы! Это в сорок шесть лет! К тому же из послужного списка видно, что в шестнадцать он нанялся на фирму подручным и обучался ремеслу прямо на месте, не получив при этом специального образования!
Глаза застилали злые слезы, и берег, усыпанный огоньками фонарей, расплывался. Это был уже не прежний берег, а как будто некое чистилище, где его ожидали новые мучения. «Они избавились от меня, как от обузы! Посмотрим, что они запоют, когда их записные гении станут наливать вместо духов кошачью мочу!»
Его мутило, голова кружилась, и он заметил, что судно находится возле набережной Аустерлиц только в тот момент, когда оно уже собиралось отчаливать. Он поспешил на берег и бросился к лавке торговцев сладостями.
— Уже без одной минуты, мсье Маню! — воскликнула немолодая хозяйка в кокетливом кружевном чепце. — Вам как обычно, миндального печенья?
Мост Берси он пересек, жуя на ходу печенье, сладкий вкус которого, скрашивавший его вечера, ничуть не сглаживал душевную боль. Порт де ля Рапе, заваленный штабелями досок и грудами кирпича, производил жалкое впечатление. Бенуа Маню заметил грузчиков и огромное количество бочек с вином, отгороженных от дороги решеткой. Грузчики подтаскивали бочки к подъемникам, подъемники зажимали их металлическим захватом и переносили на повозки, которые развезут их на винные склады. Маню представил, как подъемник захватывает не бочку, а его тело, сжимает своими металлическими челюстями и бросает в черную воду. Поперхнувшись, он выплюнул печенье и завопил:
— Я отомщу! Я никогда не клялся им хранить тайну! Я продам их формулы конкурентам, и эти подонки разорятся, подчистую!
Он воинственно махнул рукой и решительно направился к бистро, намереваясь нарушить сегодня строгую диету и отужинать тушеным мясом или жарким и бокалом красного вина.
Глава вторая
1 марта
Лунный луч скользнул между занавесок и нежно коснулся книжного шкафа. В тишине комнаты было слышно только дыхание подруги. Виктор осторожно ворочался, стараясь ее не разбудить. В голове его бешено роились мысли, увлекая в веселый хоровод. Обычно, когда по ночам не спалось, он вставал и закрывался в лаборатории, где с увлечением предавался любимому занятию: ретушировал негативы. Но Таша непременно за ним приходила, скреблась в дверь: «Иди спать, Виктор!». Он подчинялся, возвращался к ней, и тогда, в полусне, она уступала его ласкам, и они вместе уплывали куда-то в ладье счастья.
Вот уже несколько дней он радовался подарку, который преподнесет ей по случаю дня рождения. Надеясь, что общее увлечение еще больше их сблизит, и повинуясь порыву, он купил ей велосипед фирмы «Альсион». Как только она научится на нем ездить, они погрузят велосипеды на поезд и поедут вместе далеко-далеко, гонять по сельским дорогам. Она будет рисовать на пленере, он — заниматься фотографией. Он намерен вести себя благоразумно: больше никаких расследований, с этим покончено.
Он давно мечтал проследовать по пути Роберта Льюиса Стивенсона и его ослицы Модестины…[12] И от одной мысли, что мечта вот-вот осуществится, его охватила радость.
Косой луч покинул книги и добрался до волос Таша.
Приподнявшись на локте, Виктор любовался этим мирным зрелищем, которое навеки запечатлелось в его душе.
Альфонс Баллю колебался, не умея выбрать между желанием надеть обновку — полосатый саржевый костюм — и ошеломить всех, появившись в офицерской форме. В конце концов, поборов искушение, он решил не пачкать новый мундир. Комиссованный из армии по причине слабого здоровья, Баллю сменил службу в Сенегале на должность в военном министерстве, где служил секретарем генерала Варне. Первое время эта работа не вызывала у него ничего, кроме отвращения, но вскоре он уже радовался тому, что в его жизни больше не будет форсированных маршей в непогоду, не говоря уже о том, что теперь, выйдя со службы, он мог себе позволить удовольствие сесть за столик летнего кафе и полюбоваться прелестями проходящих мимо девиц, которые иногда строили ему глазки. Именно так ему удалось соблазнить некую Люси Гремий, которая стригла и помадила его соратников в салоне-парикмахерской на улице Антрепренер. Эта девица, надо признать, оказалась весьма ловкой и умелой: она его буквально преобразила, побрив подбородок, чтобы подчеркнуть роскошные длинные усы, и сделав ему косой пробор.
Когда, налюбовавшись своим отражением в зеркале шифоньера и сделав выбор в пользу полосок, он величественно спустился по лестнице, хозяйка семейного пансиона вдова Симоне воскликнула: «О, вас и не узнать!» — и это доказывало, что он не ошибся в выборе.
— Что вы хотите этим сказать, Арманда?
— Ах, мсье Баллю!.. Я запрещаю вам называть меня по имени! Хватит красоваться, идите завтракать, кофе и яичница остывают!
Мадам Симоне проводила взглядом любимого квартиросъемщика и, терзаемая смутным беспокойством, вернулась на кухню. На самом деле вдовой она не была: ни с кем и никогда мадам Симоне не была связана узами брака. Однако, понимая, что статус незамужней дамы может смутить квартирантов, которым она предлагала кров и пищу, а также желая опередить неприятные расспросы, она придумала себе трагическую биографию. В ней все было как надо: ветреный супруг, измучивший ее изменами, его преждевременная гибель под колесами экипажа и наконец законное наследство.
О своем реальном прошлом Арманда Симоне предпочитала не вспоминать. С юности она жила исключительно за счет своих прелестей, но в конце концов ей повезло: она стала содержанкой у богатого старика, хозяина дома на улице Рамбютто. Длившиеся пять лет отношения не были освящены церковью, но зато он оставил ей неплохое наследство. С годами Арманда располнела, сменила прическу и теперь не боялась, что кто-то из прежних клиентов может ее узнать. Почти все свои средства она вложила в этот дом в зажиточном квартале Гренель, расположенный недалеко от мэрии, церкви и старинного замка, где теперь стояла пожарная часть.
В дверь позвонили. Катрин, служанка, пошла открывать. Она впустила пухленькую низкорослую женщину, укутанную в шали и в шляпке с перьями. Мадам Симоне сразу узнала Мишлен Баллю, кузину самовлюбленного Альфонса.
Мадам Симоне ее недолюбливала: каждое второе воскресенье эта толстуха отправлялась с братцем на прогулку, а после они обедали в каких-то дешевых забегаловках, вместо того чтобы столоваться у нее.
— Капитан Баллю завтракает, — объявила она с плохо скрытой неприязнью.
— Ну что ж, я пока с ним поболтаю! — невозмутимо ответила та.
Мадам Симоне пожала плечами. Она считала ниже своего достоинства общение с какой-то консьержкой. Что ж, тем хуже, капитан Баллю останется без дополнительных бутербродов. Она не станет долго терпеть присутствие этой расфуфыренной тушки.
Кроме Альфонса Баллю, за столом сидел Адемар Фендорж, бывший преподаватель латыни в религиозном училище. Теперь, выйдя на пенсию, он часами гулял в саду Тюильри, куда в обеденный перерыв приходили молоденькие девушки, которых он развлекал с помощью своей латыни. Этот дородный книгочей с длинными крашенными волосами произвел сильное впечатление на Мишлен, особенно после того как кузен рассказал ей о том, что тридцать лет назад, в молодости, латинист участвовал в раскопках останков доисторических животных в песчаном карьере на улице Сен-Шарль.
— Представляешь, Мимина, — так звал свою кузину Альфонс Баллю, — он обнаружил коренной зуб гиппопотама и берцовую кость гигантского ископаемого оленя!
— А эти штуки… которые он обнаружил… они редкие?
— Да ты смеешься?! Они ис-то-ри-чес-ки-е!
Войдя в столовую, Мишлен Баллю присела в неловком реверансе, а мсье Фендорж, кивнув в ответ и промокнув салфеткой рот, неторопливо направился на поиски новых, все более и более миловидных поклонниц.
— Вот это я понимаю! Какой интересный господин! Братец, тебе сказочно повезло иметь таких соседей!
Когда оба ушли, мадам Симоне принялась убирать со стола.
— О капитане Баллю могу сказать только хорошее. А вот его кузина — просто бестия, — проворчала она служанке.
— Да уж, мадам! Хорошо хоть, другие ваши постояльцы ее не видели, особенно мсье и мадам Дюссо. Они и без того такие угрюмые!
Но супруги Дюссо, бывшие фармацевты, как раз столкнулись с Баллю и его кузиной перед особняком, принадлежавшим когда-то химику Ансельму Пейену, а ныне — его дочери, устроившей в нем дом престарелых. Мадам Дюссо, плоская, как доска, несмотря на все попытки набрать вес с помощью особо питательной диеты, окинула презрительным взглядом пышнотелую мадмуазель, а когда обе пары разминулись, ехидно процедила:
— Того и гляди, она скоро лопнет, эта консьержка с улицы Сен-Пер! А строит-то из себя!
— Куда ты поведешь меня сегодня, Пулэ?[13] — поинтересовалась Мишлен Баллю.
Она не имела права оставлять дом на улице Сен-Пер без присмотра, но договорилась, что ее подменит Лулу, племянница хозяйки «Потерянного времени», где потягивали пиво ученики Школы изящных искусств. Когда эти выходы в свет стали для Мишлен и ее кузена традиционными, они договорились, что Альфонс будет их организовывать, а его кузина — оплачивать.
— Ну, Мимина, мне бы хотелось пройтись до моста Гренель. Мы сможем посмотреть на уменьшенную копию статуи Свободы, из-за которой Париж похож на французский Нью-Йорк. Я никогда не видел ее вблизи! А потом пойдем пировать в кафе на улице Жавель.[14]
При слове «жавель» Мишлен Баллю поморщилась: она порядком устала от этого едкого раствора, которым чуть ли не каждый день ей приходилось драить лестницы в доме на улице Сен-Пер.
— Какая глупость! — проворчала она. — Тащиться в рабочее предместье, когда сам живешь на улице Лили…
— У нас, кстати, ужасно шумно и полно тараканов… Да и чем тебе не угодило рабочее предместье? Заводы — это здорово! Вообрази, что было бы, если бы в нашем округе построили фабрику игрушек, гидравлический цех, машиностроительный завод или еще что-нибудь в таком духе. Железный город… Это страшно интересно, тебе понравится. Я покажу тебе несколько заводов, если нам хватит решимости дойти до площади Бретей.
Он не стал оглашать цель первой части программы: пройтись по улице Антрепренер. Парикмахерская наверняка будет уже закрыта, зато не исключено, что Люси выглянет в окно.
Приятная беседа с кузиной была прервана грохотом: по улице галопом неслись две белые лошади, тащившие повозку с пожарной помпой из казармы Виоле.
— И тем не менее, — вздохнула Мишлен, — я бы предпочла посидеть в каком-нибудь местечке, где у меня поднимется настроение…
— Где же это у тебя оно поднимется? Разве что на Эйфелевой башне?.. — сказав это, он тут же представил себе утомительный подъем на башню и украдкой зевнул.
Бенуа Маню вытянул затекшие ноги. Всю ночь ему снились кошмары. Он оторопело уставился на блеклые обойные цветочки, и ему вдруг показалось, что из всех этих цветочков на него смотрят злобные маленькие глазки. Чуть ли не выпрыгнув из кровати, он плеснул воды из кувшина и смочил лоб. Странный звук заставил его напрячь слух. Уже десять минут десятого! Почему не били часы? Надо скорее бриться, одеваться, черт, кофе кончился, а варить слишком долго. Тем хуже, придется обойтись без кофе. И только приготовив кисточку для бритья, он вдруг все вспомнил. Он уволен! Ему некуда больше торопиться. Ему вручили эту дурацкую медаль, отправив на свалку с нищенской пенсией. Он рухнул на матрас с кисточкой в руке. Впереди был бесконечный пустой день. День безделья и скуки.
— Ты — отброс, тебя обрекают на нищету, и у тебя есть все шансы закончить жизнь на помойке! — бормотал он себе под нос.
Мысли, проносившиеся в голове, были одна чернее другой.
Он не читал романов, никогда не ходил в театр или кабаре, ненавидел деревню, не увлекался живописью. Женщины?.. Ничтожные создания, безрассудные, лишенные изобретательности. Секс? Раз в две недели в доме терпимости на улице Прованс, для здоровья. Его политические взгляды были точно такими, как у большинства буржуа. Все имело смысл: мораль, полиция, армия, начальники, деньги, — только в том мире, в котором у него была его работа. И вот теперь эта прекрасная конструкция рухнула.
Холод и голод вывели его из неподвижности. Накормив печь коксом, а себя яблоком и камамбером, он раздвинул шторы. Его окна выходили на бульвар Берси. Ни солнце, ни утреннее небо не могли его утешить. Он не скажет ни слова соседям и торговцам. Будет возвращаться домой как обычно, делая вид, будто продолжает ходить на службу. Маню носился по комнатам в поисках беспорядочно разбросанной одежды, на ходу оделся. Замешкался лишь, чтобы повязать галстук вокруг шеи, запрятать поглубже медаль и пригладить шевелюру перед трюмо, втиснутым между книжным шкафом со всевозможными учебниками и справочниками по химии и столиком, заваленным ретортами и пробирками.
Маню направил свои стопы в бухгалтерию фабрики «Романт». Они, небось, думают, что рассчитались с ним сполна. Не тут-то было! Он не откажется ни от сантима из положенной компенсации.
Консьерж мерил шагами тротуар, покуривая короткую трубку и ворча на детвору, высыпавшую из школы на переменку. Иногда — когда был уверен, что никто не вмешается, — консьерж развлекался тем, что шпынял робкую молоденькую служанку, которой не хватало решимости постоять за себя. Этот злющий цербер по имени Жюль испытывал садистское наслаждение, издеваясь над теми квартиросъемщиками, которые представлялись ему слабаками. Но истинными козлами отпущения были у него одноглазая старуха, прозябавшая под самой крышей и когда-то работавшая матрасницей, и Бенуа Маню.
— А, вот и вы, а я вас с позавчерашнего дня поджидаю. Вы помните о сроке платежа? Вы обязаны безотлагательно заплатить, домовладелец ждать не будет!
— Сегодня вечером точно заплачу, а сейчас, извините, я очень тороплюсь.
— Проспали, да? И теперь несетесь как угорелый! В воскресенье! Так вы и по воскресеньям на своей парфюмерной фабрике вкалываете? Ну дела!
Бенуа Маню поднял брови. Он и забыл, что сегодня воскресенье. Непринужденным жестом достал из кармана часы.
— Неотложное дело, — пробормотал он.
Консьерж усмехнулся.
— Все хотел спросить, почему у вас-то в квартире розами не пахнет? А дом вы не спалите из-за своих дурацких опытов?..
Что-то бормоча в ответ, Бенуа Маню быстро отвернулся и почти бегом направился к берегу Сены. Он уже не мог видеть, как консьерж изменился в лице, когда двухместная карета, стоявшая до того метрах в десяти от парадного, тронулась за ним вдогонку, а поравнявшись, остановилась, и из открытой дверцы показался рукав, отделанный кружевом. Его поманила рука в белой перчатке.
Бенуа Маню остолбенел. И оглянулся вокруг. Без сомнения, жест был адресован ему. Он тщетно пытался сообразить, кто эта незнакомка, и на мгновение заколебался, но как устоять перед таким судьбоносным призывом? Мсье Маню вздохнул. Ему необходимо решиться. Но на что? Наконец, справившись с болезненной робостью, он подошел к распахнувшейся дверце и уселся в карету, которая тут же тронулась с места.
— И этому типу хватает наглости ходить по девкам вместо того, чтобы вовремя платить за жилье! Неотложное дело! Я не позволю над собой насмехаться! Я тебе покажу неотложное дело! — орал консьерж, выронив трубку.
Глава третья
30 мая
В широких шароварах для велосипедных прогулок Хельга Беккер сзади напоминала клоуна. И то, что несмотря на свою тучность, она передвигалась с такой легкостью, совершенно противоречило закону притяжения. Виктор с удовольствием наблюдал, как она гоняла вокруг фонтана в Люксембургском саду. Это могло бы стать сюжетом для кинематографического скетча, даже более смешным, чем «Политый поливальщик» братьев Люмьер.
Дама едет по саду на велосипеде. Велосипедистка, не удержав равновесие, падает в пруд и уходит под воду, но ее моментально вытаскивает ярмарочный силач.
Он недавно сфотографировал одного такого силача с улицы Дюранс, который давал представления на площади Домниль, и теперь Виктор представлял себе те трюки запечатленными на кинопленку. Он был убежден, что изобретение братьев Люмьер в техническом плане ничуть не совершеннее хронофотографии Этьенна Жюля Марея,[15] хотя видел в нем замечательное средство художественного выражения, позволившее придать движение застывшей вселенной фотографии. Но когда наконец появятся цвет и звук?
Виктор уже позабыл свою фантазию о Хельге Беккер, барахтающейся в пруду среди лебедей и крошечных парусников, которых пускают, вооружившись шестами, мальчишки в матросских костюмчиках. Он теперь любовался Таша в изящном костюме от модного дома Френкель, что специализируется на спортивной одежде. Новенькие велосипеды-близнецы посверкивали на солнце. Таша еще нетвердо держала руль, но ей уже удалось объездить это грациозное животное. Правда, не обошлось без падений…
Таша тем временем миновала женщину, сдающую стулья напрокат, которая немного испугалась внезапному появлению этой девушки-кентавра, и остановилась возле коляски, в которой сидели улыбчивые девчушки.
Хельга Беккер порекомендовала Таша свое любимое средство от простуды: кусочек сахара, пропитанный мятной настойкой.
— Эта машина, какой бы прекрасной она ни была, может стать причиной всяких неприятностей, моя дорогая! Взять хотя бы макияж. Я использую изобретение доктора Диса, наклеиваю эти его полоски, а вечером их снимаю. И ауфидерзейн морщины! А с тех пор как я стала носить корсет без пластинок и с отверстиями для доступа воздуха, я распрощалась и с болью в желудке!
— Таша решила эту проблему по-своему, она вообще отказалась от корсета, — встрял в разговор Виктор.
— О! Мсье Легри, мужчины не должны обсуждать такие вопросы, вы вгоняете меня в краску! — так громко завопила Хельга Беккер, что человек, сдающий лодки напрокат, бросил на нее веселый взгляд.
Хельга посмотрела на часы.
— Уже поздно, и я должна вас покинуть. Я обещала мадам де Флавиньоль пойти с ней на соревнования по медленной езде на велосипеде, от парка Монтрету до моста Сен-Клу. Это теперь так модно! Я, должно быть, смущаю вас тем, что так громко говорю… просто не могу прийти в себя после победы Массона на велогонках в Афинах,[16] на Олимпийский играх! Вот это скорость! Промчался, как стрела! А ехать медленно, по-черепашьи, совсем не интересно!
Когда, неуверенно покачиваясь, Хельга покатила прочь, Виктор и Таша тоже оседлали своих железных коней и направились к киоску под крышей с кованым козырьком. Торговка как раз испекла вафли, которыми они лакомились, наблюдая, как маленькие девочки качаются на лошадках.
Сначала Таша отнеслась к велосипеду, этому странному и громоздкому изобретению, настороженно, но в конце концов согласилась учиться на нем ездить, при условии, что обучать ее будет женщина, например Хельга Беккер, непонаслышке знакомая с трудностями и опасностями, которые приходится преодолевать при этом слабому полу.
— Ты ни слова не сказал о моем костюме. А ведь я его надела сегодня в первый раз.
В отличие от Хельги, широкая шотландская юбка которой легко превращалась с помощью завязок в шаровары, Таша выбрала облегающий костюм: короткую куртку, бриджи, открывающие икры в черных чулках, и ботинки. Этот выбор, нисколько не лишая женственности, еще больше стройнил ее. Однако Виктору ее вид был непривычен.
— По-моему, слишком облегающе. Я не уверен, что женщина должна выставлять свои прелести напоказ. Прощай, тайна, скрываемая под ворохом шелков!
— Здравствуй, свобода движений!
— Боюсь, что в проигрыше от этого нового мировоззрения будет любовь. Если женщины откажутся носить платье, грань между мужским и женским сотрется, уделом всех станет нечто усредненное, не оставляющее места мечтам.
— Похотливым мечтам придворных Эдокси Аллар, эрцгерцогини Максимовой, срывающей нижнее белье на сцене театра «Эден»?.. Неужели и тебе это интересно?! Сегодня вечером я докажу тебе, что снимать этот костюмчик можно так же эротично, как развязывать нижнюю юбку! А что до стирания различий — ты сам виноват, ведь это ты, по собственному недомыслию, сделал из меня спортсменку! Спорим, ты меня не догонишь?..
И она помчалась. Преследуя ее под узорчатой тенью платанов, ведущих к фонтану Медичи, Виктор испытывал чувственное наслаждение. Тень вековых деревьев, отраженных в воде, делала устремленный вперед силуэт причудливым и особенно романтичным. Эта наяда — или танцовщица? — казалась ему неуловимой, а оттого еще более желанной.
Притаившись среди девственного леса, дом дремал. Он был построен на углу Итальянского бульвара и улицы Корвизара обувщиком с улицы Комартен, нажившим состояние во времена Второй империи. Быстро разбогатев, тот пожелал жить в роскоши. Но в этом доме на него обрушилось страшное несчастье: супруга сбежала от него вместе с детьми. Обувщик пустил себе пулю в висок, а дом остался недостроенным. Из-за бесконечных тяжб наследников, которые так и не были улажены, вот уже много лет здание тихо ветшало, а парк превращался в дикие заросли.
В ближайшем от него квартале кипела жизнь. Бульвар был запружен повозками, груженными сельдереем, морковью и свеклой. Там же толпились разносчики товаров, блеяло стадо овец, расхаживали кухарки с корзинами в руках. В воздухе носились запахи прогорклого масла, лука и отхожих мест, отовсюду слышался звон колокольчиков и песенки, которые насвистывали или напевали прохожие. Старьевщики и ремесленники ссорились, отвоевывая себе место, где можно было бы разложить товар, а заводы располагались так близко, что дым из труб затягивало в окна винных лавок. Здесь жили бедняки. В их ветхих жилищах не было мебели, ее заменяли ящики из-под мыла. В таких же ящиках выращивали на продажу морских свинок и лаковые деревья,[17] под ветвями которых играли одетые в лохмотья дети.
Дом, спрятавшись под покрывалом из плюща и ломоноса, угрюмо смотрел своими темными пустыми глазницами на аллеи, заросшие сиренью, акацией и орешником. Правое крыло, судя по всему, было задумано в псевдоренессансном стиле, но ныне больше походило на неудачно спроектированное административное здание. Центральная часть, увитая молодым виноградом, имела величественный вид. Ее украшали орнаменты: аканты, ионики, вязи. На барельефах над окнами были изображены женщины и дети в античных одеяниях. Верхний полуэтаж поддерживали колонны, на капителях которых были вырезаны листья и плоды. Серовато-синюю крышу из сланца украшало декоративное навершие. Два каменных льва, сидевших на задних лапах, охраняли вход, рядом с которым находилась привратницкая, ныне уже почти разрушенная. Левое крыло возвести так и не успели: на этом месте виднелось только основание будущих стен, обнесенное ветхим забором.
Для того чтобы обойти огромный заброшенный сад, нужно было иметь хорошую физическую форму: его разбили на склоне холма, и, хотя когда-то здесь были лестницы, но они так обветшали, что по ним уж было не пройти. Приходилось карабкаться, цепляясь за кусты. В гуще сада притаился пруд, покрытый ряской и заросший камышом. Время от времени на свободной от тины и ряски поверхности появлялись круги: признак того, что в нем водилась рыба. Впрочем, кроме бездомных кошек, здесь бывали лишь отважные мальчишки: в тишине пруда было что-то тревожно-пугающее. Облупившаяся статуя Девы Марии указывала пальцем куда-то в небо, словно предупреждая о возмездии. Было ли услышано ее предупреждение? И неужели ничего, кроме тайн, не осталось в этом доме с перебитыми из рогаток стеклами? Ходили слухи, будто в нем живут привидения, что, кроме обувщика, здесь покончил с собой некий отвергнутый поклонник, а сутенер задушил проститутку.
Тишина царила в этих зарослях, где даже птицы не спешили вить свои гнезда. На протяжении многих лет дом словно терпеливо караулил, покуда какая-нибудь жертва запутается в его тенетах. Момент был близок. Бездушные камни чувствовали, что вскоре здесь произойдет нечто ужасное.
— Официально сообщают, что погибли тысяча триста шестьдесят человек! А по слухам их не меньше трех тысяч! — возвестила Рафаэль де Гувелин, размахивая газетой и волоча за собой отчаянно упиравшихся собачек, мальтийскую болонку и шипперке. Те никак не хотели заходить вместе с хозяйкой в книжную лавку «Эльзевир» на улице Сен-Пер 18.
Кэндзи Мори оторвался от своих карточек, а Жозеф обратился в слух.
— А что случилось? Землетрясение? Извержение вулкана? — полюбопытствовал он.
— Вот и не угадали! Но это ужасно, ужасно!
— Мы почему-то так и подумали.






