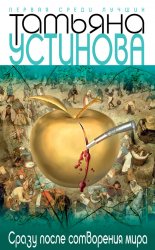Сойка-пересмешница Коллинз Сьюзен

Часть I
Пепел
1
Я опускаю глаза и вижу, как на мои изношенные туфли тонким слоем ложится пепел. Вот тут стояла кровать, которую делили мы с Прим. Там, напротив, – кухонный стол. Ориентиром мне служит груда черных от сажи кирпичей, в которую превратилась печка. Как бы иначе я разобралась в этом море серости?
От Двенадцатого дистрикта не осталось почти ничего. Месяц назад капитолийские зажигательные бомбы спалили дотла бедные домишки шахтеров в Шлаке, лавки и магазины в центре и даже Дом правосудия. Огня избежала только Деревня победителей. Не знаю почему. Возможно, чтобы тем, кто приедет сюда по делам из Капитолия, было, где остановиться. Репортерам, комиссии по оценке угольных шахт, бригаде миротворцев в поисках возвращающихся беженцев.
Пока приехала лишь я. Ненадолго. Власти Тринадцатого дистрикта не одобряли мою поездку – мол, дорогостоящая и бессмысленная авантюра. Ради моей защиты им пришлось поднять по меньшей мере двенадцать планолетов, которые незримо кружат где-то вверху. Никаких полезных сведений поездка не даст. Но я должна была увидеть все сама. Даже поставила это условием нашего сотрудничества.
В конце концов Плутарх Хевенсби, главный распорядитель Голодных игр и предводитель мятежников в Капитолии, сдался:
– Пусть едет. Лучше потерять день, чем еще месяц. Возможно, так она скорее убедится, что мы на одной стороне.
На одной стороне… Левый висок пронзает боль, я прижимаю к нему ладонь. Сюда ударила меня катушкой проволоки Джоанна Мэйсон. Воспоминания вихрем проносятся в голове, пока я пытаюсь сообразить, где истина, а где ложь. Какая череда событий привела к тому, что я стою теперь посреди развалин своего города? Мысли путаются – сказывается сотрясение мозга после того удара. Из-за лекарств, которыми меня пичкают от физической и душевной боли, я порою вижу то, чего нет. Хотя точно не знаю. Я до сих пор не вполне уверена, что, когда однажды пол моей больничной палаты превратился в ковер из кишащих змей, это и впрямь было галлюцинацией.
Я использую способ, подсказанный одним из врачей: начинаю с простейшего – того, что знаю наверняка, – затем перехожу к более сложному.
Меня зовут Китнисс Эвердин. Мне семнадцать лет. Моя родина – Двенадцатый дистрикт. Я участвовала в Голодных играх. Сбежала. Капитолий меня ненавидит. Пита схватили. Его считают погибшим. Скорее всего, он убит. Возможно, лучше, если убит…
– Китнисс? Мне спуститься? – слышится в наушниках, которые мне навязали повстанцы. Мой друг Гейл вверху, на планолете. Внимательно наблюдает за мной и в случае чего мигом спустится.
Я осознаю, что сижу на корточках, обхватив голову руками. Должно быть, со стороны кажется, будто я на грани нервного срыва. Так дело не пойдет. Меня только-только понемногу начали отучать от лекарств.
Выпрямляюсь.
– Нет, все в порядке.
В подтверждение отхожу от моего прежнего дома и бреду в центр. Гейл хотел высадиться вместе со мной, но не настаивал, когда я отказалась. Понимает: любая компания мне сегодня в тягость. Даже его. Есть дороги, которые нужно пройти в одиночку.
Лето выдалось сухим и знойным. Редкие дожди не смыли кучи золы. Она вспархивает от моих шагов и тут же оседает. Ветра нет. Я внимательно смотрю под ноги. Здесь раньше была дорога. Высадившись на Луговине, я споткнулась о камень. Только оказалось, что это не камень, а человеческий череп. Он откатился, зияющие глазницы уставились в небо. Я долго не могла отвести взгляд от зубов, гадая, кому они принадлежали, и представляя, как выглядели бы мои.
По привычке стараюсь придерживаться дороги, но она усеяна останками людей, пытавшихся спастись бегством. Некоторые сгорели полностью, другие, избежав огня, задохнулись от дыма. На полуразложившихся трупах кишат мухи. Вас всех убила я. И тебя. И тебя. И тебя…
Потому что так и есть. Моя стрела, разрушившая силовое поле, вызвала огненный шквал возмездия и повергла в хаос весь Панем.
В голове звучат слова президента Сноу, сказанные мне перед туром победителей: «Вы, Огненная Китнисс, бросили искру, способную разгореться в адское пламя, которое уничтожит Панем». Он не преувеличивал. Возможно, он искренне пытался заручиться моей поддержкой, хотя от меня уже ничего не зависело.
Пожар все еще продолжается, машинально отмечаю я. Угольные шахты вдали изрыгают клубы черного дыма. Впрочем, кому какое дело? Почти все жители дистрикта погибли. Оставшиеся восемь процентов укрылись в Тринадцатом дистрикте – бесприютные беженцы, навсегда лишившиеся родины.
Конечно, так думать не следует. Я должна быть благодарна за то, что нас приняли. Больных, израненных, голодных, нищих. Однако мне не дает покоя мысль, что если бы не мятежники Тринадцатого дистрикта, Двенадцатый был бы цел. Это не снимает вины с меня – ее хватит на всех. Но что бы я смогла без них?
Жители Двенадцатого дистрикта вообще ни в чем не виноваты, им просто не повезло, что у них есть я. И все же некоторые выжившие рады, что вырвались оттуда. Прочь от голода и гнета, гибельных шахт, от плети начальника миротворцев Ромулуса Треда. Крыша над головой – уже счастье, ведь до недавнего времени мы и не подозревали о существовании Тринадцатого дистрикта.
Все, кто выжил, целиком обязаны своим спасением Гейлу, хотя сам он этого не признает. Как только Квартальная бойня была сорвана – когда меня вытащили с арены, – в Двенадцатом дистрикте отключили электричество, экраны телевизоров погасли, и в Шлаке настала такая тишина, что люди слышали биение чужих сердец. Никто и не думал ни протестовать, ни ликовать по поводу случившегося на арене, но уже четверть часа спустя небо заполнилось планолетами и градом посыпались бомбы.
Гейл вспомнил про Луговину – одно из немногих мест, свободных от старых деревянных построек, пропитанных угольной пылью. Он направил туда всех, кого смог собрать, включая мою маму и Прим. Люди снесли проволочное ограждение, теперь обесточенное и безопасное, и Гейл увел их в лес, к озеру, которое отец показывал мне в детстве. Они стояли там и смотрели издали, как пламя пожирает весь их мир.
К рассвету бомбардировщики улетели, языки пламени опали, и к озеру подтянулись последние из спасшихся. Мама и Прим развернули пункт первой помощи, лечили раненых целебными травами из леса. У Гейла было два лука со стрелами, охотничий нож, рыболовная сеть и восемь с лишним сотен напуганных и голодных людей. Гейлу помогали все, кто был в состоянии охотиться. Удалось продержаться три дня. А потом неожиданно прилетел планолет из Тринадцатого дистрикта. На новом месте уцелевших разместили в чистых квартирах с белыми стенами, снабдили новой одеждой и кормили три раза в день. К сожалению, жилье подземное, одежда совершенно одинаковая, а еда довольно безвкусная, но для беженцев из Двенадцатого это мелочи. Главное – они живы, они в безопасности, их не бросили на произвол судьбы, а приняли с распростертыми объятиями.
Вначале я никак не могла понять, с чего это нам так радуются, но один человек по имени Далтон открыл мне глаза.
– Вы им нужны. Я им нужен. Мы все. Некоторое время назад у них тут была какая-то эпидемия вроде оспы. Многие умерли, остальные стали бесплодными. Племенной скот – вот кто мы для них.
Несколько лет назад Далтон сбежал из Десятого дистрикта и пешком пришел в Тринадцатый. У себя в Десятом он работал на скотоводческой ферме. Занимался сохранением генетического разнообразия стада при помощи замороженных коровьих эмбрионов. Похоже, он знает, о чем говорит, – детей в Тринадцатом и вправду почти не видно. Ну и что с того? Нас не держат в загоне, дают возможность получить профессию, дети ходят в школу. Подростки старше четырнадцати получили низший армейский чин, их теперь почтительно называют солдатами. Каждому беженцу власти автоматически предоставили гражданство.
Все равно ненавижу их. Хотя теперь я почти всех ненавижу. Больше всего себя.
Дорога под ногами стала тверже, под ковром пепла чувствуется булыжная мостовая. Я на площади. Ее границами служат невысокие насыпи из золы и мусора, в которые превратились магазины. Груда черных обломков на месте Дома правосудия. Иду туда, где стояла пекарня родителей Пита. Я узнаю ее только по оплавленной печи. Родители Пита и оба старших брата погибли в огне. Из тех, кто в Двенадцатом дистрикте считался зажиточными, спаслось не больше десятка. Питу не к кому больше возвращаться. Кроме меня…
Отступив на несколько шагов, я спотыкаюсь и падаю на кусок раскаленного от солнца металла. Что это? Тут я вспоминаю недавние нововведения Треда. Колодки, позорный столб и виселица, на обломках которой я теперь сижу. Черт. Вот угораздило. Перед глазами проносятся картины, мучающие меня и днем и ночью. Пит под пытками – его топят в воде, жгут железом, режут, бьют током, калечат, пытаясь вытащить из него то, о чем он не имеет понятия. Я изо всех сил зажмуриваюсь и пытаюсь дотянуться до него через многие сотни миль, передать ему мои мысли, сказать, что он не один. Но он один. Я ничем не могу ему помочь.
Бежать. Скорее прочь с этого места! Туда, где нет углей и пепла. Я пробегаю мимо того, что было домом мэра, где жила моя подруга Мадж. Ни о ней, ни об ее родственниках ничего не известно. Эвакуировали их в Капитолий благодаря положению отца или оставили огню? Из-под ног поднимаются тучи пепла, я закрываю рот краем рубашки. Мне не хватает воздуха – не столько от того, что я вдыхаю, сколько от сознания, кого я вдыхаю.
Вот и Деревня победителей. Трава здесь тоже выгорела, и земля усыпана серыми хлопьями, но двенадцать домов стоят целы и невредимы. Я вбегаю в тот, где жила в прошлом году, захлопываю дверь и прислоняюсь к ней. Все осталось на своих местах. Чистота и порядок. Тихо до жути. Зачем я вернулась в Двенадцатый? Неужели думала найти здесь какие-то ответы? Ответы на вопросы, от которых не скрыться.
– Что мне делать? – шепотом спрашиваю я у стен. Я правда не знаю.
Приходят люди, разговаривают со мной. Все говорят и говорят. Плутарх Хевенсби. Фульвия Кардью, его деловитая помощница. Всяческие чиновники. Военные. Только Альма Койн, президент Тринадцатого, помалкивает. Наблюдает со стороны. Ей пятьдесят или около того. У нее потрясающие волосы, ни одной выбившейся пряди, даже ни одного секущегося кончика. Идеальные. Глаза – серые, но не как у выходцев из Шлака. Бледно-бледно-серые, такие светлые, будто все живые краски из них выкачали. То, что осталось, напоминает цветом грязный подтаявший снег в конце зимы.
Им нужно, чтобы я взяла на себя роль, которую они для меня придумали. Стала символом революции. Сойкой-пересмешницей. Бросить вызов Капитолию, вдохновить повстанцев – недостаточно. Теперь я должна стать настоящим лидером – лицом, голосом и плотью революции. Указать путь к победе. Я буду не одна. У них тут целая команда. Позаботятся о макияже, подберут одежду, напишут речи, организуют выступления – звучит до жути знакомо, не так ли? Мне останется только сыграть роль. Иногда я их слушаю, иногда только притворяюсь внимательной и разглядываю безупречно уложенные волосы Койн – может, это парик? В конце концов у меня начинает болеть голова, или сосать в желудке, или я чувствую, что начну биться в истерике, если сию же минуту не выберусь на поверхность. Не говоря ни слова, встаю и выхожу.
Вчера, перед тем как за мной закрылась дверь, я услышала слова Койн:
– Говорила же, в первую очередь надо спасти парня.
Это она о Пите. Я с нею согласна. Из Пита получился бы замечательный лидер.
А кого они вытащили вместо него? Меня, не желающую иметь с ними никаких дел. Еще Бити, изобретателя из Третьего. Бити я почти не вижу – едва он смог садиться на постели, его подключили к разработке оружия. Прямо на кровати отвезли в какой-то секретный отдел, и теперь он только иногда показывается в столовой. Он очень умный и рад внести свой вклад в борьбу, но повести за собой не сможет. Потом – Финник Одэйр, секс-символ рыбацкого дистрикта. Это он не дал умереть Питу на арене, когда я ничем не могла ему помочь. Из Финника тоже хотят сделать вождя повстанцев, только сперва нужно добиться, чтобы он не отключался каждые пять минут. Даже когда он в сознании, приходится повторять все по три раза, прежде чем до него дойдет. Врачи говорят, это из-за электрического шока, полученного на арене, но я знаю, что причина гораздо сложнее. Финник не может ни на чем сосредоточиться, потому что постоянно думает об Энни, сумасшедшей девушке из его дистрикта, – что с нею стало. Энни – единственная на земле, кого любит Финник.
В Тринадцатом я оказалась в том числе и по его милости. Но уже почти не держу на него обиды. Он, по крайней мере, понимает, каково мне. Да и трудно злиться на того, кто постоянно плачет.
Осторожно, стараясь не шуметь, обхожу первый этаж. Будто на охоте. Беру пару вещей на память: фотографию родителей в день свадьбы, синюю ленточку для волос, семейный справочник по лекарственным и съедобным растениям. Книга раскрывается на странице с желтыми цветами. Я быстро захлопываю ее. Цветы нарисовал Пит.
Что же мне делать?
А нужно ли вообще что-то делать? Мои мама, сестра, Гейл с семьею наконец в безопасности. Другие – либо погибли, чего уже не исправить, либо укрылись в Тринадцатом. Есть еще повстанцы в других дистриктах. Конечно, я ненавижу Капитолий не меньше, чем они, вот только принесу ли пользу повстанцам, став Сойкой? Как я могу помочь дистриктам, когда любой мой шаг оборачивается страданиями и гибелью людей? В Одиннадцатом дистрикте расстреляли старика за то, что он насвистывал мелодию Руты. У нас, в Двенадцатом, стало только хуже после того, как я заступилась за Гейла, когда его хотели высечь. Цинну, моего стилиста, перед Играми избили и выволокли без сознания из Стартового комплекса. Осведомители Плутарха считают, что его убили на допросе. Цинна, такой умный, загадочный, великодушный, умер из-за меня. Нет, нельзя об этом думать. Иначе мой хрупкий разум не выдержит и я совершенно потеряю связь с действительностью.
Что делать?
Став Сойкой-пересмешницей… чего я принесу больше, пользы или вреда? Кто мне ответит? Чьему ответу я поверю? Уж конечно, не той компании из Тринадцатого. Клянусь, я бы сбежала оттуда. Если бы не одно «но». Пит. Знай я наверняка, что он погиб, ушла бы в лес – только меня и видели. Даже не оглянулась бы. Но пока ничего не известно, я связана по рукам и ногам.
Внезапно за спиной слышится какое-то шипение. Я оборачиваюсь. В дверях кухни, хищно изогнув спину, плотно прижав уши к голове, стоит самый уродливый кот в мире.
– Лютик! – вырывается у меня.
Тысячи людей погибли, а он выжил и даже не исхудал. Что же он ел? Мы всегда оставляли приоткрытым окно в кладовке, чтобы он мог приходить и уходить, когда ему захочется. Наверное, ловил полевых мышей. О другой возможности думать не хочется.
Я сажусь на корточки и протягиваю руку:
– Иди ко мне, малыш.
Ага, как же. Он злится. Мы бросили его одного. К тому же в руке у меня ничего нет, а еда – это основное, что до некоторой степени примиряло его с моим существованием. На какое-то время мы с ним, правда, едва не сдружились. Так вышло, что мы оба невзлюбили новый дом и, случалось, в одно и то же время приходили к старому. Теперь это в прошлом. Желтые глаза Лютика недобро сверкают.
– Хочешь к Прим? – спрашиваю я.
Кот пошевелил ушами. «Прим» – единственное слово, кроме собственного имени, которое что-то для него значит. Хрипло мяукнув, он подходит ближе. Я беру его на руки, глажу, потом достаю из шкафа охотничью сумку и без лишних церемоний засовываю в нее кота. По-другому поднять его на планолет не получится, а эта животина слишком много значит для моей сестры.
Ее коза Леди, от которой действительно есть толк, к сожалению, не показалась.
Голос Гейла в наушниках говорит, что пора возвращаться. Однако охотничья сумка напомнила мне еще об одной вещи, которую я хотела взять. Вешаю сумку на спинку стула и взлетаю по ступенькам на второй этаж, в свою спальню. В шкафу висит отцовская охотничья куртка. Я привезла ее перед Бойней из нашего старого дома. Подумала, что куртка будет напоминать матери и Прим обо мне, если я не вернусь, и, может быть, утешит их. Слава богу, иначе она бы тоже превратилась в пепел.
Кожа мягкая и приятная на ощупь. Сколько часов я провела, закутавшись в эту куртку! От воспоминаний на душе становится тепло и спокойно. Неожиданно ладони покрываются потом. Какое-то странное ощущение в затылке. Резко поворачиваюсь. Никого нет. В комнате порядок. Все на своем месте. Тишина. Меня испугал не звук. Тогда что?
Ноздри невольно вздрагивают. Запах. Тяжелый, неестественный. Среди высохших цветов на комоде что-то белое. Осторожно переставляя ноги, подхожу ближе. В вазе, едва видимая в кругу своих увядших сородичей, стоит белая роза – свежая и безупречная до кончиков лепестков, до последнего шелкового листика.
Я немедленно понимаю, от кого она.
От президента Сноу.
Задыхаясь от запаха, пячусь, поворачиваюсь и бегу прочь. Сколько она здесь простояла? Сутки? Час? Прежде чем мне разрешили сюда прилететь, здесь побывали разведчики повстанцев. Искали взрывчатку, жучки, все, что может представлять опасность. На розу они могли не обратить внимания. Всего лишь цветок. Только не для меня.
Внизу хватаю со стула сумку и по пути несколько раз задеваю ею пол, прежде чем вспоминаю, что она не пустая. Стоя на лужайке, отчаянно машу руками планолету. Толкаю локтем бьющегося в сумке Лютика, отчего тот приходит еще в большую ярость. Наконец появляется планолет, и вниз спускается лестница. Становлюсь на ступеньку, и меня, обездвиженную током, поднимают на борт.
Гейл помогает мне сойти с лестницы.
– Все в порядке?
– Да, – отвечаю я, смахивая рукавом пот с лица и едва сдерживая крик: «Он прислал мне розу!» Лучше помалкивать, тем более когда за нами наблюдает Плутарх. Со стороны это будет похоже на бред. Будто я все это себе вообразила (что не исключено) или делаю из мухи слона. И в том и другом случае билет в страну наркотических грез, из которой я едва вырвалась, мне гарантирован. Никто другой не поймет, что такого страшного в цветке, пусть даже от президента Сноу. Потому что никто кроме меня не сидел с ним в кабинете перед туром победителей и не слышал его угроз. Это не просто цветок. Это обещание расплаты.
Белоснежная роза на комоде – послание, адресованное лично мне. О том, что пора платить по счетам. «Я найду тебя. Достану где угодно. Возможно, я уже сейчас вижу тебя», – шепчет она.
2
Может быть, капитолийские планолеты уже мчатся сюда, чтобы развеять нас по ветру? Все время, пока мы летим над Двенадцатым дистриктом, я жду нападения. Ничего не происходит. Через несколько минут я слышу радиообмен между пилотом и Плутархом о том, что воздушное пространство свободно, и немного успокаиваюсь.
Гейл кивком показывает на вопящую охотничью сумку:
– Так вот зачем тебе непременно надо было вернуться.
– Как будто был хоть один шанс его найти.
Сбрасываю на мягкое сиденье сумку – мерзкое существо внутри принимается угрожающе рычать – и сажусь напротив у окна.
– Заткнись.
Гейл садится рядом.
– Жуткое зрелище, да?
– Хуже не придумаешь.
Я смотрю в глаза Гейла и вижу в них отражение собственной скорби. Наши руки находят друг друга, жадно цепляясь за ту часть Двенадцатого дистрикта, которую не смог уничтожить Сноу. До конца полета сидим молча. Впрочем, лететь до Тринадцатого всего минут сорок. Пешком – неделя. Бонни и Твилл, беглянки из Восьмого дистрикта, которых я встретила в лесу прошлой зимой, были не так уж далеки от цели. Похоже, не дошли. Я пыталась навести справки в Тринадцатом, но никто ничего о них не слышал. Умерли в лесу, наверное.
С воздуха вид у Тринадцатого дистрикта ничуть не веселей, чем у нашего. Руины, правда, не дымятся, как показывают из Капитолия по телевизору, но на поверхности почти невозможно разглядеть никаких признаков жизни. Все семьдесят пять лет, прошедших с Темных Времен, когда Тринадцатый был якобы стерт с лица земли в войне с Капитолием, новое строительство велось исключительно под землей. Часть подземных сооружений существовала уже не одну сотню лет – тайные убежища для глав правительства на время войны либо последний приют человечества, если жизнь на поверхности станет невозможна. Но самое главное то, что Тринадцатый был центром по разработке ядерного вооружения для Капитолия. В Темные Времена повстанцы изгнали из своего дистрикта правительственные войска и, нацелив ядерные ракеты на Капитолий, предложили сделку: Капитолий оставляет Тринадцатый дистрикт в покое, а Тринадцатый дистрикт делает вид, будто его больше не существует. Хотя на западе страны Капитолий располагал резервным ядерным арсеналом, применить его без риска ответного удара со стороны Тринадцатого было нельзя. Оставалось принять условия. Капитолий разрушил все, что еще уцелело на поверхности, и перекрыл доступ к дистрикту извне. Возможно, лидеры Капитолия полагали, что, оставшись без поддержки, Тринадцатый постепенно вымрет сам. Несколько раз он и впрямь был на грани гибели, однако благодаря четкому распределению ресурсов, строгой дисциплине и постоянной бдительности ему всегда удавалось выкарабкаться и избежать диверсий Капитолия.
Теперь люди почти все время проводят под землей, лишь иногда, по расписанию, выбираясь на поверхность, чтобы размяться и побыть под солнцем. Расписание – это святое. Утром засовываешь в хитрую штуковину на стене правую руку до локтя и получаешь на ее внутренней стороне ядовито-фиолетовую татуировку:7.00 – Завтрак. 7.30 – Дежурство по кухне. 8.30 – Образовательный центр, ауд. 17. И дальше в таком духе. Чернила невозможно ни стереть ни смыть до 22.00, когда по расписанию душ. К тому времени вещество, отвечающее за стойкость чернил, распадается, и весь распорядок утекает в канализацию. Ровно в 22.30 звучит отбой, после чего все, кто не занят в ночную смену, должны быть в постели.
Лежа в госпитале, я обходилась без ежедневного «клеймения». Теперь, переселившись в отсек 307 к маме и сестре, должна жить, как остальные. Как бы то ни было, я не особенно обращаю внимание на эти надписи – за исключением тех, что касаются посещения столовой. В остальное время сижу в нашем отсеке, брожу по Тринадцатому или заваливаюсь спать в каком-нибудь укромном уголке. В заброшенном вентиляционном коробе. За трубами в прачечной. В подсобке образовательного центра. Замечательное место эта подсобка. Никто никогда не зайдет ни за мелом, ни еще за чем. Тут все жутко бережливые, расточительство – чуть ли не уголовное преступление. К счастью, жизнь в Двенадцатом приучила нас быть экономными. Зато Фульвия Кардью как-то раз смяла и выбросила почти не исписанный лист бумаги. Видели бы вы, как на нее все посмотрели, – будто она кого-то убила. Фульвия покраснела как помидор, отчего серебряные розы на ее пухлых щеках стали еще отчетливее. Ходячий символ расточительства. Одно из немногих моих развлечений в Тринадцатом – наблюдать за горсткой отъевшихся капитолийских «бунтарей», как они из кожи вон лезут, чтобы соответствовать.
Не знаю, долго ли наши гостеприимные хозяева намерены мириться с моим полнейшим пренебрежением к пунктуальности и правилам, столь ими любимыми, но пока что меня никто не трогает. Чего ждать от человека, страдающего «психической дезориентацией»? (Такой диагноз значится на пластиковом медицинском браслете у меня на руке.) Впрочем, рано или поздно моим вольным блужданиям придет конец. Да и с Сойкой надо что-то решать.
С посадочной площадки, наматывая лестничные марши, мы с Гейлом спускаемся в отсек 307. Лифт тоже есть, вот только он слишком напоминает тот, который поднимал меня на арену. Мало приятного проводить столько времени под землей, однако сегодня, после той жуткой розы (действительно ли она была?), я впервые чувствую себя тем спокойнее, чем глубже спускаюсь.
У двери с номером 307 я останавливаюсь. Сейчас начнутся расспросы…
– Что мне им говорить о Двенадцатом? – обращаюсь я к Гейлу.
– Вряд ли им нужны подробности. Сами видели, как все горело. Думаю, они больше волнуются за тебя. – Пальцы Гейла касаются моего лица. – И я тоже.
На секунду я прижимаю его ладонь к своей щеке.
– Я справлюсь.
Потом делаю глубокий вдох и открываю дверь. Мать и сестра дома. Сейчас18.00 – Анализ дня, полчаса отдыха перед ужином. В глазах у них забота. Будто в душу хотят заглянуть. Прежде чем кто-нибудь успевает произнести хоть слово, я открываю сумку, и вместо анализа дня у нас 18.00 – Обожание кота. Прим сидит на полу и со слезами на глазах нянчит этого жуткого котищу, а тот урчит, изредка прерываясь, чтобы шикнуть в мою сторону. Особенно уничижительным взглядом он меня награждает после того, как Прим повязывает ему вокруг шеи синюю ленточку.
Мама прижимает к груди свою свадебную фотографию, потом ставит ее на казенный комод, рядом кладет справочник растений. Я вешаю на стул отцову куртку. На мгновение кажется, будто мы снова дома. Все-таки не зря я смоталась в Двенадцатый.
18.30. Мы идем в столовую на ужин, когда на руке Гейла пищит телебраслет – штуковина, похожая на большие наручные часы, но может принимать текстовые сообщения. Телебраслеты – редкость. Их выдают в качестве поощрения тем, кто особенно значим для дела революции. Гейлу этот статус присвоили за спасение жителей Двенадцатого дистрикта.
– Нас с тобой вызывают в штаб, – говорит он мне.
Я плетусь в нескольких шагах позади Гейла, готовясь к очередной промывке мозгов. Вот и штаб – зал заседаний военсовета, оборудованный по последнему слову техники. Тут и говорящие стены со встроенными компьютерами, и электронные карты, показывающие перемещения войск в различных дистриктах, и гигантский прямоугольный стол с замысловатыми приборными панелями – мне до них лучше не дотрагиваться. Останавливаюсь в дверях, никто не обращает на меня внимания. Все собрались в дальнем конце зала у телевизионного экрана, по которому круглые сутки идут передачи из Капитолия. Я уже думаю, не улизнуть ли потихоньку, как вдруг Плутарх, чья массивная фигура загораживала мне телевизор, поворачивается и энергично машет рукой – скорее сюда! С неохотой подхожу ближе. Что там может быть интересного? Всегда одно и то же: военные сводки, пропаганда, кадры бомбежек Двенадцатого дистрикта. Ясная демонстрация того, что нас всех ждет. На таком фоне появление Цезаря Фликермена, вечного ведущего Голодных игр, с раскрашенной физиономией и в блескучем костюме выглядит почти ободряюще. До тех пор пока камера не отъезжает, чтобы показать гостя программы. Это – Пит.
У меня перехватывает дыхание, и я судорожно, со стоном хватаю ртом воздух, будто в последний момент, когда легкие уже разрываются болью от недостатка кислорода, вынырнула из-под воды. Пробившись к самому телевизору, касаюсь ладонью экрана. Вглядываюсь в глаза Пита, пытаясь уловить в них боль, тень страданий, которым его подвергали. Я ничего не нахожу. Вид у Пита не просто здоровый – цветущий. Гладкая, румяная кожа без единого изъяна, как после полной регенерации. Взгляд, движения – спокойные и уверенные. Ничего общего с тем избитым, окровавленным юношей, что виделся мне в кошмарах.
Цезарь усаживается поудобнее в кресле напротив, долго смотрит на Пита.
– Привет, Пит… С возвращением!
Губы Пита трогает легкая улыбка:
– Готов спорить, Цезарь, ты был уверен, что больше меня не увидишь.
– Признаюсь, ты прав. В тот вечер перед Квартальной бойней… кто бы мог подумать, что мы еще встретимся?
– У меня, по крайней мере, такого и в мыслях не было.
Цезарь слегка подается вперед:
– Думаю, все прекрасно знают, что было у тебя в мыслях. Пожертвовать собой ради Китнисс Эвердин и вашего ребенка.
– Именно так. Просто и ясно. – Пальцы Пита обводят узор на мягкой обивке подлокотника. – Только у других тоже были свои планы.
«Еще как были, – мысленно соглашаюсь я. – Значит, Пит обо всем догадался? Что повстанцы использовали нас как пешки в своей игре. Что меня с самого начала планировали спасти. И наконец, как наш ментор Хеймитч Эбернети предал нас обоих ради цели, которая его якобы совершенно не интересовала».
Пока длится пауза, я замечаю морщинки между бровями Пита. Да, он догадался, или ему рассказали. Однако Капитолий не убил его и даже не наказал. Такого я не решалась представить себе в самых смелых мечтах. Я не могу на него наглядеться. Пит – цел, невредим, здоров телом и духом. Осознание этого растекается по моим жилам подобно морфлингу, который мне колют в госпитале, и боль, мучившая меня вот уже несколько недель, отступает.
– Не мог бы ты рассказать зрителям о последней ночи на арене? – просит Цезарь. – Это позволило бы многое прояснить.
Пит согласно кивает, но с рассказом не торопится.
– Та ночь… Последняя ночь… Что ж, тогда для начала пусть зрители попробуют представить, что испытывает трибут на арене. Ты – букашка под колпаком с раскаленным воздухом. Кругом джунгли… зеленые, живые. Гигантские часы, отсчитывающие, сколько тебе осталось. Тик-так, тик-так. Каждый час – новое испытание, одно кошмарнее другого. Шестнадцать смертей за последние два дня. Некоторые погибли, защищая тебя. Если так пойдет дальше, оставшиеся восемь не доживут до утра. Кроме одного. Победителя. И ты сделаешь все, чтобы им стал другой.
Меня окатывает потом при воспоминании. Рука безвольно соскальзывает с экрана. Питу не нужно кистей и красок, чтобы живописать Игры. Он прекрасно обходится словами.
– Когда ты на арене, остальной мир для тебя не существует, – продолжает он. – Все, что ты любил, стало таким далеким, что его как бы и нет. Розовое небо, монстры в джунглях, трибуты, жаждущие твоей крови, – только это по-настоящему реально и имеет значение. Хочешь ты или нет, тебе придется убивать, потому что на арене у тебя лишь одно желание, и плата за него высока.
– Плата – твоя жизнь, – говорит Цезарь.
– Нет, гораздо выше. Убивать ни в чем не повинных людей… Это… это – отдать все ценное, что в тебе есть.
– Все ценное, что в тебе есть, – негромко повторяет Цезарь.
Студию заполнила тишина, и я чувствую, как она растекается по всему Панему. Целая нация приникла к экранам. Никто прежде не говорил о том, каково это – быть трибутом.
– И ты цепляешься за это желание, как за последнее, что у тебя осталось своего, – продолжает Пит. – В ту последнюю ночь мое желание было спасти Китнисс. Я не знал о повстанцах, но чувствовал – что-то не так. Все чересчур запуталось. Я жалел, что не убежал с ней днем, как она предлагала. Но в тот момент это было невозможно.
– Ты был слишком увлечен идеей Бити – пустить электричество в соленое озеро.
– Слишком увлечен игрой в союзники. Никогда себе не прощу, что позволил им нас разлучить! Тогда-то я ее и потерял.
– Когда ты остался у Дерева молний, а Китнисс с Джоанной Мэйсон понесли катушку проволоки к озеру, – уточняет Цезарь.
– Я не хотел оставаться! – Пит даже покраснел от волнения. – Но если бы я стал спорить с Бити, он бы догадался, что мы решили разорвать союз. А как перерезали провод, там такое началось… Всего и не упомнишь. Я пытался ее найти. Видел, как Брут убил Рубаку. Я сам убил Брута. Китнисс звала меня. Потом молния ударила в дерево, и силовое поле вокруг арены… лопнуло.
– Его взорвала Китнисс, – говорит Цезарь. – Ты видел запись.
– Она сама не понимала, что делает, – огрызается Пит. – Никто из нас не знал планов Бити. Китнисс просто пыталась избавиться от провода.
– Что ж, может быть, – уступает Цезарь. – Но выглядит это подозрительно. Как будто она с самого начала была в сговоре с мятежниками.
Внезапно Пит вскакивает, нависает над Цезарем и впивается пальцами в подлокотники его кресла.
– Подозрительно? А что Джоанна едва ее не убила – это как? Тоже часть заговора? Или, может быть, Китнисс хотела, чтобы ее парализовало током? Или чтобы планолеты разбомбили наш дистрикт? – Пит уже кричит. – Она не знала, Цезарь! Никто ничего не знал. Мы только старались спасти друг другу жизнь!
Цезарь кладет руку на грудь Пита – то ли желая успокоить, то ли пытаясь защититься.
– Ладно, ладно, Пит, я тебе верю.
– Хорошо.
Пит выпрямляется и запускает пальцы в волосы, приводя в беспорядок тщательно уложенные светлые локоны. Смущенно садится в свое кресло.
Какое-то время Цезарь молча изучает Пита.
– А как насчет вашего ментора, Хеймитча Эбернети?
Взгляд Пиа становится жестким.
– Понятия не имею, что знал Хеймитч.
– Как думаешь, он замешан в заговоре?
– Хеймитч никогда не говорил на эту тему.
– Что подсказывает тебе сердце? – не унимается Цезарь.
– Что Хеймитчу не следовало доверять. Ничего больше.
Я не видела Хеймитча с тех пор, как расцарапала ему лицо в планолете. По слухам, ему тут нелегко. В Тринадцатом дистрикте производство и потребление опьяняющих напитков строго запрещено. Медицинский спирт в госпитале держат под замком. Волей-неволей приходится быть трезвенником, и даже никакой самодельной бурды не купишь для облегчения страданий. Хеймитча держат в изоляции, пока он не просохнет настолько, чтобы его можно было предъявить публике. Жестоко, но так ему и надо, обманщику. Надеюсь, он сейчас смотрит передачу и видит, что Пит в нем тоже разочаровался.
Цезарь хлопает Пита по плечу:
– Если хочешь, мы можем сейчас закончить.
Пит криво усмехается:
– Что мы еще должны обсудить?
– Ну, вообще-то я собирался спросить, что ты думаешь о разгоревшейся войне, но ты, кажется, слишком взволнован…
– Я отвечу. – Пит делает глубокий вдох и смотрит прямо в камеру. – Я хочу, чтобы все, кто меня сейчас видит, неважно, на чьей вы стороне – Капитолия или повстанцев, задумались на минуту, к чему приведет эта война. Мы едва не вымерли во время предыдущей. Теперь нас меньше. Наше положение еще более шаткое. Так чего же мы хотим? Истребить человечество? В надежде… что на дымящихся руинах нашей цивилизации поселится другой, более разумный вид?
– Я не… не совсем понимаю…
– Нам нельзя воевать друг с другом, Цезарь. Нас и без того слишком мало. Если мы все не сложим оружие – и притом немедля, – человечеству конец.
– То есть ты призываешь к перемирию?
– Да. Я призываю к перемирию, – устало повторяет Пит. – А теперь пусть охрана отведет меня обратно, и я построю еще сотню карточных домиков.
Цезарь поворачивается к камере:
– Что ж, на этом специальный выпуск завершен, мы возвращаемся к нашему обычному вещанию.
Звучит финальная музыка, затем дикторша зачитывает список товаров, нехватка которых ожидается в ближайшее время: свежие фрукты, солнечные батареи, мыло. Я не отрываюсь от экрана, будто меня это страшно интересует, знаю – все ждут моей реакции. А как тут реагировать, когда я сама не понимаю, что чувствую. Пит – жив и здоров! И он защищает меня перед Капитолием. А сам, похоже, с ним сотрудничает, раз призывает к перемирию. Да, конечно, он говорил так, будто осуждает обе стороны, но сейчас, пока преимущества у повстанцев столь незначительны, перемирие может означать только одно – все станет как прежде. Или хуже.
За спиной слышатся обвинения в адрес Пита. «Предатель», «лгун», «враг». Слова мячиками отскакивают от стен. Я не могу возразить и согласиться тоже не могу. Поэтому решаю просто уйти. Едва я достигаю двери, как над общим ропотом возвышается голос Койн:
– Тебя никто не отпускал, солдат Эвердин.
Один из ее людей кладет руку мне на плечо. Вполне безобидное действие, но после арены любое прикосновение я воспринимаю в штыки. Вырываюсь, бегу по коридорам. Сзади слышны звуки борьбы, но я не останавливаюсь. Быстро перебрав в уме свои маленькие укрытия, заскакиваю в подсобку образовательного центра и приваливаюсь к коробке с мелом.
– Ты жив, – шепчу я, прижимая ладони к щекам. Мои губы растянуты в такую широкую улыбку, что она, должно быть, смахивает на гримасу.
Пит – жив. Он предатель. Но для меня это сейчас неважно. Не имеет значения, что он говорит, как говорит и по чьему наущению. Главное, что он вообще способен говорить.
Через некоторое время дверь открывается, и кто-то входит. Ко мне подсаживается Гейл. Из носа у него идет кровь.
– Что случилось? – спрашиваю я.
Он пожимает плечами:
– Преградил дорогу Боггсу.
Вытираю ему нос своим рукавом.
– Полегче!
Я стараюсь сильно не нажимать. Промокаю, а не вытираю.
– Кто это?
– Да ты его знаешь. Правая рука Койн. Это он хотел тебя остановить.
Гейл отстранил мою руку.
– Брось! Так я у тебя совсем кровью истеку.
Действительно, после моих стараний кровь уже не капает, а бежит ручьем. Лучше бы не бралась.
– Ты дрался с Боггсом?
– Нет, просто встал в дверях, когда тот хотел бежать за тобой, вот и получил локтем по носу.
– Тебя, наверное, накажут.
– Уже. – Гейл поднял руку. Я смотрю на нее непонимающим взглядом. – Койн забрала у меня телебраслет.
Закусываю губу, силясь сохранить серьезный вид. Все так глупо.
– Сожалею, что доставила вам неприятности, солдат Гейл Хоторн.
– Не стоит, солдат Китнисс Эвердин, – улыбается Гейл. – Все равно я чувствовал себя придурком с этой штуковиной.
Мы оба смеемся.
– Кажется, я безнадежно упал в их глазах.
Вот что мне нравится в Тринадцатом: здесь я могу видеться с Гейлом. Капитолий нам теперь не указ, и мы снова стали друзьями. Гейла это устраивает – во всяком случае, с поцелуями он ко мне не лезет и разговоров о любви не затевает. Может, из-за того, что я еще толком не оправилась, может, хочет дать мне время разобраться со своими чувствами. Или потому, что это будет подло, пока Пит находится в руках Капитолия. Как бы то ни было, теперь у меня снова есть товарищ, с которым я могу делиться сокровенным.
– Что они за люди? – спрашиваю я.
– Такие же, как мы. Но у них было ядерное оружие, а у нас только пара угольных глыб – вот и вся разница.
– Хочется верить, что Двенадцатый не бросил бы остальных повстанцев на произвол судьбы. Тогда, в Темные Времена.
– Кто знает. Если стоит выбор – уступить или начать ядерную войну. Удивительно, как им вообще удалось выжить.
Может быть, оттого, что пепел родного дистрикта еще не успел осыпаться с моих ботинок, я впервые чувствую к Тринадцатому то, в чем до сих пор ему отказывала, – уважение. Он сумел выжить. Несмотря ни на что. Страшно представить, каково тут было в первые годы. Горстка людей, загнанных в подземелье под сожженным дотла городом. Помощи ждать не от кого. За семьдесят пять лет они многому научились, из граждан превратились в солдат и создали новое автономное общество. Они были бы еще сильнее, если бы их не подкосила оспа. Рождаемость упала, и потребовался приток новой крови. Их можно считать солдафонами, послушными винтиками, сухарями, но они живы. И они бросают вызов Капитолию.
– Не слишком-то они торопились себя проявить, – ворчу я.
– Не все так просто. Нужно было создать базу повстанцев в Капитолии, развернуть подполье во всех дистриктах, – говорит Гейл. – Потом понадобился кто-нибудь, кто привел бы все это в действие. Им была нужна ты.
– Им был нужен Пит, тут они просчитались.
Лицо Гейла мрачнеет.
– Сегодня Пит порядком нам навредил. Большинство повстанцев, конечно, пропустят его призыв мимо ушей, но есть дистрикты, где сопротивление слишком слабое. Хотя идея перемирия явно исходит от президента Сноу, в устах Пита она звучит разумно.
Я боюсь услышать ответ Гейла, но все равно спрашиваю:
– Как думаешь, почему он это сделал?
– Возможно, его пытали. Или просто убедили. Но мне кажется, Пит пошел с ними на сделку, чтобы спасти тебя. Он призывает к перемирию, а Сноу позволяет ему представить дело так, будто ты запутавшаяся беременная девушка и мятежники обманом тебя похитили. Если дистрикты потерпят поражение, у тебя будет шанс на помилование, при условии что ты правильно разыграешь эту карту.
Должно быть, вид у меня не шибко умный, потому что следующую фразу Гейл произносит очень медленно:
– Китнисс… Пит до сих пор пытается спасти тебе жизнь.
Спасти мне жизнь? И тут до меня доходит. Игры все еще продолжаются. Арена позади, но поскольку мы с Питом оба живы, его последнее желание – сохранить мне жизнь – все еще в силе. Он рассчитывает на то, что я буду сидеть тихо, не высовываясь, будто меня держат в плену. Тогда никому не понадобится меня убивать. А Пита? Победа повстанцев обернется для него гибелью. Если верх одержит Капитолий, кто знает? Может быть, нас обоих пощадят – конечно, если я правильно разыграю карту, – и мы до конца жизни будем смотреть Игры…
Перед глазами проносятся жуткие картины: копье, пронзающее насквозь тело Руты; избитый до бесчувствия Гейл у позорного столба; мой дистрикт, опустошенный и заваленный трупами. Ради чего? Ради чего? Кровь закипает у меня в жилах, картины меняются. Я вижу первый акт неповиновения, которому стала свидетелем в Восьмом дистрикте. Победителей, стоящих рука об руку в ночь перед Квартальной бойней. Мою стрелу, выпущенную в силовое поле. Случайно? Как бы не так! Я мечтала вонзить ее в самое сердце врага!
Я вскакиваю и опрокидываю коробку с карандашами, которые раскатываются по всему полу.
– Что такое? – спрашивает Гейл.
– Не будет никакого перемирия. – Я подбираю палочки с темно-серым графитом, сую их обратно в коробку. Получается плохо. – Мы не должны отступать.
– Я знаю. – Гейл сгребает карандаши в ладонь и постукивает по полу, чтобы выровнять.
– И все равно Пит не прав.
Дурацкие деревяшки никак не влезают в коробку, я пытаюсь запихнуть их силой, и некоторые ломаются.