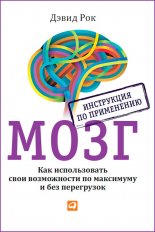Восьмерка (сборник) Прилепин Захар

Витёк
– Москва поехала! Собирай обедать, мать! – говорил отец, заходя в дом.
Пацан улыбался ему. У отца все время был такой вид, словно он поймал большую рыбу, которая у него в мешке за спиной трепещет хвостом.
Бабушка выглядывала в окошко. По насыпи мимо деревни пролетал сияющий состав.
В книжках шум поездов описывался странным «тук-тук-тук-тук, ты-тых-ты-тых» – но звучанье состава, скорей, напоминало тот быстрый и приятный звук, с которым бабушка выплескивала грязную воду из ведра на дорогу. Состав будто бы сносило стремительным водным потоком. Казалось, зажмуришься в солнечный день, глядя составу вслед, – и разглядишь воздушные брызги и мыльные пузыри, летающие над насыпью.
По Москве, часа в четыре, обедали – когда дневной состав проходил в столицу, – и с Москвой, в девять с мелочью, ужинали – когда состав мчался оттуда. Если днем, на солнце, состав смотрелся будто намыленный, то вечером напоминал гирлянду.
Утром тоже был рейс, но мальчик в это время спал, бабушка возилась с коровой, а отец уходил на работу в котельную и там, наверное, время от времени похмелялся с Москвой.
Однажды пацан, перегуляв, на ночь выпил шесть кружек воды, утром, встав на три часа раньше обычного срока, припрыгивая, выскочил на улицу и наконец стал свидетелем того, как проходит первый состав. Он был схож с длинной рыбой, показавшейся на поверхности воды и тут же пропавшей в белесой глубине. Пацан еще толком не раскрыл глаза, когда раздался этот настигающий плеск, – а когда все-таки разлепил ресницы – только птица зигзагами летала над насыпью, словно ее полет спутал огромный ветер.
…залил себе всю калошу, пока смотрел на птицу.
Пацану было семь лет, отец выучил его буквам.
Пацан ровно накусал пассатижами проволоку, найденную в сарае, затем, сверяясь по книжке и кряхтя, как бабушка, смастерил десятка полтора разных букв. Сначала чтоб хватило на свое имя, потом – на имя коровы, после смешал оба слова и, поковырявшись, набрал на Москву, которая носилась туда-сюда по путям.
Ходить к насыпи ему запрещали.
Зимой, сквозь рыхлые снега, наверх было не забраться. Осенью и весной насыпь была грязна и неприступна. Пацан подступался как-то – вернулся домой измазанный с головы до пят, бабушка оббивала его сначала на улице, потом оттирала в прихожей, потом домывала на кухне.
Зато летом… летом там цвели такие буйные цветы – издалека казалось, будто они катаются на санках: все было белое, красное, шумное, все кудрявилось и кувыркалось через голову. Взгляд скользил, когда пацан глядел на эту красоту.
Засыпая, он все никак не мог понять, как цветы прижились вдоль отлогой, крутой насыпи – им же приходится расти не вверх к солнцу, а куда-то почти в сторону, набок. Солнце греет им стебли и затылки, а не макушки.
…висит цветок, заслонившись рукавом от света, и сверху проносится состав…
Внизу, под насыпью, цветы пахли цветами – а вверху, ближе к рельсам, их становилось все меньше, и редкие ромашки отдавали пылью, мазутом, гарью.
Пацан залез вверх перед обеденным поездом, разложил буквы на рельсе, друг под дружкой.
Сначала они лежали спутано, но, решив, что это непорядок, пацан выложил их как положено в слове «Москва».
Часто оглядывался – не идет ли, взметая птиц и мыльные пузыри, сшибая слепней и пчел, состав.
Внизу, на поле, паслись коровы – их в деревне осталось три.
Одна – их Маруся, неспешная и отзывчивая, как бабушка. Другая – ближнего соседа по прозвищу Бандера, такая же рыжая, как он. Третья – соседа по прозвищу Дудай – черной масти и дурная, тоже понятно в кого.
Дудай, когда гнал корову домой, прикрикивал: «Хоп-хоп! Иди, ай!» Бандера раз в минуту повторял: «Цоп-цобе! Цоп-цобе!» И лишь бабушка пригоняла корову молча, потому что Маруся и так знала, куда идти.
Сейчас коровы щипали траву, обмахиваясь хвостами, или, вытягивая шеи, громко мычали в сторону путей, будто призывая состав.
Пацан сполз вниз, сминая цветы, и долго ждал поезда. Гораздо дольше, чем предполагал. За это время он оборвал лепестки у всех ромашек вокруг. Ромашки стояли лысые и противные, как новобранцы. Мухи садились на них, а пчелы уже нет.
Пацан не двигался и старался не дышать.
Совсем близко из норы вылез суслик и поднялся на задние лапки, маленький и непроницаемый, как японский божок. Он изредка принюхивался к воздуху.
Пацан сморгнул, и суслик пропал.
На минуту задумался, как же проживает суслик вблизи путей: у него же в норе, наверняка, вся мебель дрожит и осыпается, когда мчит московский.
Состав вылетел будто из засады. От него шел жар, а ветер несся и впереди, и позади, и по бокам состава, заставляя кланяться травы и кусты.
Жар этот был вовсе не такой, как от бабушкиных сковородок, – он пах серой, а не подсолнечным маслом. И сам состав был полон скрытым гулом, как будто внутри его находились тысячи бешеных пчел.
Пацан вдруг, на долю секунды, явственно увидел девочку в окне, радостно указывающую в него пальцем. Поезд несся так быстро, что пока она не сжала кулачок, пальчик успел показать на всех коров, котельную, старые склады, кладбище и начинавшийся за ним лес.
Когда родители девочки, наконец, подняли глаза, чтоб разглядеть причину ее удивления, – взгляд их упал как раз на косые кресты и неряшливые надгробья.
Кладбище было обнесено железной оградкой только со стороны села, а дальний его край, уходящий в деревья, был открыт настежь, словно покойным только к живым людям не стоило ходить, а в лес – пожалуйста.
Пацан иногда представлял, как могилу деда навещает медведь, или волк… или компания загулявших зайцев.
Немного подождав, пока не удалились все опаленные всадники, сопровождавшие состав, пацан поспешил к рельсам.
Буквы смотрелись замечательно. Они расплавились и стали не толще пчелиного крыла… ну, хорошо – трех пчелиных крыл.
Пацан бережно собрал еще горячие сколки алфавита.
С другой стороны насыпи была воинская часть.
Солдат там с каждым годом становилось все меньше; отец сказал, что скоро часть вообще прикроют – стратегического значения у нее не было никакого. Раньше за селом была станция и даже одноэтажное здание вокзала, ради него и была построена котельная. Но на вокзале давно уже не останавливались никакие поезда. Он пустовал, пылясь и осыпаясь. Котельная обогревала сама себя и магазин. Защищать тут, кроме трех коров, было некого.
Несколько лет назад солдатики ходили в деревню за молоком, а потом перестали. Расхотелось, наверное.
Но в части еще дымили котлы, маршировали новобранцы, изредка громыхал мат. Все отсвечивало на солнце: спины, кастрюли, окна, плац, кокарда офицера. Два срочника, зашкеревшись, курили в кустах за столовой.
Солдаты сверху смотрелись как игрушечные.
Пацан немного поиграл ими в войну, подводя полчища врага с восточной стороны части, но срочники, сидевшие за столовой, так и не обратили вниманья на топот копыт и скрип тысяч повозок, поэтому пацан поспешил домой.
В одной руке у него были буквы, другой он пытался удерживать себя за цветы, отчего, когда сполз с насыпи, рука стала зеленой и вся горела.
Одна ладонь была горячая от букв, вторая от стеблей.
– Москва проехала, пора вечерять, – сказал отец, но голос у него был такой, словно рыба ему попалась дурная, с родимым пятном, с бледным больным глазом: и выбросить жалко, и есть страшно.
– Ты зачем лазил на пути, бродяга? – спросил пацана отец, усаживаясь за стол.
Бабушка поставила мужикам тарелки и тихо, словно пугаясь, звякнула ложками.
Пацан молчал.
Отец начал смуро есть, изредка поглядывая в окно.
Он сроду не тронул сына, но пацан все равно его боялся.
Бабушка не желала приступать к еде, пока за столом не воцарится мир. Ей казалось, что возьми она хлеб или, упаси Бог, ложку – все вообще пойдет наперекосяк.
Отец, на мгновенье позабыв, что ему положено быть суровым и строгим, спросил у бабушки:
– А чего сарай открыт? – и кивнул за окно.
– Да два цыплока куда-то потерялись. Звала-звала, нету.
– Это бандеровский кот, – сказал отец уверенно. – Я сказал уже Бандере: прибью иуду.
– Ой, да не бандеровский, – сказала бабушка. – Он лентяй, лежит целый день – кот Бандеры… Какие ему цыплоки! Его хоть за усы тащи – не проснется.
Пацан, сообразив, что от него отвлеклись, вдруг высыпал на стол буквы. Под вечерней лампой они отсвечивали, как серебряные. Расставил их в форме слова «Москва».
Отец, прищурившись, смотрел.
– Красиво, – сказал. Потянулся и взял одну из букв.
Бабушка тоже полюбовалась, но прикоснуться не решилась.
Пацан быстро доел свою картошку, выпил молока и ушел в комнату читать книжку. Детских книжек в доме было три – одна в картонной обложке, а две другие без обложек и названий.
– Откуда ты прознал о насыпи-т? – спросила бабушка на кухне.
– Бандера сказал, – ответил отец, щетинисто усмехаясь. – Все, наверное, решал: как ему приятней будет – что этот бродяга снова полезет под состав или что я его вздую дома. Выбрал: лучше, если вздую.
По молчанью бабушки было слышно, что она не согласна с отцом. Бабушка считала Бандеру неплохим мужиком.
Она всех людей считала хорошими.
Для бабушки любое человеческое несчастье было равносильно совершенному хорошему делу. Мужик запил – значит, у него жизнь внутри болит, а раз болит – он добрый человек. Баба гуляет – значит, и ее жизнь болит в груди, и гуляет она от щедрости своего горя. Если кому палец отрезало на пилораме – это почиталось вровень с тем, как если б покалеченный весь год соблюдал посты. У кого вырезали почку – это все одно, что сироту приютить.
У бабушки это очень просто в голове укладывалось.
Бандера жил с женой и тремя маленькими внуками. Какого они пола, пацан толком так и не знал – детей редко выпускали за ворота. Они попискивали где-то в глубине дома или в коровьем стойле, куда их перетаскивали, когда Бандера доил коров – он сам доил.
Пацан как-то слышал, что раньше неподалеку от деревни была тюрьма, где сидел то ли отец, то ли дед Бандеры – и, выйдя на волю, остался тут жить. Но род их всегда вел себя скрытно, негромко.
Пацан иногда подолгу стоял у Бандерина дома – понапрасну ждал, что его подпустят к детям, он бы поиграл с ними.
В былые времена в Бандерином дворе всегда обитало множество разнообразных, шумных и пушистых собак. Жена Бандеры собирала их и сдавала на шкурки в какую-то живодерню.
У них был сын, белесый, рослый, видный. Кому-то подражая, рубашку носил всегда с завернутыми по локоть рукавами. Наглядевшись на него, пацан тоже стал носить так же – подворачивал свои обноски, начиная с первых майских дней. Руки только мерзли все время.
Сын женился на местной девке, быстро наплодил троих, потом сошелся с какой-то городской и пропал. Невестка осталась жить у Бандеры в семье.
Разве бабушка могла после этого плохо думать о Бандере?
– Бандера! – дразнил ее отец, – Приютил детей! Чужих, что ли, приютил? Своих же! Куда ж им скопленные собачьи деньги тратить! Они ж собак всю жизнь резали на мясорезке! Подрастут щенки – и под нож! Вот сынок и вырос такой! Он привык, что с щенками так можно: поиграл и забыл…
Бабушка молчала так, что пацан понимал: она согласна с отцом. Согласна, но не осуждает все равно ни Бандеру, ни сына его, ни невестку, ни Бандерову жену.
На всю деревню полная семья осталась только у старшего Бандеры и Дудая. Все остальные мужики либо бедовали по одному, либо домучивали своих матерей.
Те из женщин, что вовремя не сбежали с дембелями, обитавшими в воинской части, из девичества сразу торопились в сторону некрасивой, изношенной зрелости, чтоб ничего от жизни больше не просить и не ждать. Ели много дурной пищи, лиц не красили.
Дедов в деревне не было вовсе, деды перевелись. Детей тоже почти не водилось, одна бандеровская мелкота. Подросшие сыновья Дудая пару лет назад переехали в город и там то ли учились, то ли работали – или и то и другое.
Средняя школа была только в соседней деревне, за двенадцать километров, отец ездил туда, договорился, что будет учить пацана дома и два раза в год привозить его сдавать экзамен.
Зимой село будто спало, лежа на спине, с лицом и животом, засыпанными снегом. Отец иногда собирался и, прихватив охапку дров, шел затопить печь к соседским алкоголикам. Те могли замерзнуть с перепою, когда не топили дня по четыре.
Заставал их, лежавших под ворохом телогреек, одеял и тряпок, скрючившихся и посеревших.
Раньше в деревню наезжал трактор, проделывал дороги, но сейчас в этом необходимости не было – дорога была одна – ведущая к магазину, ее раскатывала шишига, которая раз в неделю подвозила продукты. Меж остальными домами только натаптывались тропки, и то терявшиеся после трехдневных снегопадов.
Вдоль тропок виднелись желтые прогалы, оставляемые двумя деревенскими кобелями.
Прошлую ледяную зиму случай был. Бабушка выглянула в окно и спрашивает отца:
– Чёй-то не пойму, чьи собаки во дворе суетят?
Посмотрел отец и хохотнул:
– Это волки, мать.
В дверях раздался ужасный скрежет, пацан потерял от страха дар речи, да и бабушка напугалась.
Отец пошел открывать, бабушка глянула на него так, словно он собирался поджечь дом.
– Волки не полезли бы в двери, – сказал отец хрипло и негромко: – Это не волки.
Распахнул дверь, и в избу влетел дудаевский кобель, вечно круживший по деревне без привязи, – глупый, крикливый и хамовитый. Но тут он улыбался и заискивал всей мордою. Показалось, что кобель только притворялся злым и бестолковым – а сам все понимает, и попроси его сейчас встать на задние лапы – он встанет и постарается станцевать.
Совершенно очевидным образом поздоровавшись и с бабушкой, и с отцом, и приветливо кивнув пацану, которого до этого никогда не привечал, дудаев кобель мелькнул под кровать и затаился там, не дыша.
– …корова-то, – сказала бабушка, не находя себе места. – В коровник-то волки?..
Пацан вдруг услышал, как истошно замычала Маруся.
– Нет-нет, куда они… – сказал отец. – Кирпич!.. Крыша. Не влезут.
Но сам тем временем нашел таз с молотком, и, распахнув окно, начал изо всех сил бить железом о железо, прикрикивая: «Пошел! Пошел! Гуляй в лес!»
Через минуту, взяв топор, быстро распахнул дверь и шагнул на улицу – а бабушка, опасливо, за ним.
Никого не было.
Корову Марусю едва успокоили.
Дудаев пес так и не ушел до утра – лежал у дверей, не шевелясь, чтоб никто его не заметил.
В ту ночь волки пожрали всех бандеровских собак – их, кажется, оставалось тогда то ли четыре, то ли пять, все некрупные и пушистые.
С тех пор Бандеры собак не держали. Кота завели.
Зато Дудаев кобель стал еще злей – завидев пацана, всякий раз несся на него с бешеным лаем – казалось, что сейчас сшибет с ног и вырвет все кишки наружу. Только за три шага сбавлял бег и смыкал мокрую зубастую пасть и, высоко подняв голову, молча пробегал мимо и спешил дальше, не оглядываясь и задрав твердый, как палка, хвост.
С отцом пес таких забав проделывать не решался, и облаивал его, стоя метрах в тридцати, – зато самым обидным, блеющим каким-то лаем.
Отец шел, будто не обращая внимания, но, обнаружив вдоль дороги камень, резко приседал – и через секунду, сглотнув лай, пес исчезал в ближайших зарослях. Некоторое время отсиживался там, а потом спешил к Дудаеву дому за своей похлебкой.
Дудай приехал в деревню за год до рождения пацана.
Отец все время говорил, что Дудай жил на горе, и пацан иногда пытался представить, как это было. Получалось что-то вроде насыпи, только каменное, – по нему ходит Дудай, только вместо коровы у него козлы с рогами, и брехливый кобель охраняет их.
Пацан выскочил на улицу, заслышав жуткий кошачий крик, – никогда бы не подумал, что коты могут так орать.
– Петуха, бля… – кричал отец, – петуха нашего хотел задрать. Я ж говорил, эта бандеровская сволочь некормленая… Иуда, бля!
«Бля» он произносил как с призвуком «ы», и с плотным «л» – «былля», от этого ругательство звучало тяжелей и весомее.
Пацан присмотрелся и увидел кота с разбитым черепом, вцепившегося передними лапами в забор так, что когти впились на сантиметр. Возле мертвого кота валялась мотыга – неясно было, то ли отец так умело метнул ее, то ли сам нагнал кота у забора и зарубил в ближнем бою.
Петуха пацан заметил, еще когда выбегал из дома, – ошарашенная птица, лишенная хвоста и с окровавленным гребнем, ничего не видя, семеня пьяными ногами и невпопад помогая крыльями, торопилась в сарай.
Там забрался под насесты, в самый угол, и сидел, перемазанный куриным пометом, зажмурившись и тихо дрожа.
Бабушка все боялась взглянуть на кошачий труп и охала.
Отец поднял кота за шиворот и выбросил на дорогу.
Бандера уже приближался, кривя лицо и пристально глядя на кота, будто пытаясь наверняка убедиться, что он подох.
Пацан до сих пор толком не знал, какое у Бандеры лицо – глаза и лоб у него вечно были в тени густых волос, а рот прятался в усах.
Однажды Бандера приснился ему, и пацан точно разглядел его во сне – но потом днем присмотрелся повнимательнее – и понял, что нет – не такой был ночью.
Дойдя до кота, Бандера остановился и, не поднимая глаз, сказал:
– Я завтра твою корову мотыгой порублю.
Отец, стоявший с мотыгой у забора, легко ответил:
– А я тебя.
Бандера потоптался возле кота и сказал:
– Сука.
Отец щетинисто хохотнул:
– Последняя сука – это ты. Ты в собачий ад попадешь. Сколько собак вы порезали – столько тебя и будут грызть.
Бабушка стояла окаменевшая – перечить мужику она не умела никогда, пусть это даже и сын. Она и внуку-то – пацану – тоже ни в чем никогда не перечила, будто раз и навсегда зная о его мужицком превосходстве.
Отец глянул на бабушку, и она поспешила во двор, чтоб не мешать разговору.
Никто и не заметил, как появился Дудай, – на него подняли глаза, только когда его глупый пес зашелся в лае, то подскакивая к забору, то отбегая.
Дудай был черноволос, кривоног, лобаст. Он часто скалился, и казалось, что это от него кобель усвоил такую повадку.
– Ну и я тоже загляну в собачий ад, похоже, – негромко добавил отец и крикнул Дудаю: – Угомони свою сволочь, мозга вскипают!
К пацану Дудай был всегда приветлив, угощал его карамелью. Но с отцом они давно не ладили – Дудай ревновал его к своей жене; может, и недаром – пацан слышал как-то, что бабушка уговаривала отца: «Отвяжись от нее, он же пожжет нас – мусульман». Слово «мусульманин» у нее было короче на слог. Слушая бабушку, пацан отчего-то вспомнил, как сам Дудай, придя в сельмаг, привычно щиплет то одну, то другую оплывшую бабу за всякие места, а те смеются.
– Собака свободный зверь, хочет – лает, – подумав, ответил Дудай отцу, глядя на дохлого кота.
– Ну, как скажешь, – ответил отец и с оттягом метнул мотыгой.
Мотыга была короткая – сделанная под совсем невысокую бабушку.
Кобель, заметил пацан, увиливая от удара, на мгновенье умудрился встать буквой «г» – вывернувшись половиной туловища – но ему все равно досталось деревянным черенком ровно по хребту.
В отчаянье и ужасе пес метнулся и угодил прямо в ноги Бандере, что окончательно разозлило его.
Пацан и не помнил кто и что закричал, как отец очутился посреди дороги и снес Бандере скулу размашистым ударом, но тут же ему куда-то в живот, по-борцовски, бросился Дудай, и отец оказался на земле, головой к своему забору, в не просыхающей даже летом грязной и пахучей луже.
Лужи оставались по всей улице даже в самое жаркое лето, – может, оттого что помойную воду выплескивали прямо от двора.
Отец изловчился подняться, прихватив кровавого кота и тут же швырнул им в Дудая. Но через мгновенье Бандера, боднув отца твердой головой в спину, уронил его в соседнюю лужу.
Усевшись ему на спину, Бандера тыкал отца в самую жижу, будто хотел его досыта накормить.
Расхрабрившись и напрочь ошалев, Дудаев пес вцепился отцу в бедро, и отец, заслоняя одной рукой затылок от мужицких тычков, другой силился дать животному всей пятернею по глазам.
Пацан в ужасе осмотрелся, а потом, ничего уже не думая, схватил полено и бросился на помощь отцу. Следом выбежала из калитки напуганная дикими криками бабушка.
Пацан, не умея как следует размахнуться, тыкал поленом в собаку, отчего та становилась лишь злее. Бабушка, боясь притронуться к любому из мужиков, с причтом становилась то на пути Бандеры, то на пути Дудая. Они стремились оттолкнуть ее и снова достать грязного, как грех, отца сапогом по ребрам, а лучше по голове.
Всех остановил неожиданный железный визг на путях, хорошо видных с дороги. Мужики воззрились на вдруг затормозивший дневной состав.
Такого никогда не было.
Даже Дудаев пес отцепился наконец и, встав неподалеку, начал облизываться.
Отец свез тыльной стороной ладони грязь со лба и с губ.
– Да ни хера мне не будет, – сказал отец.
Бабушка выставила ему на лавку таз с водой и суетилась возле с тряпкой, залитой чем-то пахучим, вроде самогона.
Отец увиливал лицом от тряпки, которой бабушка норовила промокнуть ему бровь и щеку. Морщась, он стягивал штаны и рубаху.
У отца, в который раз заметил пацан, темным было только лицо и треугольник на груди – от выреза рубашки, которую он не снимал все лето. Все остальное белело в полутьме избушки, и на этой белизне особенно жутко смотрелись набухшие синяки и ссадины.
Бедро тоже было прокусано, но, слава богу, не в лохмотья, не мясом настежь, как могло бы показаться по разодранным вдрызг брюкам.
На эту рану отец резко плеснул прямо из склянки, принесенной бабушкой, – и сидел, сцепив зубы, глядя куда-то мимо икон.
Выхлебал ту же склянку в несколько крупных глотков и, зачерпнув ладонью из таза, запил отраву.
В этом же тазу помыл руки, поплескал на лицо, бровь все протекала, и отец прижал ее ладонью, а другой рукой ткнул кнопку радио, всегда стоявшего на подоконнике.
В Москве война, в Москве злоба и коловорот – затрещало радио на все голоса. Москва горит, бьет витрины и пугается ездить в метро. Казалось, что все сидящие в радиоточке норовят выхватить друг у друга микрофон и оттого говорят все быстрее и быстрее.
Ничего не понимая, пацан трижды обошел вокруг стола, пугаясь смотреть в таз, где плавали красные пятна, которые никак не могли полностью раствориться в воде, словно отцовская кровь была очень густа.
Пацан почти беззвучно встал на стул и вытащил буквы, которые прятал за иконами.
Выложил на столе круглое слово из шести букв.
Московские здания, которые теперь стояли в дыму, представлялась ему похожими на эти серебряные буквы – только зданий было не шесть, а тысячи, и все они сияли, огромные, словно зеркала до небес.
Еще Москва была похожа на разукрашенную заводную игрушку. Поезда светились на ней, словно бусы, во лбу горела звезда, все внутри нее стрекотало, гудело, искрилось.
– Сходи к насыпи, – вдруг сказал пацану отец, все время выглядывавший в окошко одним глазом, а второй пряча под рукою. – Посмотри, что там.
Пацан тихо, – будто пугаясь, что отцу больно не только от ссадин, но от любого громкого звука, – вышел на улицу.
…на веревке дрожало стиранное белье – раньше пацан думал, что это скорость налетающего и убегающего состава заставляет трепетать землю, – но вот состав встал, а белье все дрожало…
Он вспомнил, как на него, указывая пальцем, смотрела из окна состава девочка, словно мальчик в траве был чем-то удивительным, вроде зверя.
Почему-то он подумал, что девочка вновь сидит там, в составе. Он вообще был уверен, что в поезде из раза в раз ездят одни и те же люди.
Сейчас, решил пацан, надо найти эту девочку, – и тогда она рассмотрит его и убедится, что он не зверь.
Пацан остановился возле бабушки, которую впервые за семь лет своей жизни увидел ничем не занятой. Бабушка сидела на лавке и смотрела в поле.
Пацан путано сказал ей про состав и про девочку, смотревшую на него, как на зверя.
Бабушка помолчала и еле слышно ответила:
– Все мы тут… Все как… – поднялась и побрела во двор, еле ступая.
С минуту пацан разглядывал пустую улицу – не ходит ли там Бандера.
Наконец, вышел со двора.
Кота уже не было.
Возле Дудаева дома пацан сбавил шаг, ожидая собачьего бреха, – и угадал. Осклабясь, кобель вырвался невесть откуда и, присев на задние лапы, хрипло заорал пацану в колени.
Мальчик так и погиб бы от ужаса, но со двора выбежал Дудай с метлой в руке и, страшно ругаясь, второй раз за день угодил собаке по хребту.
– …иди, не бойся, – сказал Дудай. – Я эту сволочь привяжу.
И побежал, размахивая метлой, куда-то вниз по улице, вослед ошарашенному кобелю.
Из состава под буйное июльское солнце вылезали разнообразные пассажиры.
В первом вагоне почти все почему-то были в пиджаках и с небольшими портфелями, удивился пацан. Зато в других вагонах люди оказались самыми разными, разнообразно и хорошо одетыми, многие с красивыми сумками на колесиках.
Люди, видимо, не понимали, куда идти, – и, чертыхаясь, стремились к концу состава, чтоб не стоять у него на путях.
Там, за составом, пассажиры и выстроились, будто собирались все вместе толкать его.
Пацан спешил вдоль состава туда же, но чуть ниже по насыпи, словно не решаясь спутаться с пассажирами. Он цеплялся за цветы, вырывая стебли.
Кто-то ругался с проводником, и проводник, почти плача, отвечал: «Разве я виноват? При чем тут я?»
Состав был уже совсем пустым – и так странно смотрелись его окна, лишенные человеческих лиц, спин, рук…
Только по одному вагону пробежал очередной испуганный проводник, а по другому шли двое военных, о чем-то разговаривая.
Когда состав закончился, пацан решился забраться чуть выше и заметил в толпе девочку. Та самая, сразу решил он. Тем более что девочка тоже смотрела на пацана, часто моргая.
Пацан, оборвав еще десяток-другой цветов, поднялся к ней.
– Я не зверь, – сказал он.
Девочка кивнула.
– Я Виктор, – добавил он. – Это мое имя.
На пацана смотрели многие пассажиры, хоть от него ожидая вестей – потому что ждать их было больше не от кого. Мобильные у многих не работали. Люди выкрикивали в них отдельные слова и потом снова остервенело тыкали в кнопки.
Кто-то поймал пацана за рукав, он обернулся и увидел сначала живот в белой расползшейся рубахе, а потом огромное, почти красного цвета мужское наклонившееся лицо:
– Ты местный? – спросил мужчина, дыша тяжело и пахуче. – Тут трасса есть?
Пацан молчал.
– Дорога есть? – громко переспросил он.