Трава-мурава (избранное) Абрамов Федор
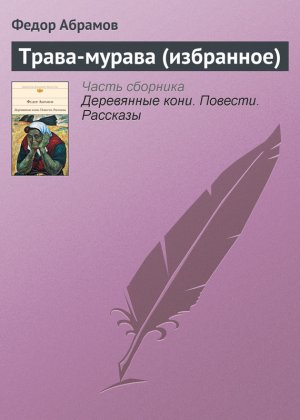
Хжу я по травке, хжу по муравке.
Мне по этой травке ходить не находиться,
Гулять не нагуляться…
Из народной песни
– Травка-муравка что, не знаешь? Да чего знать-то? Глянь под ноги-то. На травке-муравке стоишь. Все, все трава-мурава. Где жизнь, где зелено, там и трава-мурава. Коя кустышком, коя цветочком, а коя и один стебелек, да и тот наполовину ощипан – это уж как бог даст.
Из разговора
I
Памятник
Старая Пахомовна тяжело заболела. Съехались дети, стали утешать, успокаивать: поправишься, мама, а не поправишься, мы такой тебе памятник отгрохаем, какого в нашей деревне еще не видали.
– Нет, ребята, никаких памятников не ставьте, а положите мне на могилу плуг.
– Плуг?
– Плуг. В городах на памятниках про все заслуги покойника пишут, а у меня заслуга одна – плуг. После войны мне в колхозе именной плуг присвоили за то, что я двадцать пять лет бессменно за плугом выходила. А когда я по старости не замогла ходить за плугом, мне тот плуг домой привезли, за сарай поставили. Там он и сейчас стоит.
За сараем, однако, плуга не оказалось.
Дети думали-думали, как быть, и в конце концов привезли от колхозной кузницы какой-то старый, бросовый, порядком проржавевший плуг. Привезли и поставили перед окошком.
Так, глядя в окошко на этот плуг, и отошла старая Пахомовна.
Вкус победы
– Я долго, до восьми лет, хлеб победой называла.
Как сейчас, помню. Бегаем, играем с девочешками возле нашего дома, и вдруг: «Санко, Санко приехал!» А Санко – старший брат Маньки, моей подружки из соседнего дома. Вот мы и чесанули к Маньке.
Солдат. Медали во всю грудь. С каждой за руку здоровается, у каждой спрашивает, как звать, каждую по головке гладит. А потом и говорит: «Я, говорит, Победу вам, девки, привез».
А мы, малоросия, что понимаем? Вылупили на него глаза как баран на ворота. Нам бы Победу-то в брюхо запихать, вот тогда бы до нас дошло.
Ну, догадался Санко, что у нас на уме. Достает из мешка буханку хлеба. «Вот, говорит, девки, так Победа-то выглядит». Да давай эту буханку на всех резать.
Долго я после того капризила. За стол садимся, мама даст кусок, скатанный из моха да картошки, а я в слезы: «Победы хочу…»
Самая высокая награда
В Доме культуры известного на всю область совхоза – вечер встречи тружеников села с писателями.
Секретарь парткома, приветствуя гостей, по обыкновению рассказывает о трудовых подвигах, о лучших людях совхоза и с особой гордостью говорит о четырех сестрах-свинарках.
– Эта наша славная династия свинарок уже много лет занимает передовые рубежи в соцсоревновании. Три сестры отмечены высокими правительственными наградами. У Анны Клементьевны орден Трудового Красного Знамени (аплодисменты в зале), у Марии Клементьевны орден Октябрьской Революции (аплодисменты в зале), а у Валентины Клементьевны, самой младшей из сестер, орден Ленина. И будем надеяться, это не предел (аплодисменты в зале).
Секретарь на какое-то мгновение умолк, затем смущенно пожал плечами.
– Ну а что касается самой старшей сестры – Матрены Клементьевны, то она никаких орденов и медалей не имеет, потому как в те времена у нас был еще колхоз…
Неловкая пауза.
– Но, товарищи, – звонко, с энтузиазмом воскликнул секретарь, – Матрена Клементьевна, я считаю, награждена у нас самой высокой наградой – любовью народной и народным уважением.
Зал взрывается ликующими аплодисментами.
Сказка
Идем с Марьей Ивановной по Волоку. Деревенька (с детства знаю) за эти годы изрядно потускнела – ни единой новой постройки, но молодняка полно – рослого, волосатого, разодетого по последней моде.
– Отпускники? – спрашиваю.
– А всякие есть. Есть и отпускники, и из города, и свои, деревенские тунеядцы. Страда, бывало, об эту пору стар и мал на пожне, а тут стадо жеребцов да кобыл целыми днями по деревне шатается. Не знаю, не знаю, что за времена настали. Мне, старому человеку, хуже смерти это видеть, ей-богу.
Так, за разговором, мы с Марьей Ивановной дошли до верхнего конца, и тут вдруг замечаю: суровое, мрачное лицо старухи светлеет. Да и я сам, глянув вниз, под гору, на пожню, начинаю улыбаться. Ибо то, что я увидел там, походило на позабытую сказку из 30-40-х годов. Низенький, утоптавшийся старик с косой, а за ним пять ребятишек. И все с косками – так и сверкают на солнце лезвия.
– Егор Васильевич со своими внуками. Мать у ребят три года назад умерла, самому старшему десять было, а самой малой – четыре. И отца нету – еще раньше матери себя нарушил. Спился. Как жить? Ну, ноне не старое время – детдома есть. Власти сами приехали за ребятами. А старший и говорит деду:
«Дедушко, говорит, не отдавай нас в детдом, мы потом тебя не забудем».
«Да как же в детдом не отдавать вас? Много ли дедушко с бабушкой получают – по двадцать рублей пензия. Разве нам прожить, дитятко, всемером на сорок рублей?»
А Толька – Анатолием старшего-то зовут – все уж подсчитал:
«За нас, говорит, дедушко, государство деньги платить будет (не знаю сколько, чуть ли не восемьдесят рублей за пятерых-то получают). Да мы, говорит (это Минька-то), будем прирабатывать».
И вот прирабатывают. Кажное лето с дедом на покос выходят. Весь день с утра до вечера косешками размахивают. И я кажный день хожу сюда, на их радоваться. Да, слаще мне всякой еды, всякого питья видеть вот такие виды. Сама, бывало, семи лет косу в руки взяла и люблю, когда люди работают.
Ну эти дети, – Марья Ивановна кивнула под гору, – вообще наособицу. Не знаю, откуда такие-то и берутся. Работящие – это уж ясно, не на кого надеяться. Да ведь они еще гордые. Да, такие гордецы, что я не знаю, как и сказать.
Пошли в школу. После смерти матери. Ну власти им облегченье: не платить за питанье. В интернат на все готовенькое. Дак что ты думаешь? Отказались.
«Дедушко, говорят, ты дай нам хоть сколько-нибудь денег. Хоть по десять копеек на брата (тридцать копеек стоит питанье в школе), а то нам стыдно не платить-то».
Дед только руками развел:
«Да какой стыд! Вы ведь сироты. А сиротам век подают».
«Нет, не хотим быть сиротами. Хотим, как все».
И вот настояли. Дед по десять копеек платит.
1981
Мартынов туес
Мартыну – девяносто пять лет. Но еще баню строит.
Племянник просит:
– Дядя, сделай-ко мне туес тисненый.
Сутки сидел, думал. Сперва узоры вырезал, печати сделал. (На каждый рисунок вырезается из вереска печатка. И той печаткой отбивается узор на бересте, на туесе.) Туес сделал с узорами от верха до донышка.
– Дядя, что это за узоры?
– Это, сверху, северное сияние. А дальше планеты и звезды, а дальше земля и леса. Тетеры сидят, и полет гусей. А совсем внизу ягоды, и олени бегут. А в лесу-то охотники, тетеру бьют. А рядом-то медведи.
В одном туесе вся вселенная. Весь мир северного крестьянина на одном туесе.
А как выбирает дерево для туеса.
Два дня искали березу. Наконец кричит:
– Федюха, смотри-ко… Двести лет росла, да молодой осталась. Такую потом хоть об угол хвощи – все равно сто лет простоит.
Искал такую березу, чтобы была не суховата, да не суковата, да не слоевата. Чтобы сук не был и полусук не был.
Расчищенный заулок
Хозяина, бывало, узнаешь по расчищенному заулку. У бедняка, как правило, от крыльца до дороги – вброд.
А у настоящего крестьянина – засмотришься. Особенно у Ивана Гавриловича. Сам разгребет, да еще дочери с метлами пройдутся.
Иван Гаврилович приговаривал:
– На молитву да красоту время не жалейте.
II
Хлебная корка
Матрена Васильевна вконец измаялась с сыном. Жизни не рада стала. Пьет, по неделям нигде не работает (корми, мать, на свою колхозную пенсию сорокалетнего мужика!), да еще постоянно пьяные скандалы дома, так что обе дочери уже два года не ездят к матери. Натрез сказали: либо мы, либо он. Выбирай!
И то же самое ей говорили соседки. Что ты, Матреха! До каких пор будешь мучиться? Гони ты его, дьявола, раз в ем ничего человеческого нету.
И Матрена Васильевна соглашалась и с дочерьми, и с соседками. И иной раз, доведенная до полного отчаяния, она уж готова была бежать в сельсовет (председатель давно сказал: заберем, дай только сигнал!), потом вдруг вспомнит войну – и пропала решимость: в войну ее да девок, можно сказать, Пашка от голодной смерти спас.
У Пашки долго, до пяти лет, не поворачивался язык на слово (и теперь немтуном ругают), и вот за это-то, видно, его и жалела Анна, сельповская пекариха: два года подкармливала ребенка. Все какой-нибудь хлебный мякиш или корку сунет: они-то забыли, как и хлеб настоящий пахнет.
И вот что бы сделал всякий ребенок на месте Пашки с этим мякишем, с этой коркой? В рот, в брюхо скорей – там собаки от голода воют.
А Пашка ни крошки не съест один. До самого вечера терпит, до тех пор, пока мать с работы не вернется. Да мало того: этот мякиш, эту корку разделит на четыре части.
– Что ты, Пашка, сам-то ешь да девок угости. А я-то не маленькая.
Не будет есть. До тех пор не будет, пока мать не съест свое. Плачет да ручонкой тычет (слова-то выговорить не может): ешь, ешь.
И вот через эту-то Пашкину доброту, может, они все и спаслись в войну. Так как же ей гнать его из дома?
Слово помогло
У Павлы Северьяновны утренний аврал: полдевятого, через полчаса за прилавок в белом халате вставать (в ларьке торгует), а у нее вся кухня дыбом, и сама еще не одета.
– С отцом сегодня долго проканителилась, – оправдывается она. – Вчера, вишь, зарплату давали, часы на улице потерял – искала, да самого по частям складывала, по всей деревне опохмелку разыскивала – тоже время надо.
– А дочери?
– А дочери еще спят. Не смею будить-то. Не свои, живо люди оговорят. – Северьяновна вышла за вдовца, у которого, кроме старшего сына, живущего отдельно, своим домом, были еще две дочери, две крупнотелые девицы-школьницы.
Я рассвирепел. Я в такую работу взял ее (осточертела эта нынешняя возня с деточками!), что забыл даже про стамеску, за которой приходил. Вспомнил, когда уже из заулка выбегал.
Дней через десять встречаю Северьяновну на улице – цветет.
– Ты заговорил у меня девок-то, что ли? Ведь они как шелковы стали. Я нахвалиться не могу.
– Вот и ладно.
– Да уж чего лучше. Ты выбежал тогда от нас, дверями хлопнул, они заглядывают с другой половины: «Чего это, мама, писатель-то психует?» Так и сказали – что будешь врать. Меня, говорю, ругал. За то ругал, что с вами распустилась. И вот – чудо. На обед прихожу, у меня все дома прибрано, намыто, чайник горячий на столе меня дожидается. А назавтра-то утром встала – они обе у меня на ногах: «Мама, что нам делать?» Подменил, подменил ты у меня девок.
Родничок
Кто сегодня поет старинные русские песни? Старые деревенские старухи да участники всевозможных самодеятельных коллективов.
А тут на сцену – был смотр художественной самодеятельности Северо-Запада – вышел нестеровский отрок, ясноглазый, светлоголовый, в белой расшитой рубашке с вязаным пояском, и давай петь одну за другой полузабытые старинные песни.
Голос у Васи Назымова – так звали полюбившегося всем паренька – был несильный, но чистоты удивительной – казалось, полевой жаворонок вдруг запел под высокими сводами зала.
В перерыв Васю Назымова обступили со всех сторон. Кто? Откуда? Как пришел к народной песне? У кого учился?
И так же просто и скромно, как пел, Вася Назымов отвечал: киномеханик с Мезени. Живу в родной деревне. Петь научился у бабушки, возле которой рос с братом.
Васю Назымова пригласили петь сразу три известных народных хора. Но он отказался.
– Не, – сказал Вася, – к себе на Мезень поеду. Я Мезень люблю.
И уехал.
Через год я специально навел справки: где Вася Назымов?
На своей Мезени. Все так же работает киномехаником и поет в сельском хоре.
Надежда и страх
Старуха долго болела и однажды почувствовала, что не сегодня завтра умрет.
Небывалая радость охватила ее, но и страх. Радость оттого, что скоро в загробном мире – старуха была верующая – встретится с мужем, которого сорок лет назад молодым убили на войне, а страх оттого, что как встретит ее муж? Признает ли? Не отвернется ли он, молодой, от нее, старухи?
И старуха приказала дочери:
– В амбаре платье красное на дне лукошка лежит, как умру – в него оденьте.
– Что ты, мама, разве старух обряжают в красные платья?
– Ничего, с отцом там встречусь, может, так не признает – вся высохла да остарела, дак хоть по платью признает. Я в этом платье в день нашей свадьбы была. Все голодовки, все ужасти пережила, а его не продала.
1981
Когда с Богом на «ты»
Поля Манухина привела к своей бабушке жениха, учителя средней школы, знакомиться.
Бабушка приняла жениха любимой внучки с открытой душой, по всем правилам северного гостеприимства. Все, что в доме есть, даже бутылочку, на стол выставила. Одно не понравилось Поле: бабушка с первых же слов стала называть жениха на «ты». Поля терпела-терпела да и решилась наконец.
– Бабушка, Виктор Викторович, – она нарочно назвала жениха по имени и отчеству, чтобы посильнее пронять бабушку, – из города, а в городе не принято людей с первого раза называть на «ты».
– Ничего, – ответила бабушка, – стерпит. Я с малых лет с самим господом богом разговариваю на «ты», дак уж с человеком-то, думаю, можно.
III
Пляс с ладошки
– Хор Пятницкого… Ансамбль… Игорь Моисеев… А скакуны против бывалошного, вот что я тебе скажу, блохи на двух ногах. Могут они с ладошки девку в пляс пустить?
– Как это с ладошки?
– А вот так. Соревнованье. Кто кого. Кто позаковыристей да поинтересней гвоздь забьет. Микша Ряхин забил.
Подзывает это Маньку Егора Павловича, та уж всяко в девки выходила, раз на гулянье пришла. «А ну-ко, Маня, встань ко мне на ладонь (понятно, ладонь была подходяща) да сойди в пляс с ладошки».
Сошла. А ежели не веришь, поезжай к нам в деревню – она еще жива, Манька-то.
Стройное место
Красоту ландшафта на Руси создавали веками. Для деревни, для монастыря и церкви специально выбирали места, а если не находилось подходящего стройного места (название-то какое!), делали сами. Так был насыпан в свое время холм для церкви в селе Бронницы на Новгородчине. И затраты окупились. Красиво, как невеста непорочная, стоит на зеленом возвышении церковь. Один вид ее вызывает прилив сил. А что должен был испытывать верующий человек, поднимаясь на холм!
– А как на небо восходили, – рассказывает ветхая старушонка, с ввалившимся ртом, с клюкой в руках. – Голубушка наша нерукотворная. Николай-чудотворец гору насыпал. Один але с анделами со своима. Так отцы наши сказывали. Так и зовется: Николай-чудотворец. Раньше и вода на горе была. Взойдешь да лицо обмоешь – как заново на свет родишься, как глаза прорежутся. Так вся божья красота и откроется тебе.
На страду с того света
Который уже раз снится все один и тот же сон: с того света возвращается брат Михаил. Возвращается в страду, чтобы помочь своим и колхозу с заготовкой сена.
Это невероятно, невероятно даже во сне, и я даже во сне удивляюсь:
– Да как же тебя отпустили? Ведь оттуда, как земля стоит, еще никто не возвращался.
– Худо просят. А ежели хорошенько попросить, отпустят.
И я верю брату. У него был особый дар на ласковое слово. Да и сено для него, мученика послевоенного лихолетья, было – все. Ведь он и умер-то оттого, что, вернувшись по весне из больницы, отправился трушничать, то есть собирать по оттаявшим дорогам сенную труху, и простудился.
Откуда в дом пришло счастье
Соня Алымова и Генка Коршин поженились по любви: в школе еще дружили.
Родители, не чаявшие души в детях, отгрохали молодым новый дом: живите да радуйтесь.
Но совместная жизнь у Сони и Генки не сложилась, и они, не прожив в новом доме и двух месяцев, разлетелись по родительским гнездам.
Семейное счастье увидел новый дом лишь через год.
– Поумнели немножко, вот и зажили, как люди, – говорила Анна Исаевна, мать Сони.
А старая бабка, та давала свое объяснение:
– Ленинградцы в дом счастье принесли.
– Это те, туристы-то, что ли?
– Ну.
– Да, да, – вся оживилась Анна Петровна, – жили у нас летом туристы. Приехали за тысячу верст, а сами как на прогулку вышли: с рюкзачками за спинкой, в одних рубашках. Даже худенького пиджачонка у парня-то нету. Ко мне обращается: у вас, говорят, дом пустует, нельзя ли нам две недельки пожить? Живите, говорю.
Да они в дом-то зашли, да дом-то у нас взыграл. Ей-богу, сколько месяцев стоял, как покойник с занавешенными окошками, а тут… ну просто улыбается, как человек. Всеми окошками улыбается.
И Анна Петровна, подумав, заключила:
– Кто знает, бабка, может, ты и права. Может, те туристы в дом счастье принесли. Недаром у людей-то сказано: счастье на счастье настраивает.
IV
Мать и сын
Матери – девяносто пятый, сыну – семьдесят шестой.
– Опять ты, парень, пьяный. Когда только и образумишься.
– Какой я тебе парень? Старик я, помирать надо.
– Не заговаривай, не заговаривай зубы-то. Знаю, что у тебя на уме. Это ведь ты к моей пензии опять подбираешься.
1981
Колькина любовь
На пятнадцать лет Тонька старше Николая. Все думали – быстро разойдутся.
Мужики спрашивают Кольку:
– Дак долго ли еще, Николай, будешь канителиться с Тонькой?
– А до тех пор, пока не прогонит.
– А мы думали, пока ты ее не прогонишь.
– Нет, я не прогоню. Что вы, мужики, я тридцать лет прожил и жизни не видел. С Тонькой только свет увидел.
Тонька – чистюля, пекариха – испечь, сварить, кто лучше? А Колька что видел? Гулящая мать. Всухомятку ел. Женился – жена больная.
Мужики по старинной привычке окликают Кольку, когда тот возвращается с работы:
– Николай, приворачивай.
– Нет, нет, мужики, я домой, домой…
– Да что дома-то делать?
– По Тоньке соскучился. Я ведь с утра, как ушел на работу, не видел ее…
V
Офимьин хлебец
– Справедливости на земле нету. Бог одной буханкой всех людей накормил – сколько молитв, сколько поклонов. Я еще маленькой была, отец Христофор с амвона пел: и возблагодариша господа нашего, единым хлебом накормиша нас… А про меня чего не поют? Я не раз, не два свою деревню выручала. Всю войну кормила. Мохом.
Раз стала высаживать из коробки капустную рассаду на мох. Смотрю: ох какой хорошенькой мошок! Чистенькой, беленькой. А дай-ко я его высушу да смелю. Высушила, смолола. Ну мука! Крупчатка! В квашню засыпала, развела, назавтра замесила (мучки живой, ячменной горсть была), по сковородкам разлила – эх, красота!
Ладно. В обед, на пожне, достаю, ем – села на самое видное место. Женки глаза выпучили – глазами мои хлебы едят. «Офима, что это?» – «А это, говорю, мука пшенична моей выработки». Дала попробовать – эх, хорошо! «Где взяла? Где достала?» – «На болоте». Назавтре все моховиков напекли – ну не те. Скус не тот. Опять: сказывай, где мох брала. Я отвела место на болоте – всю войну не знали горя. Уродило не уродило – мы сыты.
Думаешь, мне благодарность была? Спасибо сказали? Тепере-ка клянут. У всех желудки больны. От Офимьиного хлебца, говорят. От моха.
Урок воспитания
Мясную проблему в Турье, маленькой, глухой деревеньке возле озерка, решали кто как мог: кто заводил у себя животину, кто расширял и укреплял контакты с ближайшими лесопунктами, которые в любое время снабжаются по первой категории, кто обращался в вегетарианскую веру, а кто и – Васька-туник, например, – обзавелся ружьем: сперва перебил в деревне и окрестностях птицу мира, благо ее за мирное время расплодилось немало, а потом принялся и за уток, которые с незапамятных времен гнездились в озерке.
Первым выстрелом Васька свалил сразу пять уток – кучно, безбоязненно утки жили, всей флотилией плавали, а второго сделать не успел, ибо в ту минуту, когда он перезаряжал свое старенькое ружьишко, как из-под земли вырос Ванька Каин, в прошлом году осужденный на пятилетнее заключение, и придавил ногой дробовик.
– Раздевайся! – скомандовал.
– Зачем?
– Раздевайся, говорю, да лезь в озеро.
И что делать, полез Васька в озеро, потому как с Ванькой Каином шутки плохи: раз уже сидел за убийство, что ему стоит и второй раз кровь человеческую пустить.
– Ну а теперь крякай! – опять скомандовал Ванька.
Васька захлопал глазами.
– Крякай, говорю! Заместо уток крякай, которых убил. – И Ванька Каин взял в руки Васькино ружье.
Васька три часа сряду крякал да потом по команде того же Ваньки, весь посиневший от холода (в сентябре дело было), часа два охрипшим голосом кричал, взывая о помощи.
Но никто из земляков не откликнулся на призыв Васьки. Даже его жена не вышла из дому.
1981
Колдунья
– Евгения Васильевна, а вы знаете, что вас колдуньей люди зовут?
Евгения Васильевна, директор совхоза, молодо смеется – целый забор белых зубов вырастает во рту.
– Знаю. Это все с того женского дня пошло. Решили мы – я тогда еще управляющей отделения работала – праздник Восьмого марта отмечать. А как отмечать? Попросить, чтобы докладчика из района прислали? Нет, думаю. Я, человек закаленный, на докладах засыпаю, а придут доярки с коровника – уж их подавно укачает. Коллективный храп вместо праздника не годится. А дай-ка, говорю себе, я вечер исполнения желаний устрою…
«Марья Павловна, загадайте самое заветное желание, и мы его сейчас же исполним. Как в сказке».
Бабы ахают, дивятся потом, как я угадала, кто чего хочет. А чего дивиться-то? Так уж много мы, бабы, хотим? Незамужние – выйти замуж, у которой муж пьяница – чтобы перестал пить, мать – один-единственный сын, да и тот на стороне, сына поскорее увидеть. А еще чего?
Ну я тогда все-таки переборщила. Аксинью Подорину до обморока довела. Лучшая доярка в отделении, золото человек, а в последнее время начала прибаливать, да и прибаливать крепко, и уж ей-то мне хотелось, как никому, радость доставить. А был у нее в армии сын – один-единственный, она мать-одиночка, и вот я в часть обратилась: так и так, дорогие товарищи, в день Восьмого марта хотела бы порадовать нашу лучшую доярку – нельзя ли отпустить сына на два-три дня.
И вот, когда дошла очередь до Аксиньи Подориной, я и брякаю на весь зал:
«Аксинья Яковлевна, скажите нам ваше самое-самое заветное желание на сегодня, и мы постараемся его исполнить».
«Нет, – машет рукой, – моего желания вам не исполнить. Не можете вы сыночка моего хоть на часик из армии прислать».
«Можем, – говорю опять на весь зал. – Будет вам сын. Музыка!»
И тут заиграла музыка, и на сцену строевым шагом выходит Иван, Аксиньин сын.
Я нарочно уговорила парня до вечера к матери не показываться.
В зале все только ахнули: чудо! Чудо, да и только. Ну а сама Аксинья Подорина в первом ряду сидела, руками всплеснула да так и хлопнулась на пол. Едва отводились.
1981
О чем думал Женька перед смертью
Женьку Ларичева, молодого механизатора, после работы зазвал к себе сосед, выставил на стол бутылку: пей!
– Это в честь чего же? – спросил Женька.
– А в честь храбрости. На Фалькин ручей поедем.






