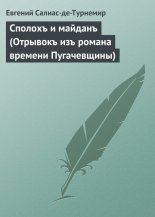Сосновые дети Абрамов Федор

Федор Александрович Абрамов
Сосновые дети
1
Мы ехали молча. Шофер, сцепив зубы, со злостью выворачивал баранку. Дорога, вдрызг разбитая, размятая бульдозером, шла свежей гарью. Черный пал с обгорелыми соснами еще дымился, и в кабине лесовоза было жарко и душно.
В то лето, необыкновенно засушливое, полыхавшее сухими грозами, Пинегу замучили пожары. На лесопунктах срывались планы. Люди, грязные, изможденные, не спавшие по суткам, валились с ног. Мой шофер тоже только что вернулся с пожара. И уж он не церемонился со мной. «Ах, тебе захотелось в Шушу! Не мог подождать, пока я отосплюсь. Ну так получай!»
Я качался, как на качелях, подскакивал, бился о дверцу. Но вот кончилась дымная гарь. Машина выехала к Шуше – веселой порожистой речке в красных крутых берегах с зелеными лиственницами, и шофер, то ли сжалившись надо мной, то ли сам устав от тряски, сказал:
– До-ро-жка…
Я охотно поддержал его: где-где, а уж у себя под боком лесопункт мог бы иметь дорогу получше. Не тут-то было! Шофер неожиданно повернул на сто восемьдесят градусов:
– А за каким она лядом! В Шуше лес-то когда заготовляли? А у нас и рабочие-то дороги… матом выстланы. Понял?
Пожарище осталось позади. Дышать стало легче. Высокие сосны с курчавыми макушками заслонили солнце. А потом снова пекло. Ни лесинки, ни кустика. Только пни. Бесконечная россыпь свежих лобастых пней. Злое солнце плясало на их желтых, заплывших смолой срезах, и казалось, тысячи прожекторов бьют тебе в глаза.
Все это было так дико, так чудовищно – вырубить лес возле самой реки! – что я невольно посмотрел на шофера, ища у него сочувствия.
Шофер даже бровью не повел.
– Да кто это догадался? – не выдержал я.
– Кто? – Шофер усмехнулся, сверкнув металлическим зубом. – Кто… А план-то выполнять надо? Зима в нынешнем году, считай, до января к нам попасть не могла – одна слякоть, а потом как зарядили метели… Ну-ко, попробуй лес возить за двадцать километров! А люди? Им исть-пить надо? А кубиков нема – и грошей нема. Так у нас… Ясное дело, без штрафа не обошлось. Дробышеву, начальнику лесопункта, дали прикурить. Ну, а потом, как лесопункт план перевыполнил, другое запели. Тот же самый леспромхоз премию отвалил. Получай – раз план перевыполнил…
Под колесами запрыгали, прогибаясь, мостовины-кругляши, перекинутые через пересохший ручей. Машина с воем поползла в пригорок. На пригорке стоял столб с вывеской: «Шушольское лесничество», а еще подальше, почти у самого леса, вдоль дороги было выложено белым известняком: «Миру – мир!»
– Гошка Чарнасов забавляется, – скривил запекшиеся губы шофер. – В газетах хоть нас, грешных, агитируют, а тут кого? Сосны. А все от дурости. Потому что у лесника какая работа? Зимой лежка, и летом тоже пот не прошибет. Пройтись там раз в неделю по лесу да у речки покемарить…
Он помолчал немного и вдруг неожиданно заключил:
– Сука человек!
– Это почему же? – спросил я не сразу.
– Почему? А наверно, потому, что практику в лагерях прошел. Он, гад, лося зверю скормит, а человека не выручит.
– Но ведь лося бить нельзя. Есть закон.
Под красными, обожженными скулами у шофера заходили желваки.
– Закон, говоришь… А в магазинах ни хрена – это тоже закон? Какие-то там очковтиратели наврали, а наш брат рабочий расплачивайся своим брюхом. Попробуй поишачь каждый день без смазки. Закон… А сколько этого лося волк давит, подсчитали? По лесу идешь, как по кладбищу. Нет, мы лучше волку скормим, а человек не смей. Закон это?
Я промолчал. И тогда шофер, окинув меня быстрым и подозрительным взглядом, спросил:
– Да вы сами-то кто? Начальство Гошкино? А может, родня?
Я не знал, что и сказать. Признаться, что мы с Игорем старые друзья и что я еду к нему в гости? Но друзья ли мы? Двадцать пять лет мы не виделись друг с дружкой. Четверть века… Не зря ли я затеял эту поездку? Сумеем ли мы преодолеть разделяющий нас поток времени?
Игорю шел шестнадцатый год, когда он выкрал револьвер у отца и бежал из дому. Рассказывали, что в какой-то деревне он ограбил сберкассу, потом будто видели его в Архангельске, потом прошел слух, что он уже на Кавказе, – в общем, загулял мальчик…
О самом Игоре у нас не горевали – с малых лет бандюгой рос, туда ему и дорога! – а вот отца его жалели.
Это был удивительный человек. Увидишь, бывало, его зимой на улице, высокого, худого, как жердь, крупно вышагивающего в длинной кавалерийской шинели и черной косматой папахе, которая чуть ли не вровень с крышами, и замрешь от страха и восхищения. Скрипят, визжат сапоги на морозе (Антон Исаакович в самые лютые морозы ходил в сапогах), что-то вроде ветра, бури надвигается на тебя, и ты по-пионерски вздрагивающей рукой салютуешь красному партизану. Но Антон Исаакович не замечает тебя. Глаза его, какие-то неземные, полыхающие, устремлены вдаль…
Самой большой страстью Антона Исааковича были революционные праздники. Ни одно здание в деревне – ни сельсовет, ни школа, ни нардом – не украшалось так красочно, как его почта. Тут ему не было равных. Антон Исаакович еще задолго до Первого мая и Октябрьской годовщины начинал закупать керосин (тогда давали его по спискам), красить белые лоскутья и простыни, обтягивать красной материей фанерные ящики. Бабы в эти дни лишались сна и покоя: «Спалит! Всю деревню спалит. Только один пожар и на уме».
И вот наступал долгожданный вечер. На здании почты – бывшем поповском доме – вспыхивали огненные транспаранты. Их отсветы, как северное сияние, рассыпались по небу. И мы, мальчишки, загипнотизированные страстными, хватающими за сердце призывами: «Да здравствует мировой пожар Октября!», «Смерть буржуазной гидре!» – часами простаивали около почты…
…Машина вдруг резко остановилась. Я и не заметил, как мы выехали из леса.
– Вот что, друг, – сказал шофер, избегая встречаться со мной глазами, – тут до Чарнасова рукой подать. Видишь вон домину под красной щельей, с садом, как у помещика? К нему и правь. А мне еще дровишек пособирать надо.
Громоздкий, мохнатый от пыли «МАЗ» развернулся и с грохотом стал удаляться.
Я остался один.
2
Шуша – старый заброшенный поселок, каких немало встречается в северных лесах. Пять-шесть бараков, осевших, скособочившихся, с черными провалами окон, из которых торчит трава, уныло доживают свои дни на солнцепеке у речки. За речкой – красная щелья с дрожащими в мареве березками, а по эту сторону – вырубки. На километр, на два тянутся заросли иван-чая и шиповника. И ни единого стоящего дерева!
Тем отрадней в этой лесной пустыне видеть жилой дом с зеленой гривой молодых топольков, задорно искрящихся на солнце. Дом стоял несколько в стороне от бараков, такой же приземистый, неуклюжий, грубой, на скорую руку, кладки, но выгодно отличающийся от них своей молодцеватостью: стены тут и там подновлены свежими лесинами, окна покрашены белилами, а маленькое светлое крылечко сбоку, под навесом, еще пахло смолой.
Двери в сени и в комнату были раскрыты настежь. Я поднялся на крыльцо, миновал просторные сени и… Что за чудеса? Куда я попал? Огромное помещение – не то сарай, не то зал – и всюду березовые кусты. Кусты вдоль стен, от пола до потолка, кусты в простенках между окнами и даже самые окна наполовину заставлены кустами. Из окон тянуло сквознячком, и листья на кустах шевелились, как на воле.
Однако, осмотревшись, я стал замечать признаки человеческого жилья. Направо от двери, у окна, единственного на этой стене, стоял стол с тремя некрашеными табуретками. Напротив стола, прикрытая кустами, белела массивная печь. Потом у дальней стены, погруженной в зеленый сумрак, я разглядел ситцевую занавеску – там, очевидно, спали…
С улицы, запыхавшись, вбежала босоногая, светловолосая женщина в белом платье. Это была Наташа, жена Игоря.
– Вот как гостя встречаем! Пришел, и дома никого. Ну, сами виноваты – не надо было обманывать. Мы ждем, ждем, целую неделю ждали, а сегодня я не выдержала – с утра Игоря в лес прогнала. Сколько же, говорю, ждать? Кругом пожары…
Все это Наташа выпалила единым духом, как будто мы с ней были старые-старые знакомые, а затем, шурша босыми ногами по веткам березы, разбросанным по полу, прошла к окнам, раздвинула кусты. В комнату хлынуло солнце.
– Это зверюшник-то мы от жары устроили. Все лето в кустах живем. Окна-то вон какие. Как ворота. Тут раньше пекарня была.
Вдруг из березок, которыми была прикрыта ситцевая занавеска, что-то прыгнуло и шлепнуло на пол – я даже вздрогнул от неожиданности. Заяц! Серый лопоухий заяц с подергивающимися губами.
Наташа с притворной сердитостью затопала ногой:
– Васька-дурак! Опять на постели валялся. – Заяц юркнул в кусты.
Наташа рассмеялась, повернула ко мне круглое, очень милое и простодушное лицо с большими темными глазами.
– Это заяц-то у нас с прошлого лета, – сказала она, внимательно приглядываясь ко мне. – Игорь в лесу нашел. Маленький, хромыкает, говорит, по полянке, – лиса или кто другой хватил. Да он, дурак, прижился – не прогонишь. А зимой белый-белый, как снег…
Наташа предложила мне на выбор – чай пить или в бане сначала помыться с дороги – «баня у нас светлая, чистая», но я сказал, что лучше подождать Игоря, тем более что, по ее словам, он вот-вот должен быть.
Мы сели к столу. Наташа, заслонив рукой лицо от солнца и по-прежнему присматриваясь ко мне, спросила:
– Как же это вы подъехали, я даже не слыхала? Стираю у реки белье и вдруг вижу, какой-то дяденька стоит у крыльца. Я-то, правда, сразу догадалась, что за человек.
Я рассказал, как добирался до Шуши.
– Вот оно что, – сказала Наташа и нахмурила брови. – Это с Пронькой Силиным вы ехали. Бесстыжая рожа, небось, побоялся сюда подъехать. Я бы ему сказала… Первый браконьерщик он тут в лесопункте. Нынче зимой такого быка свалил, вон рога-то – от того лося, – она указала рукой на стену. – Вот и злится теперь. Как напьется, так и кричит на весь лесопункт: «Я, говорит, из-за Гошки штраф заплатил, а Гошка жизнью мне заплатит…»
Наташа поглядела в окно.
– Не знаю, где он запропал. Ушел с утра, и без хлеба… Вам, может, отдохнуть с дороги? А то хотите ягод? У нас малина в садике ранняя, на некоторых кустах уже поспела.
Жара все еще не спала. Тугой знойный воздух переливался над огородиком, в котором, зарывшись в картофельную ботву, дремала белая коза. От речки тянуло смородиной, и там, в кустах, как глаз совы, полыхало низенькое оконце бани.
Садик, сонно лепетавший тополиной листвой, примыкал к глухой стене дома с летней стороны. В отличие от огородика он был обнесен частой плетеной изгородью, калитка сбита из мелкой, гладко выструганной доски – словом, садик был в почете у хозяев. Но вот я перешагнул за калитку и прямо-таки ахнул. Маленькие подрумяненные клены, желтая акация, сирень нескольких сортов, жасмин, барбарис, боярышник, бузина… А что это? Яблоньки… Вишенки. У нас, на Пинеге, чуть ли не под самым Полярным кругом!
Наташу, казалось, не тронули мои восторги.
– Подумаешь, – сказала она с некоторым вызовом. – Кусты-то каждый посадить может. А вот я что вам покажу…
Осторожно раздвигая руками малинник, густо осыпанный крупной, кое-где уже покрасневшей ягодой, она повела меня в дальний угол садика.
– Узнаете?
Я сперва ничего не заметил, кроме тоненьких играющих на солнце топольков, а потом, вдруг почувствовав нежный смолистый аромат, повернул голову налево к плетню. Кедрачи! Иссиня-черные, длинноиглые, по-медвежьи угрюмые и неприветливые.
Наташа потрепала ближайшего крепыша.
– Ох и капризное дерево! Ну повозились же мы с ним. Туго растет – даром что, как сосна, ершистое.
Она на секунду задумалась, а потом вдруг застенчиво – даже краска выступила на ее бледных щеках – улыбнулась:
– Он меня этими-то кедрачами и взял.
– Кто? – не понял я.
– Кто? Игорь. Разве бы я за такого гопника пошла? Из лагеря вернулся, никто глядеть-то на него не хотел – старый да страшный. А я что – против него совсем девчонка была. Мне еще восемнадцати не было. Да тут вот эти дьяволята под руку подвернулись… – Наташа, улыбаясь, опять потрепала верхушку кедрача. – Ей-богу. Еду как-то осенью на пароходе. Народу много. И он, суженый-то мой, едет. Я, конечно, и не гляжу на него. У меня и думушки о нем нет. Мало ли гопников на свете ездит. А потом смотрю: чего он все в корзину заглядывает? Корзина большущая, у ног стоит, пологом прикрыта. Думаю, может, зверят каких везет – лесник. Интересно. Ну и когда он куда-то вышел, я раз к этой корзине. Тьфу ты, господи! Сосны маленькие. Вот, думаю, совсем мужик спятил. Мало у нас сосен в лесу, так он еще откуда-то со стороны везет. А Нюра Канашева, учительница, со мной ехала. «Нет, говорит, Наташа, это не сосны, это кедры». Да эти кедры мне по ночам стали сниться. Ей-богу! Всю зиму снились. Ну а весной, когда снег стаял, я и побежала с лесопункта в Шушу. Кедры смотреть. За тридцать километров! Вот какая глупая была. – Наташа, закусив губу, покачала головой. – Было у нас делов-то! Мама узнала, что я с гопником старым связалась, – в слезы. Брат приезжал за мной. А на лесопункте-то сколько разговоров было!.. Ладно, – сказала она, резко обрывая себя, – клюйте ягоды. А мне надо белье развесить да козу прибрать.
3
Наташа давно уже развесила белье, подоила козу и даже переоделась в новое платье. Я сходил на речку, выкупался. А Игоря все не было.
– Не знаю, разве из ружья выстрелить, – уже не первый раз заговаривала Наташа, с тревогой поглядывая на меня.
Мы сидели на крыльце и смотрели за речку, на тропу в косогоре. Тропа, карабкаясь по красным, теперь потемневшим рухлякам, переваливала за вершину горы и терялась в мелком березняке. Оттуда, из этого березняка, и должен появиться, по словам Наташи, Игорь.
Солнце уже садилось. Мягкий золотистый свет заливал крыльцо. Наконец-то немного посвежело. Онемевшая, измученная за день природа начала оживать на глазах. В лощине у речки запосвистывали зуйки, выпорхнула откуда-то стайка резвых ласточек и, конечно уж, не заставил себя ждать гроза севера – комар…
Чуткое ухо Наташи раньше моего уловило далекое похрустывание сушняка за рекой. Однако прошло еще немало времени, прежде чем на горе вырос человек в белой, подкрашенной вечерним солнцем рубахе. Завидев нас, он что-то крикнул, потом взмахнул руками и вдруг прямо с обрыва ринулся вниз. Посыпались камни, красное облако взметнулось на тропе.
– Черт сумасшедший! – вздохнула Наташа и встала. – Убьется когда-нибудь. Все вот так. Не может ходить по земле, как нормальные люди.
За баней, окутанной розовым облаком мошкары, дрогнули, затрещали кусты: Игорь, срезая тропинку, напролом ломился к дому. И вот уж он грабастает, обнимает меня – весь горячечно-красный, насквозь пропахший смолой…
Нет, я представлял его иначе. Крупнее, шире в кости и, пожалуй, помоложе – без этих неправдоподобно белых бровей на худом, словно иссушенном жаром лице, без этих залысин в мягких волосах… Вот разве только глаза не изменились: пронзительно светлые, по-чарнасовски шальные и диковатые…
– Где тебя лешаки носят? Мы ждем-ждем – все глаза проглядели…
Игорь, смущенно улыбаясь, выпустил из своих рук мои, кивнул на жену, с ведром воды спускавшуюся с крыльца.
– Вот как у меня домашняя НКВД! Сразу в работу… – Он провел рукавом рубахи по запотевшей голове. – Технорука лесопункта в лесу встретил. Опять высматривает, где бы поближе к реке делянку отхватить. – Игорь страдальчески наморщил лоб, повернулся ко мне: – Беда, Алексей. Все только и норовят в запретную зону. Видал, что с нашей Пинегой сделали? Раньше, бывало, все лето пароходы ходят. А теперь реку раздели – как сирота, голая стоит…
– Ладно, давай, Алексея-то можно не агитировать! Грамотный. Снимай рубаху.
Игорь послушно начал стягивать с себя потную, испачканную смолой рубаху. Все тело его, сухое, медно-красное, под цвет сосны, было размалевано синей тушью: на груди орел с устрашающе распластанными крыльями, на коричневых руках в светлом волосе – якоря, грудастые русалки.
Явно сконфузившись передо мной, он тем не менее лихо ткнул себя в грудь:
– Этапы большого пути…
Наташа со всего маху окатила его водой.
Когда мы сели за стол, солнце уже лежало на горе. Лежало, как на перине, усталое, обессиленное – немало потрудилось за день, и лучи его, кроткие, ласковые, тихо догорали на подоконнике. Наташа едва успевала подавать нам. Мы с Игорем, оба голодные, ели молча, по-мужицки. Но вот где-то неподалеку прокричали журавли, и Игорь, прислушиваясь, сказал:
– На работу собираются. Нынче жара такая – вся жизнь у птицы по ночам. По лесу идешь – птички не услышишь.
Помолчал и добавил:
– Вот так и живем, Алексей: под журавлей ложимся, с журавлями встаем.
– Что уж наше житье, – сказала Наташа. – Век в лесу. Кина не видим.
– Ничего, – возразил Игорь, – у нас свое кино. Вот зимой встанешь, снега навалило по самые окна. А там, у речки, лоси. Стоят как вкопанные, и зорька на шерстке играет… Зорьку нам в подарок принесли… Я даже сено для них, Алексей, ставлю. Видишь, вон стог у речки? В долгу мы у этого зверя. Сколько его, бедного, перебили…
Наташа покачала головой:
– Ты как ребенок. А вечера-то зимние забыл? Ей-богу! Сидит-сидит иной раз да вдруг скажет: «Хоть бы леший в гости зашел…»
Игорь смущенно крякнул.
– Ты раньше рисовал, – сказал я. – Забросил?
– Забросил? – Игорь загадочно усмехнулся, и вдруг глаза его вспыхнули. – Да я землю хочу разрисовать. Питомник мой видел? А кедрачи? Вот погоди – революцию зеленую сделаю. По всей Пинеге пущу…
– Ну, понес Антон Исаакович, – снисходительно улыбнулась Наташа.
Да, да, в эту минуту Игорь поразительно напоминал своего отца!
– А что, Алексей, – воскликнул он, снова загораясь, – посмотри, какая у нас дикость! Почему бы, к примеру, кедр не развести? Разве худо орешки? А видал ты у наших домов ягодники? Какая-то ненависть у нашего мужика к лесу. Живет, черт худой, на хлебе да на картошке, а чтобы под окном малину, другую ягоду заиметь… Как нечистой силы куста боится. А поселки на лесопунктах? Сперва лес под корень вырубят, а потом уж за стройку примутся. Ну и чихают все лето пылью. Вот Шуйга, например, повыше Суры. На весь поселок один кустик у школы. Нет, я на опыте хочу доказать, что у нас на Пинеге все ягоды растут. И даже яблони и вишни. Вот только в стороне я. Поближе бы к людям выбраться. Чтобы питомник мой в глазах у них стоял…
Наташа хмыкнула:
– Выберешься! Со всем начальством переругался…
Игорь с виноватой улыбкой поднял глаза на жену, покрутил головой.
– Да, Алексей, есть такое дело. Маленько не того… Заметил по дороге свежую вырубку? Это нынешней зимой нашествие было. В мои леса тоже ломились, уж за ручей было перешли. Да я на дыбы. Ружье схватил. Стой, говорю, ребята, порешу! Целую неделю в шалаше жил, а лес отстоял. С этого у меня и пошли нелады с Дробышевым. Крутой мужик. «Я, говорит, тебя к месту приставил, а ты мне палки в колеса…» А тут еще с директором леспромхоза конфузия вышла. Это уж по другой части. Из-за семги…
– Вот тут-то бы тебе нисколько не надо встревать, – сказала Наташа и строго посмотрела на мужа.
Игорь замолчал, и меня немало удивила эта несвойственная Чарнасовым покорность.
– Да как же! – возмущенным голосом заговорила Наташа, обращаясь за поддержкой ко мне. – Осенью тут целая война из-за этой семги. В него уж раз стреляли. Лыска отравили – теперь без собаки живем. Нет, ему все неймется.
– Ничего, – сказал Игорь. – Собаку я заведу. Без собаки в лесу нельзя.
В комнату заглядывала белая ночь. Над головой попискивали комары, и было слышно, как за печью грызет ветку заяц.
Наташа закрыла окна, потом открыла двери и, размахивая платком, стала выгонять комаров.
Мы с Игорем, прихватив подушку и простыню, отправились за сеном: меня решили устроить на ночлег в бане – там и комар не пищит, и зайчишко, как выразился Игорь, не будет беспокоить.
Сено хранилось под старым навесом за баней. Я еще днем, когда ходил купаться, обратил внимание на странные железяки, лежавшие под навесом. Одна из них – тракторная гусеница метра четыре в длину с наваренными шипами, другая – массивный стержень с кронштейнами, похожий на ежа. И вот сейчас, снова увидев эти железяки, я спросил об их назначении.
– Не догадываешься? – Игорь усмехнулся, бросил на сено подушку и простыню. – Это моя техника. Лес которой сажаем. Это вот, – он указал на тракторную гусеницу, – бороной-змейкой называется – легкий моховой покров сдираем, а то опять еж. Для зеленомошника. Не густо?
Я вспомнил, с какой техникой выходят на лес в лесопунктах. Трелевочные тракторы, бульдозеры, могучие лесовозы, лебедки. А нынешняя бензопила «Дружба»? Ими, словно косами, выкашивают леса!
– Да, не много навосстанавливаешь лес такой техникой, – сказал я, с грустью разглядывая эти неуклюжие, примитивные орудия, сделанные в местной кузнице из железного лома.
Игорь, однако, не согласился со мной.
– Можно, Алексей, можно! И с такой техникой можно. Была бы только охота. Да и мотыгой дедовской можно. Я вот тебе завтра на примере покажу: тут недалеко, за Шушей, сосняк мотыгой сделан.
Он опасливо посмотрел на крыльцо: там светлело платье Наташи.
– А то хочешь сейчас? – зашептал горячо Игорь. – Какого лешего! Разве ты спать сюда приехал?
Откровенно говоря, за день я намотался немало. С раннего утра толкотня на аэродроме в ожидании самолета, потом сам полет до лесопункта на вертлявом допотопном «кукурузнике», который все еще в ходу на периферии, потом эта дорога на Шушу, да и сосняк, слава богу, не новость для меня, выросшего в лесном краю. Но, с другой стороны, мне не хотелось и обижать Игоря. Я только сказал:
– А Наташа не заругается?
– Наташа? – Игорь улыбнулся широкой, во все лицо улыбкой. – Женка у меня хорошая. Это она при тебе меня песочит, психику свою показывает. А так мы душа в душу… – Игорь перешел на шепот: – Я даже боюсь, Алексей… Не приснилось ли мне? За что мне такое счастье? Она ведь молодая еще. На четырнадцать лет меня моложе. Ну-ко в такой глуши? Я сам иной раз на лесопункт посылаю – там у нее мать с братом. Пойди, говорю, Наташа, погости у матери. Кино хоть посмотришь. Нет, смотришь, на другой день явилась.
Тишина. Бормочет, плещется вода в Шуше. Легкие пряди тумана висят над кустарником в лощине. Сильно пахнет смородиной…
На крыльце скрипнула дверь. Это Наташа, управившись по хозяйству, ушла в комнату. Игорь, казалось, только и ожидавший этого звука, моментально преобразился:
– Поехали! Теперь мы вольные казаки, Алексей.
4
Ну не глупо ли, черт побери, ночью – пускай она белая, пускай светлая, как день, – переходить вброд по колено речку, снимать и натягивать сапоги, карабкаться в гору – и все это ради того, чтобы взглянуть на сосны, которые с детства намозолили тебе глаза!
На горе, в пахучем березняке, Игорь выломал пару веток, протянул мне: отмахивайся от комара.
Вечерняя заря еще не погасла. Далеко на горизонте чернела зубчатая гряда леса. И над этой грядой то тут, то там поднимались багряные сосны – косматые, похожие на вздыбленных сказочных медведей.
Под ногами похрустывают сухие сучки. Лопочут, шлепая прохладной листвой по разгоряченному лицу, беспокойные, не знающие и ночью отдыха осинки. Игорь в белой рубахе, окутанный серым облаком гнуса, как олень, качается в кустах. Матерый опытный олень, безошибочно прокладывающий свою тропу.
Леса еще не видно, но в воздухе уже знойно и остро пахнет сосновой смолой. А вот и сам лес.
Мы стояли на опушке осинника, и перед нами простиралась громадная равнина, ощетинившаяся молодым сосняком. Вдали, на западе, равнина вползала на пологий холм, и казалось, что оттуда на нас накатывается широкая морская волна. И самые сосенки, то иссиня-черные, то сизые до седины, то золотисто-багряные со светлыми каплями смолы, напоминали нарядную, пятнистую шкуру моря.
Игорь сказал:
– Ну, не жалеешь, что пошел?
А потом вдруг обхватил руками ближайший садик сосенок – они росли купами, – ткнулся в них лицом:
– Вот мои ребятишки!
– И ты говоришь, все это сотворил одной мотыгой? – спросил я, снова и снова оглядывая равнину.
– Да, Алексей. Мотыгой – нашим пинежским копачом и вот этими руками! – Игорь выбросил кверху небольшие темные руки, сжатые в кулаки. – Я приехал сюда зимой. Тогда и в помине еще не было, чтобы лес восстанавливать. А я думаю – шалишь! Не на лежку сюда приехал. Раз ты к лесу приставлен – оправдай себя. Самая загвоздка, конечно, была в семенах. Ну я смикитил. Мальчишек на лесопункте кликнул – целый шишкофронт открыл. Им это в забаву – по соснам лазать, а мне польза…
Вдруг Игорь задумался, тяжело вздохнул.
– Ну и Наташе, конечно, досталось. Это уж после, когда эти сопляки на цыпочки поднялись. Жара была, Алексей, они у меня начали сохнуть – как котята без молока. Ну, я копач в руки и давай махать с утра до ночи. И вот, понимаешь, Наташа тогда в положении была. Зачем же вот ей-то было за копач браться? Недоглядел, Алексей. Нескладно у нас получилось. Врачи говорят: конец вашим детям…
Белая ночь проплывала над нами. Над ухом жалобно попискивали комары. Игорь с опущенной головой, белый, как привидение, стоял, до пояса погруженный в колючий потемневший сосняк.
– Ничего, – заговорил он сдавленным шепотом. – Ничего! – И вдруг опять уже знакомым мне, каким-то по-отцовски широким и щедрым объятием обхватил сосенки. – Вот мои дети!.. Наташа плачет, убивается, а я говорю: не плачь; кто чего родит – одни ребятишек с руками да ногами, а мы, говорю, с тобой сосновых народим. Сосновые-то еще крепче. На века. Согласен, Алексей? – И вдруг Игорь, не дождавшись моего ответа – решенное дело! – громко и раскатисто, да так, что эхо взметнулось над притихшим сосняком, рассмеялся.
Надо было возвращаться домой. Но как же не хотелось расставаться с этим сосняком! Или это потому, что теперь уж эти сосенки-подростки для меня не просто молодой сосняк, а Игоревы дети?
– А ты видал, Алексей, как сосна всходит? – неожиданно спросил Игорь.
Я улыбнулся: наивно все-таки спрашивать о таких вещах человека, который вырос в лесу.
– Ни черта ты не видал! Все мы так. Бродим, бродим по лесу, топчем все с краю, ну, еще черемуху, когда в цвету, обломаем, а вот как рабочее дерево из земли поднимается, не знаем. Хочешь посмотреть? – В голосе Игоря зазвучала соблазнительная, так хорошо знакомая мне с детства загадочность. – Интересно! Сосны двух недель от роду. А?
5
И вот опять мы, два полуночника, идем в белую ночь. Над головой таинственное, притушенное серенькой дымкой небо, а в ногах сосны. От сосен веет дневным жаром. Сосны цепляются смолистыми иглами за одежду, кусают голые руки.
Игорь довольно замечает:
– Смотри, какие зубастые. Как щенята, огрызаются. Крепкие дерева будут!
Белая ночь творит чудеса. Исчезло время. Мы снова мальчишки. И снова, как в те далекие годы, Игорь ведет меня…
Темный, заросший молодым ельником ручей, словно корабль, плывет нам навстречу.
Послышался свист, тоненький, похожий на хрупкий лучик вечернего солнца, и погас.
– А ведь это рябишко, Алексей, – сказал Игорь и остановился. – Забавно. С чего бы ему об эту пору?
Он еще некоторое время удивляется странному поведению рябчика, а потом говорит:
– У меня тут, Алексей, полно всякой птицы. Любит она здешние места. На Сысольских озерах даже орлы живут, во как! А вообще-то нервная пошла нынче птица… Да и как ей не нервной быть, ежели по всему северу железный гром стоит! Скажем, журавль, к примеру. Весной это летит с юга, день и ночь крыльями машет. Ладно, думает, вот прилечу на родину – отдохну. А прилетел – негде сесть. На гнездовьях-то уж люди.
Придерживаясь за ветки березы, мы стали спускаться в ручей. Густые, по пояс, папоротники, трава, слегка отпотевшая за ночь, и даже сырой холодок понизу. Но засуха добралась и сюда. Воды в ручье не было. Каменистое, из мелкого галечника дно проросло пышными подушками зеленого мха. Мох мягко пружинит под ногами. Вдруг справа от нас – это всегда бывает вдруг – вспорхнул рябчик и низом-низом, фурча, как пропеллер, крылышками, потянул в еловую глушь. Было слышно, как он сел на сучок. Игорь улыбнулся.
– Сейчас мы вступим с ним в переговоры. – И, раздвинув губы, сухие, в трещинах, свистнул.
Рябчик отозвался, но как-то вяло, неохотно. Игорь опять улыбнулся:
– А знаешь, что он мне ответил? «Не пойду, говорит, хочешь – иди сам».
– Ну уж так-таки и «не пойду»?
– Вот те бог, Алексей. У них, у этих рябишек, три зова для своих товарищей: «лечу», «иду на ногах», «лети сам». Не веришь? Ну а как же бы они в лесу-то разыскивали друг дружку, в особенности во время токов? Охотники хорошие знают их наречье, так и манок настраивают. Ежели «лечу» – не двигайся, сам прилетит. И по сигналу «иду пешком» тоже дождаться можно. Не скоро – велик ли у ряба шаг – приковыляет. А вот ежели «лети сам», тут уж не жди. Хоть как его ни зазывай, не прилетит. С характером птица, даром что маленькая.
За ручьем опять вырубка – трухлявые пни в кустиках сморщенной, подгоревшей на солнце земляники, редкие елки иван-чая с сонно ворочающимися на метелках пузатыми шмелями, потом опять ручей – горький ольшаник вперемежку с березой, и вот мы поднимаемся на холм.
Под ногами тундра – чистейший, белее снега курчавый ягель, а там вверху – я задираю голову – макушки сосен…
Я смотрю на этих неохватных, в седых космах великанов, смотрю на их темные вершины, потрепанные вековечными ветрами, и то они мне кажутся былинными богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает казаться – чего не делает белая ночь, – что ты сам попал в заколдованное царство и бродишь меж задремавших богатырей. Уж не белые ли ночи и сосны навеяли эту сказку нашим предкам?
Вздох Игоря – он рядом – возвращает меня к яви.
– Эти сосны еще Петра помнят. Вот какая краса тут была! А теперь один островок остался. И то потому, что лошадями лес заготовляли. Взять нельзя было. А если бы нынче – сокрушили. Трактор хоть черта своротит…
Игорь опять вздыхает:
– Раньше, бывало, в лес-то зайдешь – оторопь берет. Под каждой елью леший сидит. А теперь этих леших в сырые сузёмы загнали – чахнут, бедные, нос высунуть боятся… Ладно, пошли. Тут близко. Версты не будет.
Но Игорева верста, видно, меряна еще той древней дедовской клюкой, о которой говорится в присказке. Мы бредем вырубками, то совершенно сухими, то заглушенными жирной травой с пышными белопенными зонтами тмина, – они похожи на легкие облачка, опустившиеся на землю, огибаем маленькое, с черной, как чай, водой озерко, курящееся паром, – «черти баню топят», – шутливо замечает Игорь, пересекаем просеки – лесные коридоры, топчем похрустывающий олений беломошник, путаемся в упругих зарослях можжевельника. И Игорь рассказывает-рассказывает, рассказывает обо всем, что попадается на глаза, – то приглушенным шепотом (и тогда он, в белой распущенной рубахе, с темным, прокопченным лицом, на котором шевелятся неестественно белые брови, напоминает старого лесного ведуна), то голос его переливается, как ручей.
Он рассказывает о елях, о их необыкновенной чувствительности – «десятиметровую ель можно убить одним ударом обуха», о хвойной, скользящей под ногами подстилке – «мудро устроен, Алексей, лес: сначала кормом себя обеспечит, а потом уж на отдых уходит», жалуется на нахальную березу – и это странно мне слышать, но у него свой счет к березе – «сорняк дерево, она да осина на вырубках первые гостьи», плетет какой-то доморощенный сказ о древней птице глухаре, которого мы подняли в травниках…
Я присматриваюсь к Игорю, вспоминаю его «лагерные университеты», и мне все чаще приходит в голову, что я совершенно не знаю этого человека.
Он был силен, по-прежнему силен и неутомим, как все Чарнасовы, и так же размашисто мечтателен и одержим, как его отец, – «зеленую революцию пущу», но откуда у него эта удивительная любовь и жалость, русская жалость ко всему живому? Нет, отец его, беспощадно прямой, мысливший мировыми категориями, не страдал этим. Профессия лесника наложила на него свою печать?
По вершинам сосен красной лисицей крадется утренняя заря Что-то вроде ветерка, похожего на легкий вздох, пронеслось по лесу. Или это белая ночь, прижимаясь к земле, уползает в глухие чащобы?
6
– Вот, пришли – говорит Игорь.
Я смотрю перед собой и ничего не вижу, кроме черной бескрайней гари с хаотическим нагромождением коряг и сучьев. На их обугленной, потрескавшейся коре – алые отсветы зари, и кажется, пожар еще дышит, живет.
Опять загадка?
Игорь, довольный, смеется. Сухое, загоревшее лицо его с белыми бровями пылает, как сосна.
– Да ты не туда смотришь. В борозды смотри.
В самом деле, гарь прорезана песчаными бугристыми бороздами. Их много. Они, как желтые змеи, расползлись по гари.
Я наклоняюсь к первой борозде. Рваные, обгоревшие корни по краям, следы тракторной гусеницы, потом замечаю крохотный, сантиметра в два, пучок темно-дымчатой травки, за ним другой, третий… И вот уже пучки сливаются в жиденький, кое-где искрящийся ручеек, робко крадущийся по песчаному дну борозды.
Ручеек необычный. От ручейка пахнет смолой.
Неужели так вот и начинается сосновый бор?
Игорь советует мне вырвать отросток: все равно им всем не жить, придется прореживать.
Ого! Травка колется, липнет к пальцам, а глубинный корень вдруг выказывает цепкость и упорство сосны.
Странно это – держать на ладони дерево с корнем…
Я стою, склонившись над этим младенческим лесом, вдыхаю его первозданный запах, и мне кажется, что я присутствую при рождении мира, подымающегося на утренней заре…
Игорь мягко кладет мне на плечо руку.
– Это тракторная работа. Ровно месяц назад с Санькой Ряхиным сеяли. На совесть мужик работал. А нынче как-то встретил на днях, спрашиваю: «Будем еще, Саня, старые грехи замаливать?» – «Нет, говорит, Игорь. Хорошо лес сеять, нравится мне эта работа, а больше не жди». Понимаешь, Алексей, копейка мужика затирает. У него семья, ребятишки, а тут хоть лопни – тарифная ставка. Не перепрыгнешь. Почему так? Кто лес валит – тому прогрессивка, и премиальные, и еще там всякая всячина. А кто лес сажает – на сознательность переведен. Почему так?
Мы идем узенькой, хорошо утоптанной тропинкой. В лесу полно птах. Пищат, посвистывают, тенькают – все спешат управиться со своими делами до жары. А вот и дробный перестук дятлов.
– Это мои помощники, – говорит Игорь. – Мало только их нынче. Надо бы их как-то увеличить. В книжках ничего не читал об этом?
А потом он снова возвращается к своим обидам лесника. Нет, он не о себе. Ему с Наташей немного и надо. Да его хоть золотом осыпь, от леса не оторвешь. А как же на их зарплатишку жить тому, у кого семья? Вот и идут в лесники инвалиды да всякий сброд. А если какой подходящий мужик заведется, так от него все равно толку мало. Он все лето для коровы своей сено ставит. А сколько у лесника работы? Охрана леса, лесокультурные работы, расчистка просек… А семена заготовлять? Египетский труд! Каждую шишку надо ладонями обмять. А противопожарные канавы возле дорог прорыть?…
Игорь качает головой:
– Ни черта я тут не пойму. Каждый год пожары. А нынче весь север горит. В Архангельске от дыма, говорят, не продохнешь. Космос, что ли, решили отапливать? Во что это государству влетает? А люди на лесопунктах по неделям не работают? А колхозников с пожара на пожар гоняем? И никто почему-то не хочет одну штуковину сделать – лесную охрану увеличить. Знаешь, у меня какое лесничество? Двести сорок тысяч га! Мне за год не обойти это царство. Да что там за год! Я так и помру, а в каждом квартале не побываю. Мы, лесники, кричим: добавьте охраны! Меньше пожаров будет. И все без толку. Миллиарды в огонь бросаем – не жалеем, а вот лишнего лесника нанять – экономия… Почему так, Алексей? Я и в райком писал, и в область писал, и в Москву писал… Куда еще писать?
7
Обратная дорога оказалась прямой и короткой. И я понял, что Игорь не без умысла водил меня по лесу. Да он и сам не скрывал этого.
– Ну, теперь ты получил сосновое образование, – сказал он с ухмылкой, когда мы вышли в окрестности поселка.
Я поражался, глядя на него. Человек целый день выходил на ногах, потом эта бессонная ночь с кружением по ручьям и вырубкам, а ему хоть бы что. Он был свеж и бодр, как утренний лес. Может, только морщины резче обозначились на его сухом узком лице да на жилистой, дочерна загорелой шее.
Восход солнца мы встретили, сидя под суковатой развесистой сосной – могучим чудищем, вымахавшим на приволье. Старые шишки, ворохом лежавшие на росохах закаменевших корней, окрасились алым светом.