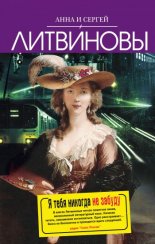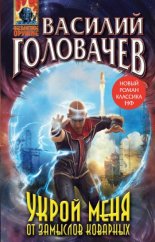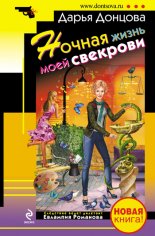Дети Луны Акунин Борис
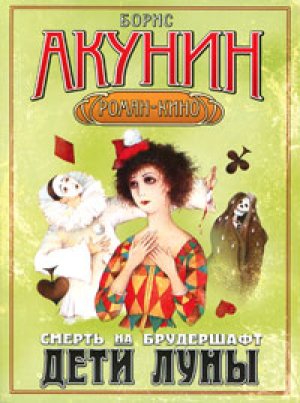
Читать бесплатно другие книги:
Согласившись пойти вместе с подругой Милкой на встречу с шантажистом, Фенька и не думала, чем рискуе...
У Наташи были причины многое скрывать о себе. Когда у нее завязался бурный роман с Иваном, она попал...
Если бы физику Роману Волкову неделю назад сказали, что ему придётся участвовать в секретной операци...
В Галактике появляется новая головная боль для великих держав – планета Панеконт, крупный транзитный...
Я, Евлампия Романова, всегда знала – супругам нельзя работать в одной конторе! Но помощница моего но...