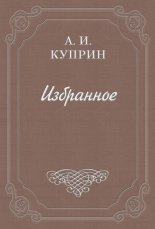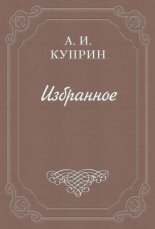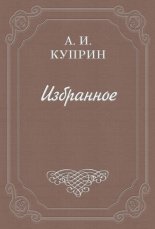Путешественники Куприн Александр
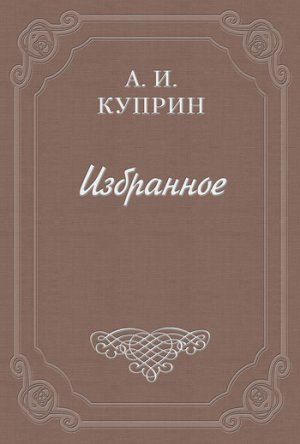
Читать бесплатно другие книги:
«Не люблю профессиональных остряков, эстрадные скетчи, заготовленные шутки и каламбуры… Никогда не п...
«Петербург. По главной аллее Летнего сада идут три человека. Один из них – актер, Илья Уралов, новый...
«Куда только не совала меня судьба. Я был последовательно офицером, землемером, грузчиком арбузов, п...
«Мы с Михайлой очень тесно сжились и подружились за эту зиму. Я ему говорил: «вы», а он мне: то «вы»...