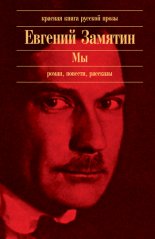Жилец Чехов Антон
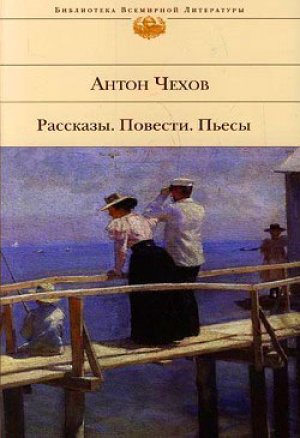
© Холмогоров М. К., 2015
© Издание. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015
Новогодняя ночь
В дальней детской вдруг закричал младенец Николенька – что-то его растревожило среди ночи, какие-то неосознанные страхи или видения, хотя что может увидеть четырехмесячный ребенок? Так или иначе, но сон слетел, и слава богу! Жорж проснулся, раздосадованный тем, что позволил в такую ночь уложить себя, как маленького, да еще и сам заснул, сморенный праздником и ожиданием.
Крик Николенькин доходил волнами, он утихал, уступая пространство нянькиной песенке – «Придет серенький волчок, схватит Колю за бочок», а потом разражался надрывом с новой силою. «Несносное дитя!» – взрослыми словами подумал о младшем брате Жорж и стал прислушиваться к другим звукам – из гостиной и столовой.
Часы пробили четверть – которую? какого часа? Это было очень важно знать, очень. Неужели проспал? И новый, двадцатый век начался без меня?
Голоса гостей и папы с мамой были тверды и глуховаты, только доктор Бузинский выказывал веселое волнение, что бывало с ним еще с первой, фуршетной рюмки. Значит, за стол не садились и мы еще живем в старину, в прошлом, девятнадцатом веке. Хотя это странно, очень даже странно – почему тысяча девятисотый год относится к веку девятнадцатому? Голова долго отказывалась верить доказательствам Федора Ильича – гувернера, готовившего Жоржа к поступлению в гимназию, как тот ни горячился, объясняя разницу между количественным именем числительным и таким же – в цифрах – порядковым. Жорж усвоил капризы склонения числительных, даже дроби начал склонять с легкостью, но эффект века принимался с большим усилием. Только к маю он справился наконец со своим нетерпеливым желанием и согласился еще почти целый год дожидаться нового века.
Дождался, ничего не скажешь! Взял и в самый ответственный момент заснул! Хорошо, Полковник разбудил. Полковником звали младенца Николая – брови его всегда почему-то были насуплены, как у строгого старшего чина, когда тот шлет на гауптвахту шалопая-поручика.
Глаза тем временем привыкли к темноте. Жорж любил этот медленный миг: сначала не видно ничего, потом проступают углы шкафа, стола, спинка кровати, маленькая елка с шарами, чуть взблескивающими, когда за окном ветер со скрипом шевелит фонари на Тверской, и из-за гардин проскальзывают тени. От противоположной стены отделяется постель Сашки, теперь уже не младшего, а среднего брата. Он спит покорно, не чувствуя торжественности мига, хотя и был под вечер застигнут за тем, что пытался подвести часы в столовой вперед на часочек, чтобы приблизить пришествие двадцатого столетия. Ах, что возьмешь с шестилетнего! А пол и потолок едва-едва движутся навстречу друг другу: потолок тянет вниз, опуская люстру, а пол из мрачной тьмы выделяет шлепанцы у кровати, ножки стола и стульев, как бы поднимая предметы ввысь.
А совсем, совсем недавно Жорж был такой маленький и несмышленый, что боялся внезапно проснуться и оказаться в кромешной тьме. Надо справляться с нетерпением страха, дать себе хотя бы минуту на размышление, и тогда окажется, что тьма не такая уж и беспросветная, а я у себя дома, и все предметы вокруг даже интереснее, чем днем, когда ночные тайны разоблачены. Ведь утром они мертвы – и стол со стульями, и елка, и шкафы суть предметы неодушевленные, а темнота сообщает им движение, тихий рост и прояснение деталей. Жорж, пожалуй, и не удивился бы, если б услышал низкий и гулкий голос дубового шкафа и звонкими колокольчиками ответ ему игрушек с елки; ее собственный голос был бы нежный, как у мамы, когда она, поцеловав, желает спокойной ночи.
– Господа, прошу к столу! – Мамин голос прозвучал, как только Жорж подумал о нем. И успокоил: новый год, а значит, новый век еще не наступил, взрослые еще не открывали шампанское.
Гости задвигали стульями, возбуждение от доктора Бузинского передалось всем, особенно кузине Леле, впервые допущенной на взрослый праздник, к жесточайшей досаде Жоржа: потеря Лели, ее переход в категорию взрослых первый сюрприз нового века. Неприятный сюрприз. Хотя это, конечно, мелочи – раз новый век, значит, должно произойти что-то великое и, конечно, не семейное. Вся Россия, весь мир переходит в другую эпоху. И сегодня же ночью просто-таки обязано случиться нечто такое, такое… – чему и слов не подберешь; ясно только, что историческое и мировое.
Непохоже. Взрослый праздник решительно ничем, если судить по голосам гостей, не отличается от других таких же – папиных именин или маминого дня рождения – так же рокочет бас не терпящего никаких возражений Адама Егоровича Бузинского, подхохатывает в платочек Зинаида Максимовна из бедных маминых родственниц, и все так же неумело пытался спеть «Растворил я окно» ее покровитель профессор права Иван Николаевич Брагин. Вот разве что новый голосок кузины Лели добавился. Когда ушей достигал ее нервный, неуверенный смешок, Жоржа всего переворачивало, его душила обида и бездна впереди: время вдруг останавливалось и казалось, что он никогда не доживет до того счастливого момента, когда и его позовут на общий праздник. Это было как при рассматривании семейных фотографий с родителями, покойной бабушкой, с дедушкой и родителями Лели и самой Лелей, только маленькой, когда ей было четыре года. Все есть, а Жоржа нет, и на вопрос: «А где я?» – ему отвечают: «А тебя еще на свете не было!» То есть как это, Леля была, а меня, меня еще не было?! Непереносимо. Жорж до сих пор держит в своем сердце ревнивую муку по поводу такой несправедливости судьбы. А уж пора бы смириться – рождение младших братьев должно успокоить ревность: они зададут тот же вопрос, не обнаружив на фотографиях с пятилетним Жоржем себя. Хотя Сашке почему-то такое в голову не приходит, он принимает все как есть без лишних вопросов.
Но вот и часы зашипели, и гости притихли, а Жорж от возбуждения спрыгнул с кровати и на цыпочках пробрался к двери, обжигая ступни на холодном полу.
Бьет!
Гости кричат «ура», будто бы это их доблестью в Россию пришел новый век, они тоже ждут чего-то нового, чуда какого-то, потому что чаще всего из столовой доносится «Наконец-то! Дождались!»
«Я тоже дождался», – подумал Жорж, почему-то перекрестился и с легким сердцем, так же на цыпочках отправился в постель.
Сон, однако, слетел, подушка нагрелась и как бы окаменела, она стала мешать, только перевернешь и взобьешь, а голова на две-три минуты насладится прохладой и мягкостью, как снова под нею – теплый камень, и одеяло мешает, Жорж вертится и завидует взрослым, которым не надо спать и бороться с подушкой, им сейчас весело, голоса из столовой все громче и возбужденнее.
– Нет, господа, я верю, Россия пробудится от тысячелетнего сна, наш народ-богатырь еще покажет себя! – Иван Николаевич, когда ему не дают спеть «Растворил я окно», всегда начинает высокопарно рассуждать о России.
А папа этих разговоров терпеть не может. Он весь краснеет от закипевшего гнева, начинает ногами стучать, неистовствует.
– Не дай нам бог этого вашего пробуждения! Тогда вся империя в Ходынку превратится. Каждый должен знать свое место. Народ, народ – заладили! А это не народ, а хамы, вот что я вам скажу. Насмотрелся, знаю. А хама надо держать в ежовых рукавицах, чтоб место свое помнил!..
– Удивительный вы, Андрей Сергеевич, человек. Давно ли сами-то в дворянском сословии состоите? – Это Андрей Феофилактович, либерал и народолюбец, когда-то, студентом еще, «в народ» ходил. Что это означает, Жорж понимал смутно, но история о его хождениях всегда поминалась, едва кто-нибудь назовет его имя. – Быстро же вы забываете своих предков-пономарей, самые, так сказать, низы. А то, что вы вещаете, – не ново. Слышали уж тысячи раз – надо бы подморозить, нечего кухаркиных детей в гимназиях учить… А кто Россию из вековой отсталости поднимать будет? Дождетесь – поднимется народ, расправит плечи…
– Вы, Андрей Феофилактович, Тютчева забыли. – Леонтий Петрович, Лелин отец, во всех спорах принимал папину сторону, но тоном своим смягчал его резкость, он боялся всякого рода ссор, даже дружеских, ведь никто в самом-то деле и не думал разрывать отношений из-за абстрактных споров о судьбах России. – Так вот, у Тютчева есть стихи:
- Ты волн уснувших не буди,
- Под ними хаос шевелится.
Вы же, Андрей Феофилактович, лучше меня историю знаете. Как только где-нибудь народ разбудят – вот вам и гильотина, и нашествие двунадесяти языков… А это культурная Франция, не нашей дикости чета.
– Народы учатся друг у друга. Русский народ разумен, он не допустит. Мне со многими простыми людьми приходилось дело иметь, я вам доложу, Михайло Ломоносов не на пустом месте вырос. А дать ему свободу, возможность проявить себя – о-го-го!
– Он вам проявит! Пугачев-то с его бунтом, бессмысленным и беспощадным, тоже не на пустом месте родился. Нет уж, по мне, пусть будет как было. При покойном-то императоре, хоть и грубиян был, царствие ему небесное, а порядок соблюдали. А вот салат нынче хорош! Анна Дмитриевна, рецептик супруге не откроете?
– Это Ольга, наша новая стряпуха. У нее свои какие-то тайны.
Нет, ничего не случилось, подумал Жорж, даже слова не меняются. Как в спектакле – все выучили свои роли, и папа – профессор медицины Андрей Сергеевич Фелицианов, и тезка его Андрей Феофилактович, и Леонтий Петрович. Эдак и никогда ничего не произойдет. Небось во всех домах на Новый год те же разговоры и то же угощенье на столе.
Где-то далеко-далеко, наверное у Триумфальных ворот, зазвенела, а потом заскрежетала на повороте электрическая конка. Стало жаль механика и его запоздалых ездоков. Новый год, новый век, а они не за столом и вместо вкусной еды и легких разговоров – заботы, заботы… И у них ничего не произошло.
Кажется, это была последняя мысль Жоржа. Сон как-то исподтишка подобрался из зимней ночи, накрыл его, растворив во всеобщей тьме вместе с полом, потолком, углами шкафа и стола, елкой с игрушками и глохнущими голосами из столовой и гостиной.
Утро было праздничным и заурядным. Жоржу под елкой был приготовлен том Лермонтова с гравюрами, а Сашке – игра «Морское сражение» с оловянными корабликами и картой неведомого моря с бухточками, проливами, затейливыми скалистыми островами. Нет, и днем ничего выдающегося не произошло. Жорж в конце концов раскапризничался, побил ни за что Сашку и был наказан арестом в чулане. Сашка же и принес тайком в арестантскую Лермонтова, и узник читал «Мцыри» и «Мцыри» полюбил на всю жизнь, но какое это имеет отношение к новому столетию, скажите на милость?
И весь последующий год остался в памяти каким-то заурядным. Жорж поступил в гимназию, и гимназия разочаровала его. На него с грохотом обрушилась лавина одинаковых казенных детей, с одинаковыми казенными и жестокими шутками друг над другом. А в большом зеркале гимназической раздевалки Жорж обнаружил ученика Георгия Фелицианова – точно такого же, как все: коротко остриженного, одетого в такую же, как у всех, форму, и так же нелепо, некультурно топорщатся уши из-под фуражки. Он сжался, укрылся в себя и не разжимался класса до седьмого, пока из одинаковых казенных лиц не стали проступать черты отличий.
В доме двадцатый век тоже никак не проявил себя. Вместо Федора Ильича наняли немца Магнуса Вертера – добродушного и чрезвычайно болтливого молодого человека, гордого своим блондинством, а еще больше – принадлежностью к великой Германии, будто это он сам написал «Фауста» и все симфонии Бетховена, додумался до Гегелевой диалектики и ницшеанства, самолично завоевал пол-Европы и объединил немецкие княжества. Впрочем, заниматься с ним было весело, он очень скоро стал допускать фамильярность, немыслимую с умствующим одиночкой Федором Ильичом. А уж как он пыжился по поводу своей фамилии, воспетой самим Гёте! Но тут его папа срезал: «Я понимаю – Вильгельм Мейстер, а тут подумаешь – унылый самоубийца». И Вертер увял.
Поступив в гимназию, Жорж попробовал читать газеты, но они были скучны, однообразны, да и события, достойные их страниц, были какие-то малоинтересные. Забастовка в Баку, подсчет убытков как результат, биржевые сессии, церемонии в Зимнем и Царском Селе – тоска, одним словом. И чего взрослые так жадно в них впиваются?
И к 31 декабря 1901 года Жорж Фелицианов окончательно разочаровался в числах. Нет в них никакой магии, все вздор и суеверие. Век новый, а жизнь старая: каждое утро одно и то же – завтрак, Тверская, гимназия, снова Тверская, уроки, учителя, ужин, а потом гонят спать, не дав дочитать «Робинзона Крузо» на самом интересном месте, как раз там, где Робинзону попадается на глаза кострище дикарей с объеденными человеческими костями.
Да и просто смешно, если вдуматься и увидеть, что по нашему календарю весь дохристианский мир жил как бы в обратном направлении.
Чем-то это напоминает географические открытия дворника Григория, впервые узнавшего от Жоржа, что Земля – шар, и на противоположной его стороне раскинулись две Америки. Для доказательства он еще сбегал домой за глобусом и все Григорию показал: где Москва и наш дом, где Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро. Григорий, простая душа, ткнув прокуренным пальцем в Мексику, спросил его изумленно:
– Они что ж там, в Америке, вниз головой ходят?
Отец
Это было в пору, когда обживалась новая казенная квартира. Она была гораздо просторней старой на Тверской. У Жоржа был свой кабинет, как и у Сашки. Все-таки гимназисты. Жорж шестого класса, Сашка – второго. Но почему-то больше всего нравилось у папы. Массивный письменный стол, четыре книжных шкафа – целая библиотека. Жоржу дозволялось пользоваться теми двумя, что стояли справа от окна. В левые он залезал сам. Там были книги посложнее – медицина и философия.
Видимо, не надо было читать эту книгу. Но соблазн был так велик! Он обнаружил ее в глубине второго ряда отцовской библиотеки среди медицинских брошюр. Странно, подумал Жорж, роман, беллетристика – и в таком месте.
Что-то тут кроется.
Роман был скучноват, все какие-то спекуляции, подряды – материи малоинтересные, по мнению Жоржа, сомнительные для описаний в романе. Но вот что любопытно. Один из героев построил новый дом на Тверской, и по описанию Жорж узнал их собственный. И квартира, где этот несчастный подрядчик, запутавшийся в аферах, покончил с собой, была как раз та, что располагалась этажом ниже, прямо под их квартирой. Но в этой книге отцовским ногтем было очерчено несколько строчек про некоего доктора, составившего себе капитал сомнительной связью с какой-то важной особой: он сопровождал некую знатную даму по заграничным курортам, всячески ублажал ее, волны сплетен от Биаррица и Ментона докатывались до Москвы, обретали здесь силу девятого вала и крушили репутацию молодого медика.
В конце концов он разделался со своей двусмысленной обязанностью, вернулся в Россию, и дела его так хорошо пошли, что разговоры поутихли, доктор стал фигурой уважаемой, но влажные пятна былой славы все равно проступали сквозь самое чопорное и строго деловое общение. К досаде Жоржа, портрет преуспевающего врача обнаруживал сходство с папой. С той его фотографией периода жениховства, на которой он запечатлен с мамой на велосипедной прогулке.
Отец застиг Жоржа врасплох как раз в тот момент, когда сын разглядывал следы ногтя на полях.
– Сколько раз тебе говорить, чтоб не совал свой нос в мой шкаф!
– Я… я Брема искал.
– Брем совсем в другом шкафу. И ты прекрасно знаешь в котором.
За изобличением во лжи следовало немедленное наказание, и Жорж сменил опасную тему. К тому же прочитанное позволяло самому перейти в атаку. Папа был изображен не в лучшем виде. Только папа ли? Окончательной уверенности не было. Разве что репутация самого писателя. В кругах литературных его прозвали фотографом.
– Тут, папа, наш дом на Тверской описан. И очень точно.
– Не только наш дом. Здесь и мне досталось. Вот прохвост, все сплетни вывалил.
– Сплетни? А что ж ты его за это в суд не привлек? Ты бы выиграл дело.
– Судятся в таких случаях только дураки. Во-первых, глупо признаваться, что это тебя в таком идиотском свете изобразили. А во-вторых, опять начнутся разговоры, новые сплетни, а времени прошло много, все всё перезабыли, такого нафантазируют – хоть в отставку подавай.
– Так ты хочешь сказать, что там правда? И что все это с тобой было? Ну, что этот писатель изобразил. Про знатную даму, про спекуляции на бирже…
– А ты полагал, что твой отец ангел?
Что отец – ангел, Жорж никак не полагал. Ну, во-первых, отец человек несомненно отсталый и взглядов придерживается самых реакционных. Летом, когда ехали в Кисловодск, Жоржа радостно изумляло, что мужики на станциях выпрашивают не деньги, не вкусненькое, а газеты. Отца же это приводило в бешенство, и тут уж изумляла его неописуемая злость. Народ же пробуждается! Ты ведь сам поговаривал, что твой дед землю пахал, как у Базарова. Чего ж ты хочешь, чтоб назад, в темноту?
– Не в темноту, а к сохе! Если просвещать твой народ, так не газетной болтовней, а чтоб Пушкина читали. Да не поймут они в Пушкине ни черта. А с этими болтунами, с этими прогрессистами… А-а!.. – Отец только рукой махнул в раздражении.
Нет, решительно несовременный, отсталый человек.
А сейчас выясняется, что и в прошлом небезупречен. Отец, угадав мысли передового юноши, повел речь странную. Настолько, что потом Жорж не раз вспоминал этот день. Потому что в разные моменты жизни по-разному относился к ней.
– Тебе легко судить. Ты потомственный дворянин, сын профессора и действительного статского советника. Перед тобой такое будущее, что всю жизнь можешь прожить честным и безупречным. И это правильно. И я на это все силы положил, а в молодости – репутацию. Не бегал с бомбами, не ходил, переодевшись в рваньё, в народ, а дело делал.
– Да что ж за дело, если под ним струится не кровь, а желчь второсортного сатирика? А я выхожу во взрослую жизнь опозоренный.
– Ну тут ты, пожалуй, лишнего хватил. О моих проказах все уж забыли давно. Зато мой поворот на ножку, когда плод ногами, а не головой выходит, уже в учебники акушерства попал. И называется – фелициановский. А кто б мне дал этот поворот освоить без хорошей клиники? Ты думаешь, легко было попасть туда? Незнатному разночинцу после университета одна дорога – в земские врачи. Дело, конечно, почетное, да скудное и скучное. Того гляди, спился бы в богом забытой глуши. А я, благодаря той знатной даме, в люди выбился, хорошее место получил. И в конце концов доброе имя заработал. Да ты в романишке этом ни за что б меня не узнал, если б не мои пометы. Только без тех проделок не знаю, в каких бы ты условиях рос. Уж отдельного-то кабинета у тебя б точно не было. Легко быть честным и правильным, когда у тебя есть Ясная Поляна, графский титул и целый дом в Москве. А вот каково, если твой дед, хоть и духовного звания, землю пахал в глухом селе? Отец только выбился в надворные советники – а тут тебе указ: не давать надворным потомственного дворянства, извольте аж до генерала карабкаться. Каково? Хорошо хоть Владимира третьей степени выслужил… Вот кто был герой, а не эти… радетели народные с Малой Бронной. Без чинов и денег дома не построишь, а деньги и чины романтиков-идеалистов не любят. Дом на грехе зиждется.
– Потому и непрочен. Ты строишь дом и поселяешь в древесине червяка.
– Червяка извести – это уж дело потомков. Вот вырастешь нравственным и изведешь червяка, для того и воспитываем в благонравии. Ты русскую историю проходишь, должен знать, на чем наша Москва стоит. На грехе Ивана Калиты. И перед татарами подличал, и братьев родных предавал, и города русские жег. А царство стало Московское. Или Рюрика возьми. Кто он такой? Разбойник с большой дороги из варяг в греки. Купцов новгородских истерзал грабежами да убийствами, пока не сообразили призвать на княжение, чтоб от других разбойников оборонял. И так все царства основаны – все первые князья да короли разбойники с большой дороги. Дворяне столбовые предками хвастаются, полководцами да министрами, а ты покопай каждый род до основателя дома – непременно подлеца найдешь.
– А что ж ты сам дворянству радуешься?
– Пройдет четырнадцать колен, станем и мы, Фелициановы, столбовыми, кто тогда вспомнит, что какой-то пращур от знатной особы богатство и чины добывал? Даже имя забудут. А ты или Сашка, Николай или Левушка род прославите, и, вспомнив слово Фелицианов, на вас будут указывать, а не на меня, грешного. Так червяк и изводится. Гаврила Пушкин Федора Годунова предал, к Отрепьеву переметнулся, а настал черед Александра, и кто теперь про предателя Пушкина помнит? Хотя сам-то Александр Сергеевич ничего из истории не утаил, показал подлеца и клятвопреступника. А его слава на все будущие века род Пушкиных очистила от скверны. Вот так-то, – заключил отец, – как в Священном Писании сказано, не судите, и несудимы будете.
Праздник жизни
Юность, юность, счастливая пора, праздник жизни… Если она такая счастливая, то почему ж волны стыда заливают с ног до головы, едва вспомнишь, какие глупости творил в этот «праздник жизни»?
Только к седьмому классу Жорж перестал дичиться сверстников. Он всматривался в свое одиночество, которое возвышало его в собственных глазах, а в последнее время почему-то перестало спасать в классе. Он не сразу заметил перемены в товарищах. Теперь это была не дикая орда, готовая на любые пакости, неразличимая в лицах, злая и признающая над собой лишь физическую силу. Вдруг оказалось, что не он один мается одиночеством. Костя Панин тоже одинокий. И Валерьян Нащокин одинокий. И Липеровский. И даже «сознательный» Смирнов. Внешне эти одиночества проявляли себя неимоверной спесью, довольно смешной, если посмотреть со стороны. И Жоржу вдруг стало стыдновато, он увидел себя отраженным в карикатурном освещении. Тут еще попалась в руки «Обыкновенная история» Гончарова – она обожгла позором. Он ведь мерил на себя мундир Печорина, а на ощупь-то оказался пестрый фрачок провинциального романтика с давным-давно прописанным смиренным будущим. Так что незаметно Жорж сбросил свою былую спесь и даже с иными из одноклассников сдружился.
В ту пору ни один русский гимназист о себе не пекся. Все помыслы были о несчастном русском народе, который надо любить, – и Жорж тоже полюбил, как все, меньшого брата, которому надо немедленно протянуть руку помощи, просвещать. Социал-демократ Илларион Смирнов считал, что мало просвещать, а надо вести на борьбу, и на баррикадах. А Костя Панин хорошо помнил, к чему привела эта борьба в пятом году – их имение в Самарской губернии разграбили свои же мужики, но перед Смирновым не смелось как-то признаваться в страхах, и возводились теории, которые Смирнов, презрительно оттопырив губу, называл обывательскими и реакционными. А словечко «обыватель», да еще и «реакционный», было оскорбительнее самых гнусных ругательств. Ничего себе – человек любит народ, хочет нести ему свет знаний, а его тут же и клеймят, припечатав на лоб, как «вор» в екатерининскую старину, – «обыватель».
Сам Жорж все никак не мог определиться в политических симпатиях, ему одинаково претили и монархисты, каковым был родной отец, и разного рода революционеры. Отец – вот ведь курьез! – запретил ему покупать «Историю культуры» Петра Милюкова, чтобы не заразился революционным духом. Было и смешно, и досадно. Ее ж сам Покровский, учитель словесности и классный наставник, рекомендовал. Какой может быть революционный дух в истории культуры? Да и кадеты не такие уж ниспровергатели императора, они только конституции хотят…
– Сегодня им конституцию подай, а завтра – всю самодержавную власть.
– Ну и хорошо. Давно пора в России умным людям править. Царь у нас сам знаешь какой.
– Не в царе дело. Дело в устройстве государства. Мужик не знает и не должен знать, что у его величества в голове творится, умные мысли или ветер гуляет. Только колебать престол – как бы беды не вышло. Революция – детская болезнь вроде кори. В свое время сотрясет организм и пройдет бесследно, как у меня после гимназии – я тоже Добролюбовым да Писаревым бредил, пока не понял, куда они заведут, эти радетели народные… А если застрянет в башке детская болезнь – верная гибель. Ни дела своего не сделаешь, ни революции не свершишь, а так и помрешь старым дураком на каторге. Учился со мной один – Залепухин. Со второго курса влез в какие-то кружки, босой бегал в народ, вместо университета – ссылки да тюрьмы, и никакого врача из него не вышло, да я б такому и инфлюэнцу лечить не доверил. Ну и что? Встретил я его однажды – нищий, голодный, рубля не в состоянии заработать. А глаза горят, речь выспренняя, все об угнетенных мечтает. Как он им свободу даст. Только что эти угнетенные на свободе делать будут, это ему невдомек. Мало ему грабежей в пятом. Доверь таким залепухиным хоть на неделю власть – всю Россию по миру пустят. Не верю людям, которые сами себя прокормить не могут. Эти оболтусы думают, что царя-дурака прогонят, усядутся на престол, а дальше все само собой к благоденствию покатится. Дудки-с! Власть – это ответственность. За каждым глаз да глаз нужен. И забота. Я вот статский генерал, директор. А если у меня санитарка с немытыми руками новорожденного схватит, а он от нее заразу какую подцепит – я виноват. Императрице не объяснишь про невежду санитарку, сверху ей только моя голова видна, а значит, это я заразил ребенка. Да, я тиран, я этих санитарок да фельдшериц в ежовых рукавицах держу. Но и забочусь о них. И учу, и кормлю, чтобы место свое ценили… А болваны залепухины хотят всей Россией управлять. И либералы вроде твоего Милюкова им подсвистывают. Рухнет все, а обломки им же на головы повалятся.
Правда, книгу проклятого либерала в конце концов купили.
Все-таки, если подумать, истина в отцовском брюзжании кое-какая есть. В гимназии революционерами были почему-то одни плохие ученики. Дай таким власть – действительно, всю страну разорят по невежеству. Но власть для них настолько далека и невероятна, что можно, не боясь никакой ответственности, поякобинствовать в уборной, затягиваясь тайной папироской. Так ведь и в жизни Робеспьера были годы, когда власть в самом сладком сне не снилась. А в пятом-то году и у нас трон едва уцелел, как считает тот же Смирнов.
Жорж не доверял гражданским страстям Смирнова и всего этого кружка революционеров, «сознательных» вокруг восьмиклассника Льва Кирпичникова, который хвастался между своими, что в декабре пятого года убил из пистолета городового. Врал, наверное. Но Жорж однажды представил себе вдову того несчастного полицейского из нижних чинов, обрушившуюся на нее нищету, и ему стало противно. А Кирпичников с оголтелым упорством нарывался на неприятности, видел себя героем, исключенным из гимназии с «волчьим билетом», но мудрый директор не обращал внимания на дерзкие выпады скорого выпускника – много чести.
И не надо дожидаться никакого апреля! Весна – это не время года, это мироощущение. Легкий-легкий морозец, небеса пронзительно голубые, снег отливает абрикосом, если под прямыми солнечными лучами, и голубизной в тени, а деревья на Патриарших прудах опушены инеем, и от всего этого кружится голова и грудь распирает богатырская сила. Жорж недавно научился делать прыжок в два оборота, его носит по катку пошленькая мелодия венского вальса, но сейчас с ней такое согласие, такт попадает в такт, и Жорж чувствует на себе пристальный взгляд кокетливых карих глазок, но он терпелив, он точно знает, что еще надо дня три-четыре перетерпеть, дождаться, когда кареглазое любопытство перехлестнет через край, и тогда…
А что тогда?
Там видно будет. А пока Жорж изредка поглядывает на гимназистку в синей шубке, делая при сем равнодушный вид; конечно, она не одна, с некрасивой подружкой, о чем-то хихикает, прелестным жестом прикрывая пунцовый рот пуховой варежкой.
А перед уходом, непременно раньше нее, Жорж бросает пронзительный взгляд на незнакомку и исчезает, у него все рассчитано, он заранее наметил выход из сквера, где будет недоступен этим прелестным глазкам, а сам сможет наблюдать ищущий, чуть раздосадованный взгляд.
На второй день Жорж уламывает пойти на каток неуклюжего Валерьяна Нащокина, мол, мы тоже умеем создавать контрасты. Никаких кунштюков на льду Жорж на этот раз не демонстрирует, они с Валерьяном чинной парою катаются вдоль сугробов, опоясывающих каток; Валерьян гудит своим басом о диалектике Гегеля, но, когда приближаются к подружкам, его речь становится на диво членораздельной и громкой. К имени Гегеля добавляются Кант, Фейербах, Шопенгауэр, Ницше… Жорж в эти моменты подает реплики, как ему кажется, едкие и остроумные, и тоже громче, чем надо.
И тут Валерьян грохается с размаху на лед под хохот подружек. Вот тебе и Кант с Фейербахом! Жорж помогает ему подняться на ноги, но Валерьян от смущения никак не может обрести равновесия, и его позор завершается бурной ссорой. На голову Жоржа сыплется тысяча упреков в том, что он еще не дорос до подлинной философии, что он дешевый фат и прожигатель жизни. Жорж обычно терялся, когда его атаковали в споре, ему недоставало быстрой реакции и злости, он начинал оправдываться, мямлить, а Валерьян лишь у подъезда своего дома снисходительно прощал отступника от святого дела любомудрия. Тщеславные молодые люди очень ценят побежденных.
Но больше Жорж Валерьяна на каток не приглашал. Он там встретил Костю Панина, своего соперника в звании первого ученика. Поскольку Костя в младших классах был большой забияка, Жорж в гимназии с ним почти не общался. А ведь напрасно. Две страсти было у Панина, на первый взгляд несовместимые: электротехника и поэзия. Ну электротехникой Жорж оставил развлекаться Косте, он в ней разбирался слабо, поскольку точные науки одолевал с трудом, насилуя механическую память. Зато с поэзией Панин удивил: в этой области он оказался гораздо эрудированней Фелицианова, выискивал новые стихи в самых немыслимых изданиях, мог часами читать наизусть Брюсова, Мережковского и московскую знаменитость последних лет – Андрея Белого. Но выше всех Костя ценил Блока.
– Блок угадал воздух, – утверждал Костя. – Не химический состав, как думают примитивные люди, а склад мыслей и чувств нового столетия.
Витиевато сказано, но объяснять не надо, Жорж понимал Костину правоту. Он сам додумался до схожих положений, правда, относил их не к поэзии, а к музыке. Скрябина, конечно. В поэзии все-таки путаются слова с их буквальным смыслом, а музыка чиста, она – сама стихия.
К музыке Костя был глуховат, зато Жорж, слегка влюбленный в свою учительницу, студентку консерватории, постиг с нею новации композиторов двадцатого века и невысказанное влечение к насмешливой и надменной блондинке перенес на Рахманинова и Скрябина. Скрябин, конечно, современнее Рахманинова, это Бах начинающегося столетия. А Рахманинов – Моцарт. Жоржу пришла идея проверить правоту Костиных утверждений.
– Давай устроим на Пасху литературно-музыкальный концерт. Ты читаешь стихи, я играю Скрябина.
– В этом что-то есть. – Идею Костя оценил, но он был еще и практик и никогда не рвался осуществлять счастливую мысль сразу. – Надо подумать, тут ведь и опозориться недолго. Строчку забудешь – и вот вам провал. Как в пору Тредиаковского говаривали, «вместо виктории полная конфузия». Так где твои девушки?
– Наверно, уроки еще делают, алгебру учат. – Сам же и расхохотался, живо представив себе, как мучается смазливая гимназистка над скучным томом А. П. Киселева. Костя только усмехнулся, он-то еще не видел красавицы, расписанной Жоржем, когда тот уговаривал пойти на Патриаршие.
Каток был пока малолюден: несколько младших гимназистов толкались на льду да разминался знаменитый фигурист Пискарев. Девицы появились со стороны Ермолаевского переулка, когда Жорж и Панин проделали с десяток кругов и уже подумывали, не пора ли по домам.
Да, Костя не Валерьян. Этот не стал возводить башен слоновой кости, рассуждая о высоких материях, он смело подъехал к подружкам и брякнул, вдавив Жоржа в густое смущение:
– А вот мой друг утверждает, что полчаса назад вы читали учебник алгебры Киселева и очень по сему поводу страдали. Он угадал?
– Нет, мы читали историю Иловайского и вовсе не страдали. Это очень интересно.
– Какая жалость! А я собрался, как рыцарь, спасать вас от плохой оценки по математике.
И далее в том же роде. Костя блистательно владел жанром пустякового разговора. Кроме того, он был благороден и сосредоточил атаку своего обаяния не на Юлечке Вязовой, а на подружке – Машеньке Трегубовой. Она оказалась не так дурна собой, как представлялось поначалу Жоржу: Юлечкина яркая красота застила ему глаза на все вокруг, он был не в силах оценить задумчивую прелесть Машеньки, девушки замкнутой, сосредоточенной на себе. Жорж принял ее скованность за комплекс дурнушки – ничего подобного. Костя как в сердцевину водоворота попал, когда увлекся Машенькой, начался мучительный многолетний роман с неописуемыми восторгами и столь же неописуемыми трагедиями, Панин даже с собою кончить собрался году в одиннадцатом, Жорж пришел к нему «не вовремя» – тот уже стоял на стуле с веревкой, укрепленной на крюке от люстры, только и осталось – отпихнуть от себя стул.
Но это все будет невесть когда, а с катка они идут, разбившись на пары, и Юлечка воркует о том, что у нее строгие мама и папа, что ее младшая сестренка Раечка – такое прелестное дитя, что, когда подрастет, затмит своей красотою и ее, Юлечку, а еще она умненькая, в гимназии учителя не нахвалятся, а всего-то второй класс. О чем говорят Машенька с Паниным, им не слышно, им не до того. И как жаль, что дорога кончилась: Юлечка и Машенька живут в соседних домах во Вспольном переулке. Юлечка на углу со Спиридоновкой, а Машенька в особнячке под старину напротив.
По обратной дороге Костя, этот практический человек и большой тугодум в делах, вдруг воодушевился планом пасхального вечера в гимназии. Надо на него пригласить старшеклассниц из медведниковской, я уже Машеньке забросил эту идею, она обещала договориться с классной наставницей, может, что и выйдет из нашей затеи. Одного Блока, пожалуй, мало будет, я уже набросал в уме поэтическую программу, надо еще Андрея Белого, Зинаиду Гиппиус включить…
Жорж был обескуражен таким напором друга, он, честно говоря, настолько забыл о собственной затее, что не смог даже включиться сразу в бурный поток панинских идей.
Словесник Покровский с лету подхватил предложение Фелицианова и Панина, он тоже загорелся, вовлек в организацию вечера Шеншина, Миклашевского, Цветаева. Последний предложил и выставку в актовом зале устроить – искусство двадцатого века должно предстать во всех проявлениях. С помощью отца он уговорил одолжить на неделю работы Сомова и Головина. Удалось даже добыть эскизы новых, еще не завершенных строений Франца Шехтеля и Льва Кекушева.
О, этот вечер всех искусств нового столетия в пасхальную неделю 1907 года был звездным часом в жизни Жоржа Фелицианова. Удивительно, дома ему не давались «Прелюдии» Скрябина, тут виртуозная техника требовалась, а себя Жорж справедливо почитал дилетантом. И что на него тогда нашло? Даже строжайший судия Шеншин – и тот потом долго тряс руку, его речь захлебывалась, как всегда в минуты волнения. А Жорж с изумлением разглядывал свои неумелые пальцы – как им дались скрябинские пассажи?
А когда почти через год, накануне Рождества, попытались повторить успех, ничего не вышло. Жорж вызвался читать стихи, выучил сонеты Брюсова и осрамился: встав перед аудиторией, он обнаружил поглощающую пасть всеобщего внимания, его парализовал страх настолько, что брюсовские строки вылетели из головы. Он задыхался, как рыба на песке. Этот избитый образ вдруг обрел над ним силу почти физическую – нет ни воздуха, ни пространства перед тобой, один ужас позора. А за роялем… Лучше бы не садился. Весь настрой пропал, и всем стало очевидно, что прошлогодний успех – чистая случайность.
– Забыл, – выдавил из себя Фелицианов и чуть не плача убежал в коридор.
Позор второго вечера искусства нового столетия затмил гордость от первого и на много лет вперед гнал прочь все воспоминания о тех днях. А первый поцелуй?! О, вспоминать о нем еще постыднее.
Ну конечно, чертово либидо, как было вычитано позже у профессора Зигмунда Фрейда, подвигало то на отпетую наглость, то на постыдные унижения перед ничтожными, как спустя время выяснялось, девицами. Впрочем, тут он мало чем отличался от своих сверстников – пыжились все, каждый по-своему, но в конечном счете были одинаково нелепы, смешны и глуповаты. В их возрасте и начинается раздвоение личности. Душа, начитавшись прекрасных стихов, сотворяет идеал неземной красоты, подставляя смазливое личико прелестной Юленьки Вязовой, а похотливая ручонка в запертом туалете блудит, возбуждая «пред мысленным взором» картинки самого грязного разврата с тою же Юленькой. И вместе с облегчением плоти приходит жаркий стыд, и вечно даешь себе вечно нарушаемое честное слово, что никогда больше такое не повторится. И мрачно завидуешь страстному философу, Савонароле Седьмой московской гимназии Валерьяну Нащокину, до блеска в глазах очарованному стихами о Прекрасной Даме Косте Панину – уж они-то никогда такого срама не допускают. И даже Иллариону Смирнову, помешанному на мечтах о революции, – едва ли они совместимы с рукоблудием в запертой уборной.
Юленька держала Жоржа на почтительном расстоянии, но от себя далеко не отпускала, у нее было какое-то природное кокетство, чувство любовной интриги. Она благосклонно принимала стихотворные послания, внимательно слушала пространные тирады Жоржа обо всем на свете, и ему казалось, что она умна и образованна, хотя собственных Юленькиных суждений ни о современной музыке, ни о поэзии услышать так и не довелось: за ум принималось ее прилежное молчание и веселый смех, если ему на язык попадала нечаянная острота. Жорж вдохновлялся от собственных слов, его заносило, но бдительные руки вроде как незаметно подкрадывались обнять за талию, однако ж еще более бдительная талия не давалась, девушка вдруг становилась строга и неприступна.
Опытный человек Митька Сальников, встретивший их однажды в переулке и на этом основании выпытавший у Жоржа тайну его трудных отношений с Юленькой, дал авторитетный совет:
– Ты, Фелицианов, дурак. Девушка давно ждет от тебя поцелуя. Вот увидишь, после поцелуя никуда она от тебя не денется.
– Она же не даст. Ни одна гимназистка Чернышевского толком не читала, а его дурацкую мораль «умри, но не отдавай поцелуя без любви» наизусть знают все.
– Ну, конечно, может тебя оттолкнуть, но, если проявишь напор, поддастся. Поверь мне, я знаю женщин.
Митька женщин знал. Он, говорят, даже дурную болезнь подхватил в публичном доме на Трубной улице. Слухи об этом Сальников не опровергал, а только подсмеивался.
Прав оказался Митька-сердцеед. Да только что радости?
Дело было в пору экзаменов, теплый июнь стоял на дворе. Жорж и Юленька встретились в Петровском парке. Учебники и тетрадки были у каждого, и Жорж вбивал в Юленькину прелестную головку законы Ома – для полной цепи и для отдельного участка цепи – и жалел, что нет рядом Кости Панина, тот бы растолковал этого чертова Ома в два счета. Правда, с четвертой или пятой попытки объяснения сам понял и обошелся без Кости, на седьмой, что ли, раз и Юленька усвоила и смотрела на умного Жоржа благодарными глазами.
И, поймав ее благодарный взгляд, Жорж решительным ударом сбросил учебники и тетрадки со скамейки, обнял Юленьку и впился в нее, оторопевшую, губами. Она же замкнула рот, мычала, билась, но вдруг и впрямь сопротивление иссякло, и Юленька раскрыла измученные губки…
А Жорж в тот же момент почувствовал непредвиденно сильное возбуждение, боль, мгновенное семяизвержение и позор, позор. Он выпустил Юленьку из объятий, а ее лицо полыхало гневом:
– Мужлан! Мне же больно! Не смей подходить ко мне!
И собрала с земли тетрадки и книжки и убежала прочь, оставив Жоржа краснеть от стыда, страдать от невыносимой боли, которая будет преследовать его недели две.
Это ж когда он поймет, что всего-то навсего у обоих произошло половое созревание, что надо было просто погладить, утешить, успокоить новым поцелуем… А тогда, тогда Жорж надолго был оскорблен собственным организмом. Юленьке он больше не звонил по телефону, он даже ступить во Вспольный переулок не мог и старался обойти его, если дорога пролегала с Тверской к Малой Никитской.
Москва город маленький, через год в фойе консерватории, в буфете, Жорж присел за стол с чашечкой кофе, отпил глоток, услышал:
– Здесь свободно?
Оглянулся – Юленька.
Разумеется, она была не одна, с молодым жандармским офицером, тоже, кстати, Жоржем, легкая болтовня ни о чем, хотя оба Жоржа были напряжены и смотрели друг на друга с изрядной долей вражды. Фелицианова даже оскорбило то, что он оказался тезкой с молодым жандармом, не любил он этих господ, добровольных служителей зла. Когда прозвенел звонок, Юленька шепнула: «Позвони мне, пожалуйста. Завтра же».
Позвонил, одолев трезвый предостерегающий голос разума. Юленька расщедрилась на рандеву на том самом месте, где когда-то познакомились. И опять одолел трезвый предостерегающий голос разума, чтобы получить из уст Юленьки новость – она помолвлена с жандармским поручиком Нежинским – и упрек: чего ты тогда испугался, глупый, ведь ты мог стать моим избранником.
А насмешливая судьба сыграла с Жоржем шутку еще спустя лет пять. На том же катке на Патриарших прудах он был ослеплен веселым кокетливым взглядом гимназистки-старшеклассницы, очень похожей на Юленьку, только свежее и ярче. Это ее сестрица подросла, Раечка. Их знакомство и началось с догадки, Раечка, конечно, начисто забыла когдатошнего поклонника старшей сестры, но по законам женского кокетства, конечно, не призналась, и был милый вечер в кондитерской с пирожными и шоколадом фабрики «Эйнем». Короче, Жорж, уже давно студент, взрослый, солидный человек, потерял голову, влюбившись в это прелестное созданье.
А нежная Раечка тоненькими ниточками сплела надежную сеть, она не отпускала от себя Жоржа, но, но, но… Но никаких излишеств не позволяла и до первого поцелуя долго не подпускала. Оставь надежду навсегда – кокетливая складочка на чистом лобике ее изображала сию Дантову истину.
Мимолетное
Жорж пересек Зубовскую площадь и понесся дальше. Он опаздывал. Уже без пяти, а в три в Большой аудитории Высших женских курсов начинал лекцию приехавший из Петербурга профессор Овсянико-Куликовский. Жорж летел на встречу со столичной знаменитостью, летел и не видел перед собой ничего и никого и вдруг как о столб ударился.
Ему навстречу шел старичок, довольно простецкого вида, каких немало встретишь у каждой церковной паперти, хотя на нищего был не похож, одетый без затей, но аккуратно – под поддевкою рубаха навыпуск, брюки заправлены в сапоги хорошей кожи.
Жорж встал как вкопанный, неприлично уставившись в прохожего старичка. Он, кажется, и рот разинул. А старичок посмотрел на него насмешливо, но тут же нахмурил густые брови и сказал очень строго:
– Ступайте с Богом, молодой человек.
Жорж смутился, покраснел до корней волос и побрел своей дорогой медленно и нехотя, все время оглядываясь, пока старичок не свернул в Олсуфьевский переулок.
Каким пресным оказался столичный профессор после внезапной встречи с Львом Толстым! А может, обознался? Этот вопрос всю жизнь потом мучил Фелицианова, и он боялся дать на него ответ.
Три революции
Как странно, он уже был большой, почти юноша – пятнадцать лет, но, когда годы спустя читал про первую русскую революцию, очень удивлялся, что, кроме декабрьского восстания, почти не заметил ее главных событий. А ведь это новый, двадцатый век постучал в двери профессорской квартиры. Крепка тогда была дверь, и громы века доносились лишь из окна. А были и расстрел рабочих с петицией царю 9 января, и стачки, и бои, броненосец «Потемкин» в июле, октябрьские похороны революционера Николая Баумана с шумными демонстрациями, и восстание на крейсере «Очаков» в ноябре. Но Жорж тогда никаких газет не читал, и все подобные известия прошли мимо его внимания. А ведь в том же октябре во время забастовки несколько человек из старшеклассников бегали по улицам с пистолетами, и вся гимназия только и говорила об этом. Правда, это были ученики седьмого и восьмого классов, пятиклассник Жорж взирал на героев с любопытством и некоторой опаской – он хорошо помнил издевательства прыщавых верзил над малышами: почему-то революция рекрутировала в свои дружины именно такую публику.
На юг прособирались до июля, сняв на всякий случай дачу в Петровском парке, да так там и застряли. И только много лет спустя Жорж понял почему. На юге, в Крыму особенно, было неспокойно. Но Жорж тогда никакой политикой не интересовался и папиных страхов не понимал. Он с тревогой ждал осени, когда начнутся занятия в гимназии – пятый класс был очень трудный. Да так оно и вышло. Жорж привык учиться лучше всех в классе, получать даже четверки ему казалось унизительно, а пятерки доставались все тяжелее, особенно по ненавистной математике. Он сидел ночами, и бдения в конце концов кончились истерическими концертами. Психиатра вызвали. Тот поставил диагноз: неврастения – и посоветовал перевестись в пансион.
Вот уж чего Жоржу никак не хотелось! В гимназии у него друзей не было: еще в подготовительном классе он послушался папиного совета ни с кем дружбы не водить, чтобы не попасть под дурное влияние. Такая замкнутость породила насмешки и мелкие детские жестокости: то ударят исподтишка, то испачкают новый китель, то кнопку на сиденье парты подложат. И как раз беспризорные пансионеры больше приходящих – чистых домашних мальчиков – издевались над Жоржем. Попасть к ним в компанию? – нет уж, увольте!
Октябрьская забастовка и Манифест – нечто вроде каникул, прервавших постоянные мучения с уроками. Несколько волнений в гимназии, которые Жоржа не задели, даже особого любопытства не вызвали: активисты пытались принять участие в митинге, их оттуда прогнали – конфуз, да и только.
Декабрь застал врасплох.
Занятия в гимназии прекратились. Отец принимал больных только дома. Квартира погрузилась в полумрак – все шторы задраены, вместо электричества горят боязливые свечи. Дети слоняются по комнатам, не зная, чем себя занять. Николай, достигший пятилетнего возраста, с первых месяцев жизни отмеченный какой-то недетской суровостью, вдруг стал капризен и плаксив, как полуторагодовалый Левушка – самый младший из братьев. Жорж пытался воспользоваться перерывом и подогнать геометрию, но Сашка все время приставал с какими-то глупостями, так что пару раз пришлось его побить, и рев поднялся невыносимый: Сашка, Николай, Левушка – все трое на разные голоса и каждый по своему поводу… Родители были рассеянны, они тревожно вслушивались в звуки с улицы и на детей обращали мало внимания.
С улиц же слышались то хлопки ружейных выстрелов, то – в Москве-то, в первопрестольном граде! – пушечные залпы. И где-то совсем неподалеку, прислуга говорит, на Пресне, у Никитских ворот… Откуда они все знают? Скоро выяснилось. Сын кухарки Олюшки Павлик, которого с легкой руки Жоржа звали Пансой, с горящими пылким азартом глазами выбегает проходными дворами – ворота сторожит городовой и никого не выпускает – на Тверскую и каждые пятнадцать минут возвращается с новостями, услышанными от дворников, городовых, случайно забегающих в Старопименовский боевиков. И его теперь пускают в барские покои – мама и папа расспрашивают мальчишку – что делается, где…
Бои подходят уже к нашему дому – перестрелка все слышнее. Докатилось! Со двора слышен девичий визг: «Сатрап! Негодяй!» Выглянули в окно – казак на коне загнал во двор курсистку и стегает ее нагайкой. Отец послал швейцара прекратить безобразие.
В сумерках 17 декабря Панса вбежал в квартиру с криком, слезами, откуда-то текла кровь. Жорж испугался – такого обилия крови видеть еще не приходилось. Отец решительно отвел Пансу в операционную – самую большую в квартире комнату, куда никто из детей не допускался, даже почти взрослый Жорж.
Оказалось, Панса высунулся из переулка на Тверскую в момент самой горячей стрельбы, и пулей ему прострелило левую руку под локтем. Рана, отец сказал, пустяковая, кость не задело, а боль скоро пройдет. Панса все же не унимался, и рев его долго был слышен в доме, хотя мать давно увела раненого мальчика к себе на шестой этаж.
Новость сбила с ног.
Николай Второй отрекся от престола. В пользу брата Михаила, который, не успев стать Вторым, тоже отказался от престола. О войне все забыли. Москва сошла с ума от ликования. Демонстрации, митинги, головокружительные речи… В университете… Какие, к черту, занятия – весь университет на улице, все целуют друг друга, полное упоение свободой, равенством и братством.
Жоржа целую неделю носило по митингам, он впал во всеобщий восторг и кричал вместе с толпой таких же счастливых зевак: «Ура! Свобода! Пал ненавистный царский режим!» Это когда еще он опомнится, сколько горюшка хлебнет и будет не без стыда вспоминать, как непростительно глупо поддался ликующему ажиотажу. Что ему царский режим? Такой ли уж ненавистный? Слабый, глупый, дряхлый, но вот чтобы ненавистный? Да плевать ему было и на царя, и на его министров…
Зато на волне всеобщего счастья, поддавшись ей, такой радостной, пала неприступная крепость, Раечка Вязова. Они с Жоржем забрели в меблированные комнаты в красном неоштукатуренном доме на Живодерке, и там все само собою случилось.
Утром Жорж, проводив Раю, понесся, счастливый, домой, на Москворецкую набережную. Взбежал на крыльцо – что такое? Парадная дверь не заперта. И тишина в квартире. Никто не вышел навстречу. Странно. Жорж отворил дверь в гостиную, переступил порог – пустота. Пугающая пустота! Кинулся в спальню, в столовую, в папин кабинет – везде, везде пустота! Ни души. И вся мебель вывезена. На полах – квадраты и прямоугольники слежавшейся пыли, обозначившие обжитые за одиннадцать лет места шкафов, буфета, письменных столов, кроватей. В своей комнате Жорж обнаружил моток веревки и разбитую рамку от дедушкиного портрета.
– Мама! Папа! – Гулкое эхо по коридорам, вот и весь ответ. Вся их большая семья, прочно обосновавшаяся здесь, в директорской квартире, с прислугой, Левкиной гувернанткой исчезла, оставив о себе лишь слабый след. Мысли путались, глаза шарили по опустевшим обоям, – да нет, это наши обои. Подошел к окну – ветви липы в привычном рисунке накладывались на стену Московской электростанции на том берегу. Слабый снег порошил, устилая вечностью мостовую, лед Москвы-реки и парапет набережной.
Что делать? Куда кидаться?
Силы иссякли. Жорж оперся спиной о стену – унять головокружение, дрожь в ослабевших ногах, ноги не удержали, он сполз медленно на пол и так застыл, сидя, безвольный, бессловесный – ни на одной мысли не мог сосредоточиться.
Нет, все-таки надо попытаться, надо взять себя в руки. Руки слегка затекли, дав почувствовать жизнь, текущую в организме мимо сознания. Жорж осмотрел чуть вспухшие, покрасневшие ладони, слабую печать паркетных трещинок, как они тают на упругой коже.
Итак, вчера, в одиннадцать утра, шла вечная, не тронутая отречением царя от престола жизнь: горничная Соня подала завтрак – кофе, бриоши, овсяная каша по случаю Великого поста. Николай и Левушка ушли в гимназию, Сашка в институт. Отец с утра был не в духе, а когда он в духе? Мама заставила надеть шарф…
Ограбили? Убили? А как же я?!
Как я теперь один буду? Как теперь жить? В портмоне – мелочь на карманные расходы, в желудке – голод, учиться еще целых полтора курса. На что?
Презренный эгоист! Все о себе. Где мама, папа, братья? Может, они живы, может, им помощь нужна, а я о… да, о чем это я? Все о самостоятельности, свободе мечтал? На, лопай!
Голос надежды был слаб. Ужас – ярче. Жоржу представились окровавленные трупы отца, мамы, братьев – то с ножами, вонзенными в спину, то с перерезанным горлом. Да нет же, кровь должна была остаться. Отрезвив фантазию, Жорж вскочил на ноги – нет, слава богу, никаких следов насилия, борьбы – дом просто-напросто выметен подчистую.
Но легче не стало. Только яснее, что к жизни свободной, самостоятельной, так внезапно рухнувшей на плечи, он не готов. А Россия без царя готова? Почему-то и об этом подумалось.
В прихожей стукнула дверь, пугливый Жорж отпрянул в угол.
– Барин! Георгий Андреич! Эк я вас проворонил!
Антон. Дворник. Наконец-то, хоть одна живая душа! Жорж кинулся на голос, такой родной, как оказалось. Раечке, случись ее услышать, он бы так не обрадовался.
– А наши-то все в старый дом на Тверской подались. Только квартира там теперь другая, прошлая ваша занятая оказалася.
И стал путано, бестолково объяснять, как в спешке пришлось уносить ноги из казенной директорской квартиры. Жорж долго не мог его понять – радость, что все живы-здоровы, никак не давала ухватить нить рассказа, он переспрашивал дворника, перебивал новыми вопросами, наконец, картина более-менее прояснилась.
– Утром, как вы, барин, ушли, прибежал с выпученными глазами свояк мой, Максим Пахомыч, он тоже дворник, только в доме купца Салазкина на Таганке, на Швивой горке. Вдоль Москвы-реки бунтовщики из рабочих врываются в директорские квартиры, учиняют погром, а самих директоров как есть выволакивают, содют в тачки и сбрасывают в реку, прям в прорубь. И так идут по всем заводам, фабрикам, по управлениям. Того гляди, здесь будут. И его превосходительство Андрея Сергеича, как бродягу какого, да на тачке-то, да в прорубь!
Вот батюшка ваш позвонил по телефону господину Гиршману, стал в старую квартиру проситься, а она занятая уже. Но другую дали, там генерал какой-то съехал. Андрей-то Сергеич быстренько всех созвал, двух извозчиков наняли – и прям на Тверскую. А ломовых уж потом прислали. Все что есть собрали, свезли туда. И вы, барин, туда ступайте. Очень матушка ваша волновалась.
Вот тебе и радости революции и свободы! А в прорубь на тачке не угодно ли?
Жорж поплелся на Тверскую. По дороге он впервые почувствовал глухое раздражение против Раечки, хотя трезво понимал, что она-то здесь ни при чем.
Новая квартира была скромнее той, что покинули в шестом году.
Жорж выбрал себе отдаленную комнату – поменьше встречаться с папой: отец раздражен, краска гнева не сходит с лица, а это опять попреки, что столько лет пошли прахом, что надо было сначала кончить университет, а уж потом гулять по свету, и вот, допутешествовался, дождался: то война, теперь революция, и не кончится ли вообще в России университетское образование – хамам с тачками оно не надобно.
Отец был, конечно, прав. Время, счастливое время полноты сил и избытка замыслов, как-то бездарно растратилось. Ну да, поездил по Европе, видел пирамиды, добрался до Америки – и что? В памяти все смешалось, музеи, памятники, пирамиды – как после мучительного сна: тяжесть в голове и непомерная усталость. Вернулся, затеяли с богатым немцем издавать музыкальный журнал, даже сам напечатался в роковом тринадцатом номере – последнем, как оказалось: война, до журналов ли с германским подданным во главе? Недолгое земгусарство, слава богу и папиным связям, не дальше московских госпиталей, и только в прошлом году восстановился – вот и итог: двадцать семь лет, а жизнь как бы и не начиналась, даже университетского диплома нет. А Сашка уже обогнал его, тихий, старательный, а главное – терпеливый Копчик вот-вот защитит инженерский диплом, и по его курсовому проекту где-то под Смоленском строится мост через Днепр для переброски войск на Западный фронт. Война кончится, мост Александра Фелицианова останется.
А что останется от меня?
Рая была счастлива и его смятений не замечала. Она была в упоении, все вокруг радовало, ее бурная, безудержная энергия охватывала и Жоржа, он забывал дурные мысли, угрызения совести, их носило по номерам недорогих меблированных комнат, обставленных по-разному, но с одинаковой пошлостью, впрочем, до этого дела им не было, и наутро едва ли б Жорж мог вспомнить, какое дерево возвышалось в кадке между окнами, латания или фикус, какая бархатная скатерть покрывала стол, малиновая или лиловая. С хозяйками этих меблирашек Рая была вызывающе дерзка и с каждым разом смелее и насмешливее. Интересное дело, Раечка, эта недотрога и паинька, окончательно потеряла всякий стыд, она всюду демонстрировала их связь, и Жоржу часто становилось неловко за нее, он вдруг застывал в застенчивости, чего от себя никак не ожидал. А Раечка в бесстыдстве – назойлива. И еще – немножечко вульгарна.
Но ведь не было никакого намека на эту вульгарность зимой, когда так домогался ее! Или не замечал, устремленный к цели? Да нет, она была скромна, слегка надменна, а помышляла лишь о науке, чужой для Жоржа. Он съездил с ней пару раз на лекции профессора Колесовского в Петровскую академию, чуть не умер со скуки. Хотя профессор был в ударе, глаза сияли неподдельной страстью. А со стороны так несколько смешно: ну можно ли пылать страстью, разбираясь в строении колоска ржи? Это как надо настроить свою нервную систему, чтоб по такому поводу стулья ломать! Все ж колосок – не Александр Македонский. Но профессор завораживал Раеньку, она смотрела на него с преданностью невесты, и Жорж откровенно ревновал к ржаному колоску, к пышным профессорским усам, ко всей этой скучной для непосвященного науке. У него за пазухой одни лишь стихи Блока и долгие ассоциации по поводу Прекрасной Дамы.
Благодаря свержению царя и недельному прекращению лекций Прекрасная Дама победила. Похоже, что напрасно. Наделив ее чертами житейскую Раечку, Жорж перестарался. Стала угнетать ее неуемная страсть потому хотя бы, что утомленными утрами с ней решительно не о чем было говорить. Она зевала при имени Иннокентия Анненского, ее не трогали филологические изыски Андрея Белого и откровения футуриста Хлебникова. Словарем же девушка была небогата, и от нежного обращения «лапусик ты мой» Жорж готов был на стену лезть. Заводить прямые разговоры о женитьбе она вроде как побаивалась, однако ж намеки проскальзывали все чаще. Но тут любимый был тверд и бдителен – надо кончить университетский курс, нельзя столько лет сидеть на шее у отца да еще посадить на нее и жену, это не по-мужски. Рая смиренно соглашалась, только тяжело вздыхала.
К исходу мая эта связь стала тяготить Жоржа. По счастью, началась сессия, Жорж с преувеличенным усердием погрузился в науки, его сравнительный анализ «Афоризмов» герцога де Ларошфуко и «Опавших листьев» Розанова как предвестников революций под общим названием «Предрассветные и предзакатные сумерки просвещения» прогремел на весь факультет… Но всему бывает конец. Настал конец и экзаменам.
И опять – бурные ночи в номерах, опустошенные утра. А в июле настало нечто новенькое – Раечка начала устраивать сцены. Она рыдала, падала в обмороки, на первых порах перепугавшие Жоржа не на шутку, ревновала его к любому взгляду, брошенному на других женщин. Как назло, другие женщины стали притягивать Жоржа. А ведь еще в марте он не видел никого, кроме бесценной Раечки. Но вскоре Жорж начинал цепенеть при первых же слезах любимой, душа сворачивалась в куколку и посматривала на истерику злобным взглядом.
В октябре случилось то, что и должно было случиться.
– Я, кажется, беременна, – сказала Рая. И посмотрела Жоржу прямо в глаза, ожидая радости, что ли.
А Жорж смертельно побледнел. Страх обрушился в груди. Мысли смешались. «Этого еще не хватало!» – первая. И вторая: «Идиот! Что я наделал?» И почему-то: «Мне отмщение, и Аз воздам!» Все это никак не годилось для произнесения вслух, все отметалось и молоточком стучал вопрос: «Что ей сказать? Что ей сказать?» Наконец выдавил из себя:
– А ты уверена?
– Еще бы! Уже второй месяц.
– А что ж ты раньше молчала?
– Хотела убедиться окончательно. Да и сюрприз тебе поднести. Или ты не рад? Жоржик, лапусик ты мой, ты что, не радуешься? Я не вижу сияния на твоем лице. А я ведь так ждала этого мига. У нас будет ребенок. Мальчик – весь в тебя, высокий голубоглазый блондин. Или девочка. От нас с тобой может произойти только неописуемая красавица.
О господи! А кто будет кормить эту неописуемую красавицу? Мне еще черт-те сколько учиться, тебе столько же. Идет вой на, и конца ей не видно. С дипломом кончится отсрочка… Да и не готов я так сразу, ни с того ни с сего заводить семью, обрастать заботами.
Перетерпел Раечкины восторженные излияния, стал медленно осаживать, возвращать на землю. Нет, и слушать ничего не хочет. В мечтах она уже вышла замуж, поселилась в комнате Жоржа, ласковыми пальчиками затянула жгут на его шее… Лапусик ты мой!
Дома закрылся в кабинете с отцом.
– Папа, я пропал!
Отец, выслушав рассказ, не впал в ожидаемую ярость.
– Ну и дурак. В твоем возрасте пора соображать и предохраняться от таких сюрпризов. Но эта Рая… А почему б тебе не жениться на ней? Все-таки из приличной семьи.
– Какой там приличной – благообразные мещане.
– Они что, не дворяне?
– Да нет, я не о том. Дворяне, конечно. И, кажется, столбовые. Но воспитание, манеры, вкус… Ханжество и жеманство, особенно мамаша Ольга Леонтьевна.
– Ну благообразными мещанами ты нас с матушкой вон когда окрестил!
– Вы – другое дело. У тебя хоть чувство юмора есть, здравый смысл, а мама мудра, как змей. Да и сам я тогда порядочный был балбес и нес околесицу – юношеский бунт против взрослых. Нет, с семейством Вязовых родниться – упаси бог!
– Так не с семейством жить-то будешь. С Раисой. Она особа взбалмошная немного, да это пройдет.
– Нет, папа, ни за что! Она не взбалмошная, она форменная истеричка. И… и я убедился, это совсем чужой мне человек. У нас разные интересы. Да и рановато мне жениться. Я курса не кончил. Я не знаю, что мне делать. Как человек чести я должен был бы жениться, все-таки я кругом виноват, чего уж тут. Но как представлю… От ее сюсюканья по утрам всего передергивает. И тут же без перехода может безобразнейшую сцену закатить… Нет, нет, только не это! И что теперь делать, ума не приложу.
– Как что? Аборт.
– Да она в жизни не согласится. Она хочет этого ребенка.
– Больше-то она замужества хочет, чем ребенка. Она еще плохо представляет, что это такое – в наше время ребенка рожать. Приводи ко мне. Придется на старости лет за твои глупости расплачиваться.
Отец назначил Раечке прием на 26 октября. С утра Жорж направился на Спиридоновку. Улицы были мертвы. Откуда-то с Пресни все явственней слышалась стрельба. Из Старопименовского выскочил отряд конной полиции, обдав жаром лошадиного пота и матерной руганью, исчез за поворотом на Большую Садовую.