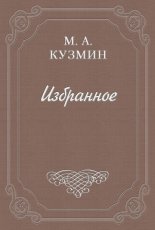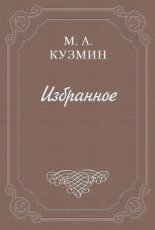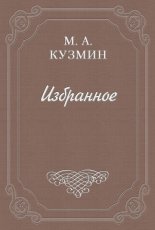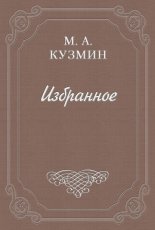Событие Гриндер Александра

«Так, не халтурим, не халтурим! Ручки держим повыше, и только попробуйте улыбнуться! Оксана, прижмись поближе к гробу! Чего ты от него шарахаешься! Никто тебя не укусит оттуда…»
Престарелая пионервожатая школы Зоя Мироновна явно испытывала удовольствие от происходящего: наконец-то в ее скучной школьно-пионерской жизни произошло Событие. Событие, которым можно было не только похвастаться перед подружками, но и отчитаться в горкоме комсомола. Во вверенную ей школу привезли цинковый гроб с недавним учеником-разгильдяем Сашкой Бойко, героически погибшим при выполнении своего интернационального долга в дружественном Афганистане. Двоечника и второгодника Сашку практически сразу после выпускного вечера и бойкого крымского лета отправили служить в армию, где он и попал сначала в учебку жаркой Кушки, потом военным бортом был отправлен в Кандагар и в первом же бою с душманами отдал свою неоперившуюся жизнь за чужую родину. Шел 1982 год.
Чтобы обставить Событие в самом лучшем виде, Зоя Мироновна решила превратить прощание с Сашкой в самое настоящее театральное действо. Молодые бойцы с автоматами Калашникова по обе стороны гроба, два пионера, непременно красивая девочка и умный мальчик, вскинув ручки в салюте, стоят перед бойцами, а группа напуганных девочек, занимающихся в танцевальном школьном кружке, в белых платьицах и с белыми лентами, изображая голубок, время от времени порхают перед гробом. «Пам-парам-па-па-рам, пам-парам-па – парам», – выбивают музыканты траурный марш Шопена, мать Сашки рыдает рядом в отчаянии, мимо в почтенном молчании проходят ученики школы и учителя, чьи зады еще помнят Сашкины кнопки, подложенные им на стулья, и все утирают платочками слезы.
Когда все было отрежиссировано и отрепетировано, Зое Мироновне пришла в голову интересная мысль. Она решила, что пионер и пионерка, стоящие возле гроба, непременно должны быть каким-то образом причастными к данному Событию. И если раньше, по задумке пионервожатой, стоять у гроба должны были два круглых отличника, то сейчас она стала разыскивать пионеров с «правильной биографией». А правильность биографии пионеров заключалась в том, чтобы кто-то из их родственников, папа или старший брат, в данный момент воевал в Афганистане. Чтобы дети не просто стояли, силой воли удерживая руку в пионерском салюте, а стояли и думали о том, что участь Сашки может постигнуть и их родных, чтобы детские лица выражали не только торжественность и гордость за оказанное доверие, но и трагизм, и осознанный ужас происходящего.
Директор школы одобрила идею лучшей пионервожатой района, и дело оставалось за малым – найти подходящих пионеров.
Мальчик – пионер, пятиклассник Серега Шульгин, чей старший брат служил сержантом где-то под Кабулом, нашелся легко. Вся средняя школа знала об этом героическом брате, поскольку письма и фотки от брата Серега исправно приносил в школу и на переменах громко читал их в рекреации, вызывая зависть пацанов и восхищенные взгляды девчонок.
Оставалось найти только подходящую пионерку, но, перебрав вместе с классными руководителями всех возможных девочек-пионерок, Зоя Мироновна никого не нашла. План ее был близок к провалу. И тут ангелом пришла на помощь учительница начальных классов Марья Дмитриевна, у которой в ее втором «Б» как раз училась подходящая девочка. Причем не просто подходящая, а Подходящая. У ее ученицы, самой младшей девочки класса, которой в октябре только стукнуло семь, «очень удачно» в Афганистане оказались в данный момент не только папа, но и мама. Ее папа – советник, уехавший на эту войну надолго, а мама, как его жена, должна была находиться рядом с мужем. Девочка жила с бабушкой и тетей, уговорить их, чтобы ребенок постоял рядом с цинковым гробом, не составило особого труда. И то, что девочке – второкласснице, октябренку, до пионерского возраста еще расти и расти, и то, что она доставала здоровенному пятикласснику Шульгину лишь до пояса, и то, что она больше всего на свете боялась мертвецов, никого не волновало…
В огромном школьном вестибюле ярко горели все лампы. Посреди зала, на длинном столе, затянутом красным сукном с черной каемочкой, поставили цинковый гроб с небольшим окошечком в том месте, где предположительно должно находиться Сашкино лицо. Нервный лейтенант, отвечавший за почетный караул, солдаты которого должны были навытяжку стоять у гроба рядового Бойко, отдавал короткие команды бестолковым подчиненным, не понимавшим, за какую такую провинность их сюда определили. Зоя Мироновна в торжественном черном кружевном платье, поверх которого кокетливо (под красные туфли) был повязан пионерский галстук, как заправский похоронный распорядитель тихим и жестким шепотом гоняла и лейтенанта, и солдатиков, и даже саму директрису школы. Сегодня был ее день. Ее Событие.
Заглянуть в гробовое окошечко хотелось нестерпимо. И было страшно до шевеления черных бантов на косичках. Еще ужасно болела правая рука, задранная над головой в салюте. А еще хотелось в туалет. Как всегда, когда очень страшно. Кроме этого, боковое зрение ловило автомат в руках солдата, стоящего за спиной Сереги Шульгина. Казалось, что сейчас автомат (он же настоящий автомат) начнет стрелять. И что тогда делать? Тогда меня убьют и тоже положат в такой же большой цинковый скворечник, и мама с папой не успеют приехать ко мне на похороны. Потому что из Афганистана «не налетаешься». Так говорила мама.
Вспомнился недавний Новый год, который мы отмечали с мамой вдвоем, потому что папа улетел в Москву «за назначением». Мама так сказала. В черно-белом телевизоре «бом-бом-бом» куранты отбили 12 раз, появилась надпись: «1980 год», и зазвонил «тр-тр-тр» телефон-вертушка, стоящий между папиными аквариумами и мамиными книгами. Мама подбежала, схватила трубку и закричала мне: «Иди скорее! Папа из Москвы звонит!»
Потом ее лицо побледнело, и она стала произносить непонятные фразы: «Летишь к Боре Комарову? Но почему? А как же Танзания? Как я могу в такой короткий срок Оксану куда-то определить? Интернат? Нет, только через мой труп».
Я тогда четко поняла, что в моей жизни закончилось что-то очень важное. Уже потом, когда я вырасту, то пойму, что в тот момент закончилось самая беззаботная пора детства и началась Другая жизнь. Еще, когда я вырасту, то узнаю, что «Борей Комаровым» называли Бабрака Кармаля, тогдашнего лидера Революционного совета Афганистана, и что меня хотели отдать в элитный интернат, где учились и жили дети родителей, отдающих свои самые разные интернациональные долги в самых разных уголках нашей Земли.
Но это все потом. А пока было просто очень страшно. Цинковый гроб обдавал ледяным холодом, мои синие тощие коленки покрылись мурашками, пионерская форма, взятая напрокат у соседки Ларисы, сидела на теле неудобным мешком, вдобавок смертельно затекла рука, задранная в торжественном салюте. Зоя Мироновна смотрела с неодобрением, ей не хватало трагизма в лице девочки. Проходя мимо нее, она злобно шипела: «Прекрати таращить на все свои глазищи, просто смотри грустно в одну точку».
Той самой одной точкой оказалась дырка на колготочной пятке одной из девочек, изображающих в танце скорбящих голубок. Танец поставили на скорую руку за одну репетицию, и девочки, до тех пор танцевавшие исключительно народные танцы пятнадцати республик, старательно изображали нечто среднее между медленным латышским народным танцем «Аййяла» и грузинским групповым «Ачарули». При этом они активно размахивали белыми шелковыми лентами, которые каждый раз улетали из непослушных пальчиков то в плачущую мать Сашки Бойко, то в грозного лейтенанта, меняющего своих солдатиков с автоматами каждые полчаса.
Дырка на пятке металась то вправо, то влево, подпрыгивала и делала очень смешные круговые движения, когда маленькая танцовщица-голубка изображала возвращение на Землю. И вот тут мне стало нестерпимо смешно, а потому в туалет захотелось еще сильнее. Так, как хочется, когда нестерпимо смешно, а смеяться при этом категорически запрещено.
Надо было подумать о чем-то очень плохом и очень грустном. Например, о словах бабки-соседки Клавдии Семеновны, которая сказала: «Все равно твоих родителей убьют в Афганистане. Вот увидишь. Будешь однажды возвращаться со школы, а на окошке вашем висит белое полотенце. Знаешь, почему вешают на окно белое полотенце? Чтобы все соседи знали, что в доме покойник…» От этих слов стало очень больно. Я тогда расплакалась и побежала жаловаться тетке. Она обещала поговорить со зловредной бабкой, чтобы та меня не пугала. И действительно, соседка больше никогда не рассказывала историй про белое полотенце, но с того момента каждый раз, когда я возвращалась из школы и поворачивала к нашей девятиэтажке, то от страха не могла поднять глаза на окна третьего этажа – вдруг оттуда свисает белое полотенце… И родители никогда не вернутся из Афганистана.
Мимо гроба и «почетного караула», как торжественная утка, гордящаяся своим особенным выводком, проплыла учительница Марья Дмитриевна. Ее распирало от осознания того, что это именно ЕЕ ученица стоит, задрав белую обескровленную ручку, возле Сашкиного цинкового гроба. Завтра она поставит девочке пару пятерок. Пусть порадуется и напишет своим родителям письмо в Афганистан о том, в какую почетную историю попала. А ей, Марье Дмитриевне, за особое отношение к дочери родители непременно привезут из далекой страны какую-нибудь диковинную штуку. Например, маленький автоматический зонтик. Японский. С кнопочкой на перламутровой ручке.
Марья Дмитриевна тоже осталась недовольна девочкиным лицом. Слишком измученное и бледное, но никакой торжественности в нем не просматривается. Устала, что ли? Так от чего тут устать? Всего пару часов у гроба постоять. Не в очереди же за курами стоит! И еще ученица зачем-то делала ей глазами какие-то знаки. Чего хотела? Но смысла разгадывать эти странные кривлянья учительница не видела – гораздо важнее подойти к директрисе школы и собрать бонусы за свою находчивость. Подумаешь, немного сымпровизировали, подправили несоответствующую правде историю и самую мелкую в классе (и по возрасту, и по росту) девчонку на пару часов приняли в пионерки. Зато как хорошо получилось! Оба родителя у нее воюют там, в нужном месте, значит, именно эта девчонка должна стоять у гроба. Ну, и зонтик, опять же, потом в благодарность подарят… Если, конечно, не привезут их в таких же цинковых махинах.
Писать хотелось уже совсем нестерпимо. Гораздо сильнее, чем когда смешно или страшно. Просто очень хотелось писать. Ей непременно нужно было на что-то отвлечься и зажать свободную от салюта руку в сильный кулачок. Такой кулачок, чтобы пальчики с обгрызенными ногтями намертво впились в ладонь. Сжала. Чуть отпустило. Кулачок маленький, но очень крепкий. И кулачок этот не раз влетал в нос обидчику или обидчице, если те вдруг пытались что-то отнять или обозвать «сироткой». Мало кто верил, что она на самом деле не сиротка. Какой такой Афганистан? Какая такая война? Война давно закончилась, Советский Союз победил, и нечего тут заливать про папу подполковника и маму, поехавшую воевать вместе с ним. Сиротка, и все тут.
Тогда черный гнев застил глаза, и в ход шло все подряд. Не только маленький сильный кулачок, но и лопатки, камни, палки… Многие мамаши приходили жаловаться к тетке, предъявляя той расквашенные в кровь лица своих отпрысков, бросая напоследок: «Звереныш, а не дите у вас». Тетка всегда обещала меня примерно наказать, но никогда этого не делала. Звала пить чай с хлебом-маслом и, чтобы приструнить, грозила: «Не возьму тебя в воскресенье в Ялту гулять». Но всегда брала, потому что к воскресенью все обычно забывала.
Оксане не верили, что она не сирота, даже тогда, когда девочка выносила во двор красивые «несоветские» открытки, которые из Афганистана в конвертиках «полевой почты» присылала мама. С изображениями либо милых котят, либо красивых девочек, наряженных в платьица неземной красоты. На другой стороне родители писали: «Дорогая наша девочка, этот котенок очень похож на тебя, мы тебя очень любим и скоро приедем». А сколько раз девчонки во дворе пытались выменять эти открыточки на что-нибудь другое! На серию календариков «Советский цирк», например, или на десять плоских крышек от Дюшеса. Но эти открытки были жестко несменяемыми. Правда, парочка все-таки пропала. Украли, наверное, девчонки…
Пам-пам-парам, пам-па-парам-пам-парам… вбивался в мозг каждому находящемуся в школьном парадном вестибюле траурный марш Шопена. Сашкина мать время от времени бросалась на гроб, пытаясь заглянуть в окошко и разглядеть то, что осталось от ее сына, который всего лишь какой-то год назад сводил с ума и эту самую директрису, и этих учителей, и торжественную, как пиковая дама, Зою Мироновну.
Лейтенант опять поменял солдатиков. «Пионеров» менять оказалось не на кого, второй пары с «правильной биографией» в школе не нашлось. Пока солдатики рокировались местами, пионерам разрешали ненадолго опускать застывшую в салюте руку. Серега Шульгин в этот момент начинал корчиться и строить такие трагические лица, что все понимали: «Да… парень настрадался… не зря его сюда поставили». А вот кнопка эта в пионерском мешке, как замороженная стоит, не шелохнется. Словно неживая. Только глазами вращает во все стороны и кулак зажала так, будто собирается врезать кому-нибудь.
Зоя Мироновна подошла к пионерам и с сожалением прошипела: «Еще полчаса, и гроб повезут хоронить. На кладбище вас решили не брать. Только солдаты поедут. Пионеры, увы, не нужны…»
Пионервожатая школы уже видела себя награжденной почетной грамотой за проявленную похоронную активность. Кроме того, она решила внести в райком комсомола блестящее, по ее мнению, патриотическое предложение: назвать безымянную школу № 3 Киевского района города Симферополя «Школой имени Александра Бойко, интернационалиста и воина, павшего в борьбе за светлое будущее».
«Так! Последний выход голубок!» – скомандовала Зоя Мироновна. Девочки в белых гимнастических трико и в коротких юбочках торжественно затанцевали перед гробом, размахивая лентами. Дырка на колготках одной из маленьких танцовщиц уже расползлась на половину пятки, поэтому взгляды почти всех «скорбящих» в зале то и дело невольно приковывались именно туда. Даже Сашкина мама на какое-то время перестала рыдать и уставилась на бесстыже сверкающую босотой пятку.
Последние полчаса стали самыми нестерпимыми. Описаться у гроба на глазах у всей школы – означало несмываемый позор до конца дней. И никакие кулаки ситуации не исправят. Рука в салюте ныла так, словно в нее впился миллион иголок. Солдатик из последнего караула, возвышающийся за спиной Сереги Шульгина, стоял с таким грозным лицом, что шансов на то, что он сейчас не передернет автомат, как в фильмах про немцев, и не выстрелит, практически не было.
Но самым ужасным оказалось не это. Оксане стало казаться, что в цинковом гробу начали раздаваться звуки. Какое-то постукивание, шуршание и треск.
«Может, Сашку Бойко и не убили вовсе, а он там живой лежит и слушает, что тут про него говорят? Или он уже превратился в какого-нибудь вампира и вот-вот собирается выпрыгнуть из окошечка, чтобы тут же вцепиться клыками в мою шею, чуть повыше повязанного чужого пионерского галстука?» – с ужасом думала Оксана.
Страх подкатил к горлу приступом непередаваемой тошноты. Справиться с ним оказалось невозможно. Из глаз девочки соленым потоком в три ручья потекли слезы. И уже ничего не было видно от этих слез. Ни танцующих голубок, ни дырки на пятке, ни черного платка матери Сашки, ни одобрительных взглядов Зои Мироновны и Марьи Дмитриевны… Мир превратился в гигантскую несправедливую и безжалостную карусель.
Я не помню, как добежала в тот день домой. Не помню, смотрела ли на окошко третьего этажа в надежде НЕ увидеть на нем повязанное белое полотенце. Не помню, похвалили ли меня за мою «почетную миссию» бабушка и тетка.
К вечеру у меня подскочила температура и началась лихорадка. «Продуло девку», – сказала бабушка и намазала мои грудь, спину и пятки противным скипидаром.
Но, несмотря на Событие дня, настроение у меня было хорошим. Во-первых, я не описалась у гроба, вовторых, заболела, поэтому завтра не увижу ни Зою Мироновну, ни Марью Дмитриевну, а, втретьих, моих родителей не убили в Афганистане.