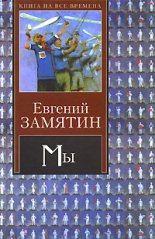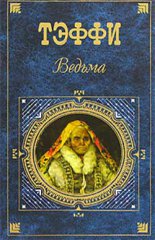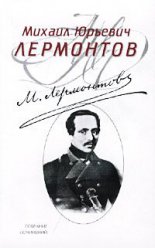Учитель Чехов Антон
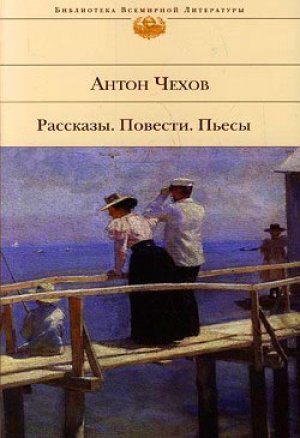
– Ну? – взмолился Мишата.
– Хорошо… – рассмеялся Нечай.
– А вот я еще пару поддам!
– Давай.
Вода зашипела на раскаленных камнях диким котом, и каменка выплюнула ее в стену сухим паром.
– Ох, держись! – Мишата снова макнул веник в кипяток, и его брызги рассыпались по спине, – неужели не жарко?
– Хорошо, – кивнул Нечай, жмурясь от счастья.
На этот раз брат быстро выдохся – побежал во двор, обливаться водой. Потом Нечай парил Мишату веником, потом они просто сидели на полке и вдыхали мокрый осиновый запах бани. Нечай поворачивал лицо к печке и чувствовал, как от камней волнами идет жар, и воздух от этого жара подрагивает и колышется.
– Рассказал бы, где был, что поделывал после того, как из школы сбежал, – вдруг сказал Мишата. Раньше он никогда об этом не спрашивал.
Нечай покачал головой.
– Думаешь, я про тебя думать буду плохо? – Мишата всмотрелся Нечаю в лицо.
Нечай снова покачал головой:
– Нет. Просто не хочу. Зачем тебе?
– Я тебя маленьким всегда вспоминаю. Ты совсем не такой был. Улыбка ясная такая, как солнышко… Вот и хотел узнать, где же это жизнь тебя так искалечила? Я ж тебе брат родной, как-никак, не чужой человек.
Нечай покачал головой еще раз – что бы он сказал Мишате? Да и язык бы у него не повернулся говорить о том, где он был и что делал.
– Эй, парень… – Мишата вдруг испугался, – а иди-ка ты отсюда подобру-поздорову…
Нечай не понял и посмотрел на брата вопросительно.
– У тебя кровь из носа течет. Допарился!
Нечай потрогал разбитый нос и посмотрел на пальцы – а он-то думал, это катится пот…
День седьмой
Щека плотно прижимается к сырой глине пола, Нечай лежит на нем ничком. В яме так тесно, что нельзя вытянуть ноги, зато потолок из наката бревен уходит вверх и теряется в полутьме. Нечай открывает глаза, услышав рядом странную возню: две тощие серые крысы с голыми, шелушащимися хвостами жрут кусок хлеба, который кинули ему через дырку в потолке. Как они попали сюда? Впрочем, никакой разницы… Одна из крыс замирает, чувствуя на себе его взгляд и медленно, угрожающе поворачивает голову. Блестящие выпуклые бусины ее глаз скользят по лицу Нечая – крыса его не боится. Она смотрит брезгливо, равнодушно, и готовится в любой момент отразить нападение. Нечай не хочет есть, он хочет пить. Он всегда хочет пить, наверное, поэтому не чувствует голода. Его рука лежит в трех вершках от куска хлеба, который невозмутимо грызут крысы. Стоит ли шевелить рукой ради этого куска? Нечай мучительно собирается с духом: боль притупилась настолько, что он сумел задремать, а малейшее движение снова разбудит ее – жгучую, свербящую и бесконечно долгую.
Все равно надо попить, а это гораздо трудней, чем подобрать кусок хлеба: зачерпнуть воды из ведра, которое кажется безмерно высоким, и не выплеснуть воду на пол, и поднести кружку ко рту…
Рука отказывается ему подчиняться. Он хочет приподнять ее, но рука не двигается. Нечай думает, что он уже умер, и рука теперь ему не принадлежит. Эта мысль бьется в голове паникой: он не хочет умирать. Он лежит в глубокой, тесной земляной могиле, и не хочет умирать! Из горла рвется мокрый клокочущий звук – вместо крика. Крысы перестают жевать и смотрят на него удивленно: что это тут тревожит их трапезу? Бешеная злость красными пятнами расползается перед глазами, Нечай стискивает кулак и изо всей силы бьет им по куску хлеба, надеясь задавить голохвостых мразей. Крысы проворно отпрыгивают в стороны и щерятся, словно собаки. Острая боль вспыхивает на спине, но Нечай не хочет ее знать, и бьет кулаком в оскаленную, двузубую морду, промахивается, бьет снова: кулак беспомощно тычется в пол. Крыса смотрит на него снисходительно, оскал исчезает, и обе твари прячутся в углу за ведром.
Теплая, немного колючая овчина под ободранной щекой кисло пахнет домом. Красные пятна еще ползают перед глазами, злость еще бьется в груди, часто и гулко отдаваясь в ушах. С баней он явно перебрал: сердце до сих пор стучит быстро и неровно.
Из всех воспоминаний это – самое страшное. Когда он бежал с солеварни, в колодках, с кандалами на руках, то не сомневался, что избавится от них, стоит ему только оказаться за стеной острога. Нечай так отчаянно хотел за эту стену, что она не стала для него препятствием. Он не прошел и десятка саженей, как его заметили с башенки на монастырской стене – цепи гремели на нем на всю округу. Тогда он ничего не боялся, кроме возвращения на солеварню, к бесконечно поднимающейся вверх бадье с рассолом, к тяжелому вороту со шлифованными рукоятями. Он не знал, что может быть хуже этого, но выяснилось – может. Намного хуже: кнут и яма.
Как он остался жив? Он не мог шевелиться, не мог глубоко дышать, даже стоны усиливали боль. И все время хотелось пить. Ему оставляли ведро воды на неделю, но достать из него воду было непосильной задачей. В яме было тесно, сыро и холодно, несмотря на летнюю жару. Особенно ночью, когда ни лучика света не проникало в махонькое отверстие в потолке. Раны гноились и с каждым днем болели все сильней. Он не считал дней, но воду в ведро доливали трижды, прежде чем Нечая вытащили наверх. Хотя он уже не сомневался, что его бросили тут умирать. В ранах на спине завелись черви… Оказывается, не нужно быть покойником, чтоб, лежа в могиле, стать их пищей. Червей быстро вывели «хлебным вином» пополам с уксусом, кое-где прижгли гнойники, и через полтора месяца Нечай поднялся на ноги – чтоб отправиться на рудник. Что ж, от бадьи с рассолом, ползущей вверх, он избавился…
Далекий монастырь был богат. Перед последним побегом до Нечая доходил слух, что земли, богатые железной рудой, у монахов собираются отобрать и поставить там завод с большими домницами. Монахи не хотели знать никаких новых начинаний, они и соль добывали, как триста лет назад, и низкие, мелкие домницы до сих пор раздувались ручными мехами, с одного края, отчего железо у них получалось плохое, нековкое, хрупкое, а варить чугун не хватало тепла. Царям требовался чугун, и государственные люди выискивали руду все дальше и дальше на востоке. А тут – разработанный рудник, и ветхозаветные способы добычи.
Нечай лежал и всматривался в темноту, вслушивался в мирные звуки дома и зябко кутался в тулуп, хотя печь дышала жаром. Сердце бухало так, что над ним вздрагивали ребра, болело лицо, и трещала голова. После ужина Нечай действительно часок посидел с племянниками, показывая им буквы, и теперь, чтоб отвлечься, начал думать об их обучении – мысли о ямах, рудниках и монастырских землях давили на него слишком тяжело.
Мишата посмеялся над Надеей, которая тоже хотела учиться писать, да еще и пустила слезы в три ручья, услышав, что ее дело бабье – вышивать себе приданое. Зато она слушала Нечая, затаив дыхание, в то время как мальчишки хотели немедленно начать портить перья и бумагу – запоминать названия букв им совершенно не нравилось. Нечай хорошо помнил, как учили его, и думал, что ему не составит труда повторить это на племянниках. Только в первый же час с детьми он понял, что принуждать их к чему-то ему не хочется, и зубрить названия букв – занятие глупое и скучное. Они хотели сразу: что-то прочитать, что-то написать. И Нечай успел показать им только аз и буки, как ему в голову пришло составить из них слово «баба». Племянники хохотали и карябали перьями по бумаге, а потом скакали по избе, показывая свои каракули бабушке и родителям. Груша тоже писала вместе с ними – лишить ее такого удовольствия не посмел никто, и Нечаю мучительно хотелось ей объяснить, что означает это слово, но он не находил пути.
В школе сначала выучивали все буквы, потом запоминали слоги, которые они образуют, и только потом из вызубренных слогов складывали слова, читая молитвослов. И слова в писании совсем не походили на то, как говорят люди на самом деле. Хоть Нечай и был хорошим учеником, ему до сих пор вспоминалось, с каким трудом азбука укладывалась у него в голове, какими непонятными и запутанными казались способы складывать буквы между собой, и как коряво звучали первые слова, которые ему удалось прочитать. Да он просто не понимал, что это означает!
Шум внизу отвлек его от воспоминаний – с сундука потихоньку поднялась Груша, но не пошла на двор, а начала наматывать на ноги онучи. Нечай не видел ее лица, только светлые полоски ткани в темноте, и слышал сосредоточенное сопение. Полева вешала свой полушубок при выходе в сени, чтоб дети ночью не ползали по дому в поисках своей одежды, и не скакали по холоду в одних рубашках. Там же она оставляла опорки. Однако Груша обулась в лапоточки – значит, собиралась не на двор, а дальше – в опорках далеко не уйдешь. Нечай услышал, что она надевает полушубок Полевы, потом скрипнула дверь и быстрые шаги застучали по лестнице с крыльца.
Он долго прислушивался, надеясь, что девочка быстро вернется, но так и не дождался. Зачем она ходит туда по ночам? Что она там делает? И почему не боится? Что она знает о тех, кто живет в лесу и ходит ночами вокруг брошенной бани?
Нечай задремал, ему казалось – ненадолго, но проснулся от шума в избе: Мишата собирал семью в церковь. Малые, разбуженные до света, хныкали, а старшие дети канючили хлебца. Но брат оставался непреклонным – к причастию надо идти голодными. О том, что перед исповедью положено поститься, он не догадывался, и Нечай не стал его огорчать.
Полева одевала деток в праздничные рубахи, причесывала русые, кудрявые головки, вытирала носы. Надея и Груша прихорашивались сами, заглядывая в зеркальце размером с ложку. Мама повязала на голову новый платок и тоже незаметно подошла к зеркальцу, надеясь там что-нибудь рассмотреть. Мишата начистил сапоги до блеска и повязал расшитый шелком кожаный пояс – его он надевал только по воскресеньям.
– Нечай! – потряс он брата за плечо, – пойдешь в церковь-то?
– Неа, – Нечай повернулся на другой бок.
А ведь Туча Ярославич обещал проверить… Ну и пусть проверяет. Спасибо Радею – отговорка есть.
– А что?
– Куда с такой рожей по улицам ходить… – буркнул Нечай, – и голова болит.
– У тебя каждый раз что-нибудь… – недовольно проворчал Мишата, но настаивать не стал.
Полева только обрадовалась – ей не хотелось брать с собой младшего мальчика, в церкви он неизменно просыпался и вопил. Оставить же младенца дома одного она побаивалась.
– Сыночка, какой же дьякон из тебя будет, если ты в церковь не ходишь? Люди-то что скажут? – мама не настаивала, просто спросила.
– Мам, ну не надо, а? Что люди скажут, когда меня с таким лицом увидят?
– И то правда… – с облегчением вздохнула мама, – и нога у тебя болит – куда ж идти-то!
Вообще-то про выбитое колено Нечай все время забывал, и вспоминал о нем только неловко спрыгнув с печки – лежа оно его не тревожило, но наступать на ногу было почти невозможно.
Когда, наконец, вся семья чинно вышла со двора, Нечай спустился вниз, умылся, выпил молока и сел за стол, писать отчет старосты. Только мысли его неизменно перетекали на обучение племянников, он часто останавливался, ставил подбородок на руку и посасывал перо. Если сегодня рассказать им про две следующие буквы, они ничего нового ни написать, ни прочитать не сумеют, а значит и не запомнят. Пока грамота для них веселая игра, надо успеть вбить в их головки как можно больше. Потому что потом начнется рутина и зубрежка, мальчишки быстро охладеют, и придется действовать совсем не так, как сейчас. Нечай вспоминал свое обучение, и морщился – ему вовсе не хотелось превратиться для племянников в злобного дядьку, раздающего щелчки и подзатыльники.
Нечай подумал, что бумаги, присланной старостой, на обучение племянников явно не хватит, и надо прикупить еще. Впрочем, учиться писать на бумаге слишком дорого. Да и грифельные доски не дешевле. И разница есть – писать пером или грифелем. В школе к скорописи переходили после того, как научались писать уставом и полууставом, и Нечай помнил, как тяжело оказалось перейти к тонкому, хрупкому перу после жесткого грифеля. Ведь писали когда-то на бересте? Чем хуже бумаги? Не отчет же боярину, детские каракули. Сам он на бересте никогда не писал, и не знал, будут ли на ней растекаться чернила.
Он возвращался к отчету, писал пару строк, и снова думал. А что если не заставлять их выучивать буквы подряд? Почему бы не рассказать им про букву Мыслете, тогда они научаться читать слово «мама»… И вообще, накануне урок прошел как-то сумбурно, неправильно. Поняли они вообще, что такое буква? Нечай отложил отчет в сторону, вытащил из стопки чистый лист бумаги и написал на нем букву Буки, уставом, полууставом, вязью и скорописью. Подумал, и рядом с ней нарисовал бочку и баню. А чтоб было понятно, что это баня, развесил над крыльцом веники и поставил под ними ушат. В школе его немного учили иконописи, но в этом он не сильно преуспел, хотя рисовал неплохо.
Идея ему понравилась, и даже захватила. Он долго вспоминал слова на букву Аз, но так ничего и не придумал, но буква была написана, и рядом с ней он нарисовал попа с отвислым брюшком и жидкой бороденкой. С буквой Мыслете вопросов не возникло – мак и узкий серп месяца в ночном небе. Наверное, это поймет и Груша… Во всяком случае, запомнит. Для верности Нечай сделал рисунки для буквы Како и Ша, с колодцем, кувшином, шапкой и шилом. Шило он нарочно взял у Мишаты в ящике с инструментами, чтоб с ним не вышло путаницы.
После обедни, которая у Афоньки почему-то отнимала не более часа вместе с причащением всего прихода, Мишата с Полевой шли на рынок, мама с малыми и девочками возвращалась домой, а мальчишки бежали играть на улицу, забыв о голоде. Нечай же с нетерпением стал ждать вечера – ему хотелось испробовать свои придумки на племянниках.
Обычно брат возвращался к обеду, но на этот раз появился раньше, без Полевы и гостинцев детям.
– Нечай, – махнул он брату рукой от порога, – иди-ка сюда. Поговорить надо.
– Случилось что? – тут же спросила мама.
– Нет, все хорошо. Просто поговорить надо, – притворяться Мишата не умел, и мама забеспокоилась еще сильней.
Нечай отодвинул отчет старосты и оделся – Мишата ждал его на крыльце.
– Пойдем в баню, что ли… не хочу, чтоб мать слышала, – он мялся и чесал в затылке.
Нечай не возражал. Только в бане сегодня было сыро и холодно, хотя печка еще не остыла и в котле оставалась теплая вода. Они сели на нижний полок, Мишата снял шапку и долго мусолил ее в руках.
– Ну? – не выдержал Нечай.
Мишата вздохнул и опустил голову.
– Слушай, братишка… ты никогда со мной не говоришь, но тут я должен знать… Скажи мне, только честно… Нет, ты не подумай, я тебя не выдам, и вообще – ты же брат мой. Если что, я тебя прикрою, так и знай…
Нечай обмер: не иначе, его ищут, и слухи об этом дошли до Рядка…
– Не томи, – хмуро оборвал он бессвязную речь Мишаты.
– Ты только не сердись на меня. Я правда… я тебя не выдам, но я должен знать точно.
– Да понял я. Да, беглый я, беглый. Я думал, ты и сам давно догадался.
Мишата поднял глаза и посмотрел на Нечая:
– Конечно, догадался… Я не об этом сейчас.
– А о чем тогда?
– Ты мне только не лги. Это правда, что ты и есть оборотень?
Нечай посмотрел на Мишату, нервно хохотнул пару раз, а потом, выдохнув с облегчением, расхохотался в полный голос. Мишата похлопал глазами и нерешительно рассмеялся вместе с ним.
– Нет, Мишата, я не оборотень, – Нечай смахнул слезу, – честное слово. Ты мне веришь?
Брат кивнул неуверенно, но смеяться перестал и неожиданно сделался серьезным и злым.
– Тогда знаю я, откуда ветер дует! – он хлопнул ладонью по колену.
– Да брось ты, ерунда-то какая! – Нечай и сам не ожидал, насколько его может напугать мысль о том, что его ищут, и теперь он никак не мог прекратить смеяться.
– Ерунда? – Мишата встал и заходил перед печкой туда-сюда, – на нас сегодня в церкви все оглядывались. А на рынке, к кому не подойдешь, шептаться перестают и смотрят – жалостно так. Нет, братишка, это не ерунда. Того и гляди, сход соберут, и тогда либо смерть тебе, либо вечное изгнание. Понимаешь, о чем говорю?
– Мишата, но это же дурь! Ты что, не видишь? Какой из меня оборотень?
– Я-то, может, и вижу. Так ведь я чуть было не поверил! Посмотри: богохульные речи ты говорил, в лес ходил и ничего не боялся, в бане с девками гадал, когда человека там убили, с Тучей Ярославичем на охоте в живых остался. А еще, знаешь историю какую рассказывают? Будто ты Дарену замуж за себя идти неволил. «Ты, говорит, не видишь, кто я такой?» – «А кто ты такой?», а ты, будто, промолчал и посмотрел со значением, и глаза у тебя зеленым светом засветились. Было такое?
– Ничего себе! – Нечай покачал головой, – гладко девка рассказывает!
– Это не она придумала, это тятенька ее. Курьих ее мозгов на такое бы не хватило, – Мишата махнул рукой, – вчера же весь Рядок толковал, что ты Дарену опозорил, так он вот что придумал! Будто не она к тебе, а ты к ней подкатывал, да еще и пугал. А он от дочери тебя хотел отвадить, вот причину и нашел, чем ты ему в зятья не годишься.
– Мишата, но это же всем и так должно быть ясно, что ты переживаешь-то? Я вот тоже слух пущу, что Дарена ведьма.
– Не скажи… А людям только дай языки почесать! Все припомнят! И наш с тобой разговор вчерашний, утренний, посреди улицы, припомнили. И в церковь ты не ходишь, и над Афонькой смеешься, и дьяконом быть не желаешь, а все потому, что оборотню в церкви плохо, действует на него святые иконы и крестное знамение. В кабаке говорил, что оборотень чеснока боится?
– Говорил…
– И что ты сам его боишься, говорил?
– Да я ж не в том смысле! – Нечай снова качнул головой и рассмеялся, – Афонька чеснок трескал и на весь трактир им вонял!
– А поди теперь, объясни, в каком ты смысле это говорил. Каждое слово твое перетирать станут, все против тебя повернут. Да еще и от себя добавят. И как ты в лес по ночам ходишь, и как кровь у младенцев сосешь, и как детей на болото заманиваешь. Кто детям про охоту на оборотня рассказал?
Нечай опустил голову:
– Ну и рассказал…
– А они ее уже успели по всему Рядку разнести.
– Да Мишата, все это такая ерунда… Поболтают и перестанут.
К обеду вернулась Полева, и по дороге изловила сыновей, которые есть теперь не хотели, а хотели играть с ребятами.
– А нам на улице все завидуют! – гордо рассказывал Гришка бабушке, – что мы грамоте учимся.
– Правильно завидуют, – кивала мама, – вы только учитесь как следует, дядю слушайтесь.
Она тоже гордилась – и Нечаем, и тем, что внуки ее станут грамотными. А Нечай подумал, что смысла в этом нет никакого: он не видел ничего хорошего в переезде в город, где грамота могла бы пригодиться и действительно обеспечить кусок хлеба, да еще и без большого труда. Жизнь в городе была куда скудней, чем в вотчине Тучи Ярославича. Другое дело – арифметика. Вот что точно всегда понадобится в Рядке. Как-то арифметику он из виду упустил.
– Мы бабу им показывали, как пишется, – вставил Митяй.
– Федька-пес так на нас разозлился, что тятьке пошел жаловаться, – продолжил Гришка.
– На что ж жаловаться? – не поняла мама.
– На нас… А Ивашка Косой над нами смеялся, но мы ему наподдали как следует, – Гришка хохотнул и добавил разъяснение, – чтоб не смеялся!
Мишата сдвинул на это брови:
– Зачем с соседями ссоритесь? А?
– А что он смеется? – Гришка скуксился и посмотрел исподлобья – отца он побаивался.
– За Ивашку Косого заступиться некому, – строго ответил Мишата, – не хорошо сироту обижать.
Ивашка Косой был единственным сыном у давно овдовевшей матери, Косой Олёны. На самом деле, глаза она имела нормальные, ясные и несчастные, а прозвище осталось за ней от мужа, который действительно косил на один глаз. Ивашка унаследовал от отца это замечательное свойство, но не столь явно, и с виду походил на зайца: крупные зубы, выпирающая вперед верхняя губа над маленьким подбородком, плоский нос и суженые, сдвинутые к носу глаза.
Олёна тоже поглядывала на Нечая с интересом, хотя он помнил ее девкой на выданье, когда уезжал учиться. Дом ее, прежде крепкий и большой, почти развалился, и проезжие в нем теперь останавливаться не хотели. Идти в дворовые она не желала и перебивалась помощью на постоялых дворах, где ей перепадали не столько монетки, сколько сытная еда. Мужики с улицы жалели ее, и подсобляли иногда по дому, с дровами – не могли смотреть, как баба на себе тащит из лесу тонкие стволики сваленных елок, а потом пилит их в одиночку. Поточить и подправить инструмент, отдать одежду с выросших детей для Ивашки, подарить что-то не годное на продажу – умереть в нищете Олёне бы не позволили. Ивашка же рос наглым и изворотливым пацаненком, и никто не видел, чтоб он помогал матери, хотя ему исполнилось одиннадцать лет. Олёна ругала его, иногда шумно и злобно, могла и поддать, но любила сынка – единственный свет в окошке.
После обеда мальчишки снова убежали на улицу, на этот раз с сестрами – в воскресенье отдыхали все, кроме мамы. Полева ушла в гости, Мишата в одиночестве строгал свои клепки. Обычно в воскресенье он ходил в трактир, но в этот день так и не собрался – наверняка, из-за слухов про Нечая. Нечай хотел подремать, но мысль об арифметике не дала ему уснуть: он слез с печки и извел еще один лист бумаги, рисуя счеты. И пока рисовал, понял, что руками никогда такого сделать не сможет. Пришлось просить Мишату – тот руками умел все. Брат только обрадовался, что может помочь, и даже сбегал к кузнецу, чтоб тот вытянул проволоки для надевания косточек.
За ужином дети то и дело спрашивали, будут ли они сегодня учиться писать, или в воскресенье это не положено. Нечай посмеялся и ответил, что это как им больше нравится, а ему не жалко. Они еще не поднялись из-за стола, когда в дверь постучались. Мишата, который почему-то сильно переживал из-за оборотня, напрягся и беспокойно посмотрел по сторонам. Стук повторился, но на мамин крик: «Входите, не заперто», никто не ответил и в двери не вошел. Нечай хотел открыть – он ближе всех сидел к двери, но брат его остановил.
– Я сам открою, сиди, – он снова осмотрелся по сторонам.
Нечай неожиданно вспомнил брошенную баню и шаги невидимки в темноте… Но дома, при свечах, в окружении домочадцев, не испытал никакого страха. Однако на всякий случай поднялся вслед за Мишатой.
Но никаких оборотней, чудовищ и невидимок за дверью не оказалось – к ним пришла Косая Олена, просто от робости не смела войти.
– Здрасте вам, – она, перешагнув через порог, поклонилась на красный угол и перекрестилась.
– Заходи, садись ужинать с нами, – пригласил Мишата.
– Да нет, я ненадолго. И Иванушка на улице ждет. Я с Нечаем хочу поговорить.
Теперь настала очередь напрягаться Нечаю: после Дарены не только девки, но и вдовы его пугали. Но Ивашка, ждущий на улице, немного его успокоил.
– Зови сюда своего дармоеда, и ужинать садитесь, – снова пригласил Мишата – в Рядке по-другому было не принято.
– Ой, если бы я знала, что вы кушаете… – вздохнула Олёна – ее несчастные глаза на этот раз выглядели голодными, и кадык на худой шее еле заметно шевельнулся. Да и воскресный ужин, наверное, показался ей роскошью – мама сварила курицу, киселя и напекла сладких пирогов.
Ивашка явился на зов незамедлительно – понял, что сажают за стол. Олена смущалась и клевала еду, как птичка, Ивашка же наворачивал пироги с овсяным киселем за обе щеки. Вообще-то, был он мелким, щуплым, тонкокостным, но куски пирога исчезали у него в животе один за одним, точно в прорве. Полева смотрела на него недовольно, и подсчитывала съеденные куски, но Мишата только посмеивался, и поперек мужа при чужих людях Полева ничего сказать не смела.
Отужинав, Олена встала, еще раз поклонилась и перекрестилась:
– Спасибо хозяевам, накормили моего сыночка, – она ухватила сыночка за волосы и пригнула его голову вниз, так что тот тихонько завыл.
– Давай, говори, чего пришла? – Нечай не ждал ничего хорошего от разговоров и ожидал расспросов.
– Ой… я даже не знаю… – Олена села обратно за стол, с которого мама с Полевой и девочками убирали посуду, – может, вам помочь чем?
– Сиди, – недовольно сказала мама – она тоже ожидала от прихода Олены подвоха.
– Да мне так неловко теперь… Просить ведь пришла, – Олена вздохнула тяжело, и глаза ее снова стали несчастными и брови жалобно сошлись на переносице.
– Давай, проси, – Нечай вздохнул.
– Я про Иванушку хочу просить… Денег у меня нет, но я бы отработала, чем хочешь бы отработала… Без отца ведь растет, ремеслу никакому не учится, землю пахать не умеет. Да и дурак он у меня… Что будет делать, когда подрастет? Только в захребетники, или в дворовые… Так лентяй он для захребетника, и дворовые такие никому не нужны…
Нечай вздохнул еще раз.
– Ну?
– Так я и говорю… Говорят, ты своих ребят грамоте учишь? Правда это?
Нечай выдохнул с облегчением.
– Что, и твоего дурака да лентяя грамоте обучить? Так? – усмехнулся он и неуверенно глянул на Мишату. Он не сомневался, что Мишата будет против. Но брат неожиданно кивнул – Нечай только потом понял, почему: из-за слухов, которые распустил Радей.
Олена опустила голову и начала быстро-быстро теребить кончик платка.
– Что мне, жалко, что ли? – Нечай пожал плечами, – сам-то он учиться будет?
Нечай посмотрел на Ивашку – тот скучал.
– Да кто его спросит! – выкрикнула Олена и снова ухватила сыночка за волосы.
Нечай опять подумал, что простота хуже воровства – никто из соседей не посмел просить его об этом, да еще и задаром. Отец платил за его обучение в школе три рубля в год, деньги немаленькие. Нет, жалко ему не было, да и трудно – тоже. Но Олена, всю жизнь привыкшая просить, и в этот раз не удержалась. И если для детей Мишаты грамотность служила бы только поводом для гордости, то для несчастного Ивашки на самом деле открывала дорогу в город, на службу, или в церковь дьячком. Куда еще податься глупому да ленивому?
– Да пусть учится, – Нечай пожал плечами, – но если он сам не захочет – принуждать не стану.
– Нечаюшка… – Олена хлюпнула носом и выкатила слезы на глаза, – век бога за тебя молить буду!
Она потянулась поцеловать ему руку, но Нечай успел спрятать ее под столом.
– Вот говорят злые люди, будто ты оборотень, а я ведь не верила, а щас и вовсе вижу, какой ты золотой человек!
Нечай сжал губы – вот тянули ее за язык! Полева и то помалкивала!
– Кто это говорит? – немедленно отозвалась мама и подошла к столу, – ты что это несешь? Дура!
– Да я наоборот говорю – никакой он не оборотень, а наоборот… – промямлила Олена, сообразив, что ляпнула что-то не то.
– Кто говорит, я спрашиваю? – мама хлопнула ручкой по столу, – какой оборотень? Мой сынок – оборотень?
– Кто-кто? Люди злые говорят на рынке… – Олена совсем смешалась.
– Какие люди? Если Радей – так я щас ему бороду выщипаю! Ах, старый хрен!
– Не, не Радей… Да все говорят. И отец Афанасий тоже… про чеснок рассказывал, – Олена немного осмелела.
– Как – все? – мама опешила, – вот так все и говорят?
– Ну да. Староста не верил сначала, а потом и он задумался.
– Да что ты говоришь-то! Мой сыночек – оборотень? – мама села на лавку и приготовилась заплакать.
Полева и Мишата растеряно смотрели друг на друга и молчали, не зная, что сказать. Видя мамину растерянность, Олена смелела все больше:
– Да. И в лес он ходить не боится, и в бане он с девками был, когда там проезжего убили, и с Тучей Ярославичем он в живых остался. Люди у старосты схода требуют, дознаваться хотят.
– Ой! – у мамы по щекам побежали крупные круглые слезы, – ой, что ж это делается! Да как же им в голову-то пришло! Это ж мой сынок, они ж с детства его знают!
– Так сколько лет его не было? – торжествующе сказала Олена, – его мог другой оборотень покусать, он оборотнем и сделался. И только он появился, так сразу и началось!
– Да неправда же это! – мама закрыла лицо руками, – неправда!
– Неправда, мама, неправда, – Нечай решил, что и мама сейчас в это поверит, и почувствовал нестерпимую обиду, – мам, ну какой же я оборотень, а?
– Да Бог с тобой, сыночка, что ты говоришь! Я ж родная мать тебе, что ж я, не знаю, что ли? Но люди-то! Люди! Как им объяснить?
– Не надо ничего объяснять, поболтают и перестанут. Ну? Мам… – Нечай злобно глянул на Олену. Та съежилась под его взглядом и спрятала глаза.
– Мама, не плачь, – Мишата сел рядом с ней, – я завтра сам к старосте пойду, все ему объясню. Он меня послушает…
Мишата сам не верил в то, что говорил.
– Я чувствовала, с самого утра чувствовала неладное… Еще как платок надела.
– Мама, лучше платок гостье покажите, чем слезы-то лить… – нашлась Полева. Вот женщина женщину всегда лучше поймет: мама, не переставая плакать, встала и полезла в сундук.
– Вот, – она развернула платок, показывая большие цветы на нем, – вот мне что мой сыночек подарил. Не пропил деньги случайные, не прогулял – матери купил подарок. У кого еще в Рядке такой есть? Это и боярыне носить незазорно!
Слезы ее потихоньку высыхали.
– Это от зависти злые языки люди распустили. А Туча Ярославич сам к Нечаю приезжал, на службу к себе звал! – продолжила она уже спокойней и уверенней, – потому что мой сынок ученый не хуже Афоньки. И Афонька ему завидует! И староста! А Нечай вот Туче Ярославичу расскажет, как его народ обидел!
– Да и я говорю, – поддакнула Олена, – никакой он не оборотень, а человек хороший и добрый. И грамоте моего Иванушку научит.
Урок прошел гораздо лучше, чем накануне – что значит подготовиться заранее! И картинки Нечая племянникам понравились, и что такое буква, они, похоже, разобрались. Ивашка сначала смотрел в потолок, но и он втянулся, когда стали придумывать слова на букву Буки. Груша придумывать слов не могла, но долго разглядывала картинки. Нечай специально для нее написал на листе слова и показал в них первую букву. Ей было интересно, а понимала она или нет, осталось загадкой. Нечай показал ребятам букву Мыслите, и теперь они сразу догадались, что от них требуется: и молоко, и масло, и миску, и мед вспомнили без подсказок. Ивашка родил «молодую девку» и «могучий дуб».
– А на Аз какие слова начинаются? – спросил Гришка.
– Ну, на Аз слов почти нет, только греческие, вы их не знаете. Но одно слово я покажу.
Нечай достал картинку, где изобразил попа, и все они хором закричали и засмеялись:
– Это отец Афанасий!
– Точно! – Нечай порадовался успеху, – Слово «отец» начинается с буквы «Он», ее мы потом узнаем. А Афанасий – греческое имя, начинается с Аз.
Им не терпелось начать ломать перья, и Нечай велел им снова написать слово «баба», что не без труда удалось всем, только Ивашке пришлось помочь.
– Ну, если вы такие умные, то как написать слово «мама»?
Первой догадалась Надея, и Нечай подозвал Мишату.
– Вот, гляди, твоя дочь быстрей мальчишек соображает. А ты не хотел ее учить!
Мишата засмеялся и махнул рукой.
Неделя вторая
День первый
Нечаю снится, что он хочет спать, когда надсадный, режущий уши звон извещает колодников о начале дня: три часа утра. Ему снится, что он поднимается вместе со всеми, как обычно, кряхтя и ругаясь, ему снится, что его цепи позвякивают так же печально, как у остальных, ему снится, что он бредет к выходу и втягивает голову в плечи, ощутив, как сырой осенний ветер задувает в дверь, ему снится большой кусок хлеба, который ему протягивает чернец-надзиратель, и ненавистное лицо этого чернеца, и его подрагивающая костлявая рука со вспухшими суставами и отросшими ногтями, забитыми грязью. Ему снится это отчетливо, явно, даже кислый вкус подмороженного хлеба, его холодное и черствое прикосновение к зубам. Нечай не чувствует, как его трясут за плечо другие колодники, и сильно удивляется, когда с него сбрасывают армяк, под которым он спит, свернувшись в тугой клубок, и лупят кожаной плеткой по плечам. От неожиданности он поворачивается на спину и прикрывается руками, но это глупо – плетка выбивает пальцы и хлещет по ребрам. Спросонья он не может сообразить, что происходит: ему больно, вокруг полутьма, плетка свищет тонко и часто. Он снова сворачивается в клубок, пряча ладони и лицо, и, скрипя зубами, ждет, когда у надзирателя устанет рука. И, в общем-то, понятно, что ничего страшного в этом нет, несколько ссадин и длинные, выпуклые кровоподтеки, но, черт возьми, как же это больно!
– Вставай, собака, – чернец пинает его ногой в колено и швыряет на пол кусок хлеба. И Нечай, как и положено собаке, сначала хватает хлеб, впивается в него зубами, и только потом медленно поднимается с пола, ежась и морща лицо.
На дворе завывает ветер; тонкий, острый серпик месяца покачивается перед глазами: унылый вид открывается за воротами острога. Пеньки вырубленного леса, ямы провалившихся шахт и горки выбранного из-под земли песка и глины в темноте кажутся ненастоящими. Словно беспощадный великан изуродовал землю, провел по ней пятерней, как плугом вывернув ее наизнанку; срезал под корень лес, взмахнув исполинской косой. Вдали курятся домницы, и доносится глухой стук молота.
Нечай грызет хлеб на ходу и думает, где бы теперь достать кружку воды: в шахте воды много, но она плохая, горькая, пить ее нельзя. Впрочем, иногда он ее пьет – он все время хочет пить, есть и спать. С тех пор, как его поставили «коренным» в шахте, он сильно сдал: у него колотится сердце, быстро кончаются силы, по вечерам его рвет, и беспрестанно кружится голова.
Мысль о том, что ночь прошла, пронизывает его отчаянной, злой тоской – впереди бесконечный и холодный день: душный, мокрый, трудный, темный и страшный. И дожить до его конца надо суметь, дожить и дождаться следующей ночи, когда снова можно будет свернуться в клубок под армяком и заснуть.
Он проснулся под теплым тулупом с подтянутыми к животу коленями и обхватив плечи руками. Можно спать еще и еще, можно спуститься вниз и пожевать хлеба: мягкого и вкусного. Или даже пирога с малиной. Можно пить сколько хочешь, и никто не пнет тебя и не оттащит за волосы от ведра с водой. Надо соглашаться с Тучей Ярославичем, надо хвататься за эту службу руками и ногами, надо благодарить его и целовать сапоги, за то что позволяет жить на своей земле и не тащит к воеводе.
Последние месяцы на руднике едва не убили Нечая: безвылазная работа в шахте рано или поздно убивала всех. Он перестал быть зверем, которого требуется усмирить, он не испытывал злости, только обиду – от голода, от побоев, от желания спать, ему все время хотелось заплакать. Единственное, с чем он не мог смириться, так это со своей участью. Если бы не надежда на то, что это когда-нибудь кончится, он бы сошел с ума или повесился. Некоторые сходили с ума, некоторые вешались, но некоторые и бежали! Если бы не эти удачные побеги, дающие надежду, Нечай бы не отважился рискнуть в третий раз.
Рудник у монахов был жалкий, неглубокий. Крепить стенки и потолки штолен они то ли не умели, то ли ленились, но из девяти шахт обрушились пять только за три года работы. Вместо вертикальных колодцев с подъемниками рыли наклонные лазы. Откачивать воду монахи не считали нужным, и ставили деревянные козлы для работы в забоях, чтоб отбитая руда не падала в воду. Впрочем, и руды там было немного, ее пласты уходили вглубь, туда, куда монахи соваться побаивались.
Нечай слишком долго ждал. Боялся. После второго побега он встал на ноги только к июлю, и надо было бежать в августе, летом, пока в лесу не видно следов, пока можно спать на земле и есть ягоды. Но стоило ему подумать о побеге, как на него нападал страх, и он каждый день откладывал, отодвигал следующую попытку. Пока не выпал снег. В ноябре его поставили «коренным» – рубить руду в забое, и промедление едва не стоило ему жизни.
Он тряхнул головой и повернулся на другой бок: не думать об этом. Забыть о Туче Ярославиче, об Афоньке, забыть. Когда наступит время решать – тогда и решать. А пока никто его ни о чем не спрашивает, можно об этом не думать. Чему быть – того не миновать.
Оборотень! Выдумают же! Нечай усмехнулся сам себе. Может, оборотня Туча Ярославич делать дьяконом не станет? Хорошо бы…
Возня и сопение внизу заставили его повернуться обратно: на сундуке сидела Груша и наматывала на ноги онучи. Нечай хотел ее окликнуть, но тут вспомнил, что она его не услышит. Тогда ему в голову и пришла мысль пойти за ней следом, посмотреть, куда и зачем она ходит по ночам… Следить за девочкой показалось ему не очень-то честным поступком, но он не сомневался, что если покажется ей на глаза, она переменит намерения, и он ничего не узнает. Как только она, накинув полушубок Полевы, вышла в сени, Нечай потихоньку слез с печки – колено еще мешало ходить не хромая, но не настолько, чтоб не догнать ребенка. Он оделся и, выходя, постарался не скрипнуть дверью, снова забыв, что Груша скрипа не слышит.
Нечай вышел за ворота и увидел девочку в самом конце улицы – она бежала к лесу, как он ни надеялся на то, что по ночам она ходит в другое место. Он прихрамывая направился за ней.
Луна убыла на треть, мелкая крупа звезд еле-еле проступала сквозь морозную дымку, затянувшую черный небосвод, и под ними на черном скошенном поле так же редко просверкивал иней, будто земля зеркалом отражала небо. Во дворах с ленцой перегавкивались собаки, от постоялых дворов доносился шум, и покидать уютный, обитаемый Рядок Нечаю сразу расхотелось. Но Груша шла по тропинке к лесу, быстро-быстро перебирая ногами, почти бегом, и Нечай не чувствовал ни страха, ни опасности.
Девочка не оглядывалась, и не слышала шагов за спиной, но стоило ей только обернуться, и она бы тут же заметила его – на ровном поле, при свете луны Нечай в любую минуту был готов к разоблачению. А кроме того, он сильно отставал, припадая на левую ногу, и боялся, что в лесу потеряет ее из виду. Он надеялся, что она направится к усадьбе, по широкой тропе, но ошибся – еще в поле Груша взяла немного правей, сойдя с протоптанной дорожки. Нечай прибавил шагу, когда она подошла к кромке леса.
И, хотя она скрылась из вида, Нечай почти догнал ее на слух – Груша шла не таясь, топала, хрустела ветками и сопела. Он совсем было успокоился – в лесу он мог идти в двух шагах от нее и не бояться, что она его заметит. По лесу, огибая справа усадьбу Тучи Ярославича, бежала еле заметная стежка, и Нечай быстро понял, что ведет она к старой крепости, мимо кладбища, напрямую от Рядка.
Никакого тумана над землей не вилось, потихоньку похрустывали сухие заиндевевшие листья под ногами, и луна просвечивала прозрачные кроны вековых дубов насквозь. В этом углу леса дубы поднимались выше и стояли чаще, чем по дороге к усадьбе, под ними не росло подлеска. Словно деревья в три обхвата толщиной высосали из земли все соки, и ни с кем делиться не захотели. Старый лес, очень старый. Нечай бывал тут ребенком, но никогда не обращал внимания на древность леса – до того ли ему было?
Груша быстро шла вперед, то исчезая, то появляясь из-за темных широких стволов, перепрыгивала через мощные витиеватые, узловатые корни, торчащие из-под земли, Нечай же непременно об них спотыкался, не глядя под ноги. Странно, но в этом лесу он ничего не боялся. Ни тревоги не чувствовал, ни взглядов в спину. Более того, он ощущал себя словно под прикрытием, будто чья-то длань накрыла эту часть леса, и ничего случиться тут просто не могло.
Но когда впереди показался просвет, смутная, неприятная тревога начала посасывать Нечая изнутри. Он еще не увидел, но уже понял, что тропа пройдет мимо старого, заброшенного кладбища с покосившимися, гнилыми крестами. Груша не успела выйти на открытое пространство, как вдруг со стороны крепости раздался близкий и громкий волчий вой. Он был коротким, словно призыв: не от тоски выл волк, не на луну – он звал своих, он собирал стаю…
Нечай дернулся от неожиданности и замер, прислушиваясь. Вой повторился, и через несколько секунд, издали, с болот, на вой прозвучал ответ – тихий, еле различимый.
Груша пропала. Она исчезла, растворилась в темноте, будто ее и не было. Может, спряталась где-то под деревом, или прижалась к темному стволу? Нечай осмотрелся, прошел вперед, но в темноте ее не увидел. Может, за кустами, там, где лес кончился? Надо же было потерять ее из виду в такую минуту! Что б там ни было, какие бы длани не накрывали лес, какие бы силы не берегли ребенка в этих опасных местах, волки – они и есть волки! Им не надо сбиваться в стаю, на ребенка набросится и молодой волк, и старый, и слабый – девочка слишком легкая добыча для них. Рано они начали выходить к жилью: и морозы еще не настали, и снег не выпал. Куда же смотрит Туча Ярославич? Или он поглощен охотой на «оборотней»?
Нечай хотел позвать Грушу, но вовремя одумался и от злости махнул рукой. Ветер дул ему в лицо, с болот, и волк не мог его почуять. Стоит только подать голос, и зверь его услышит. А вот убежит ли? Испугается ли безоружного человека? Нечай выбрался из лесу, обошел кустарник, густо облепивший кромку леса, разыскивая девочку. Но Груши не нашлось и тут. Он рассчитал верно – тропа огибала кладбище, слева на горизонте светились огни усадьбы, справа лежало болото, и между высоких кочек под луной проблескивали разводы темной воды. Прямо перед Нечаем было кладбище.
Громкий вой повторился снова, Нечай повернул голову на звук, надеясь разглядеть зверя. Но вместо него увидел отчетливый силуэт человека: тот стоял на возвышении, между крестов, повернувшись к ельнику, окружающему крепость. Нечай тряхнул головой: кто-то вместе с ним ищет волка? Но человек вдруг поднял руки, сложил их лодочкой и завыл по-волчьи. С болота, из-за крепости, ему ответили.
Оборотень? Нечай ни секунды не верил в оборотня. Да это же ерунда! Существа, населившие лес, не были оборотнями, и волками они не были! Но кто же тогда… и почему…
Человек опустил руки, развернулся, и пошел в сторону, к другому краю ельника. Нечай на всякий случай присел за кустами, продолжая наблюдать. Шел человек не спеша, как-то устало, оглядывался по сторонам, а, пройдя пару сотен шагов, остановился, повернулся к дальним болотам, снова прижал руки ко рту и завыл. И опять из-за крепости ответил волк. Человек прислушался, повторил призыв, и прислушался снова.