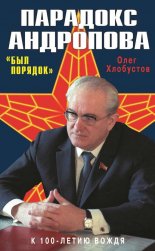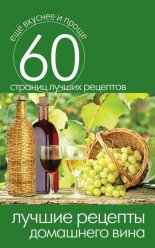Странник Цормудян Сурен

– Сядь на стул! Лицом ко мне! Расставь ноги! – хлестал Гриф фразами. Он рассматривал девушку, лицо его кривила улыбка, которая у другого могла бы показаться похотливой, но... Глаза Грифа оставались холодны. И – безжалостны. – Что ты чувствуешь? Отвечать!
Анжела подняла лицо, ее чувства читались в глазах безо всяких слов, но Гриф прикрикнул:
– Отвечать! Правду!
– Я... Я вас... ненавижу!
– А в тюрьму не хочется, правда? Не хо-о-очется... Куда проще ноги раздвинуть. – Гриф пригасил усмешку, закончил:
– Разумная девочка.
Гриф откинулся на спинку кресла, закурил, посидел раздумчиво, глядя в потолок и любуясь причудливыми завитками дыма:
– Ты не солгала. Сейчас ты действительно меня ненавидишь. И ты – возбуждена, ты возбуждена так, что у тебя голос срывается... И притом – искренна и в своей ненависти, и в своем желании!
Анжела закрыла лицо ладонями; она так и осталась сидеть перед Грифом нагой в неудобной и бесстыдной позе.
– Я тебе расскажу, что ты чувствуешь... – заговорил Гриф хрипло, почти зашептал. – Страх. Ненависть. А от ненависти до любви расстояние такое же, как и от любви до ненависти... И сейчас... Тебя волнует твоя нагота, тебя возбуждает моя власть, тебя заставляет трепетать твоя полная зависимость и беспомощность!
Гриф замолчал и вдруг выкрикнул резко, словно плетью хлестнул:
– Теперь ты поняла, что такое любовь?! Чужая и чуждая власть принуждает тебя подчиняться, и ты оказываешься на грани высшего чувственного наслаждения!
А любовь – это когда ты покоряешься кому-то потому, что иначе просто не мыслишь для себя жизни! Это доверие, это восторг, это влюбленность, это страсть, это наслаждение именно своей беспомощностью и властью над тобой самого близкого тебе существа, это ощущение над мужчиной своей власти – власти женщины...
Власти – полной, безмерной и безграничной!
Гриф встал из-за стола, подошел к Анжеле, коснулся ладонью лица; словно токовый разряд прошел по ее телу, девушка застонала, закусив губу, по щекам горошинами покатились слезы... Гриф приподнял ее лицо за подбородок, девушка несмело подняла глаза: взгляд ее был темным и покорным.
– Ты меня ненавидишь?
– Да.
Гриф чуть отстранился. Хрипло, словно задыхаясь, Анжела спросила:
– Что... я... должна... сделать?
– Ты должна стать легкой, лукавой, ветреной, беззащитной, умной, сумасбродной, нежной, безрассудной, ласковой, глупой, верной, удивленной и – снова беззащитной! Любовь – это удивление и беззащитность! – Гриф поднес к ее лицу фотографию Олега:
– Ты должна стать для него всем! И помнить: это только игра, игра, увлекательнее которой жизнь еще не придумала! Ты сумеешь?
– Я смогу.
– Я хочу, чтобы он был без ума от тебя. Чтобы ты знала каждый его шаг, каждую мысль, каждый оттенок чувства. Это красивая игра. Мне нужна твоя ненависть. И – твоя власть. Ты сможешь?
– Да.
Гриф задумался на мгновение. Закончил буднично и абсолютно безразлично: >
– А обстоятельства вашего романтического знакомства мы организуем.
Анжела кивнула. Движение было медленным и плавным, ей не хватало дыхания... Девушка снова подняла лицо, но взглянуть в глаза Грифу не посмела.
Лишь прошептала, с видимом трудом разлепляя запекшиеся губы:
– Что я должна сделать... сейчас? Для... вас?
На лице Грифа читалось разочарование и брезгливость. Как жаль. В мире так мало людей, способных на любовь, ненависть, доблесть. Способных к власти. Таков мир: приходится обходиться тем, что есть.
Осталось получить от этой девочки удовольствие. Всего лишь. Не страсть, не любовь, не счастье. Как жаль.
...Через три четверти часа Гриф снова сидел за столом, свежий после душа, прихлебывая ароматный кофе. С Анжелой уже работал Вагин. Мало быть готовым предавать, нужно уметь это делать. Вагин – прекрасный преподаватель сего доходного ремесла. Губы Грифа растянулись в улыбке. Данилов хорош. Но он, Гриф, сломает этого вольного флибустьера, как только что сломал девчонку. Теперь Анжела Куракина воспринимает жизнь игрой, в которой и предательство ненастоящее, и любовь – понарошку... И будет работать самозабвенно, потому что он, Гриф, отравил ее самым сильным наркотиком – жаждой власти. Полная власть над мужчиной – что может быть сладостнее для нее после унижения? Ну а что до Данилова...
Человека не так ломает несчастье, как призрак несостоявшейся надежды.
Особенно если этой надеждой была любовь.
Глава 16
...Океан набегал на берег лениво и сонно. Ровная широкая полоска песка была вылизана ветрами и абсолютно пустынна. Только у самой воды шустрые крабы, выброшенные шальной волной, неловко перебирали лапками, стараясь побыстрее вернуться в родную стихию. Чуть поодаль берег вздымался крутым охрово-коричневым обрывом, кое-где поросшим приземистыми кустами и неприхотливой жесткой травкой, ухитрившейся даже расцвести мелкими бледными цветиками.
Девчонка брела по самой кромке прибоя обнаженной, ее худенькая загорелая фигурка казалась частью этого берега, этих древних утесов, скал, выглядывающих из моря, будто окаменевшие останки доисторических чудовищ. Она что-то напевала, играла с каждой набегавшей волной, смеялась сама с собою и с океаном, и гармония счастья казалась полной.
А в дальнем мареве возникло белое облачко. Оно было похоже на батистовый платок, сотканный из прозрачных фламандских кружев, невесомое и легкое, как дуновение... Но марево густело, становилось плотным и непрозрачным, затягивая уже полнеба грязно-белым пологом; оно на глазах меняло цвета, словно наливаясь изнутри серым и фиолетовым... И океан стал сердитым и неласковым, на гребешках волн закипела желтоватая пена, и сами волны сделались непрозрачными и отливали бурым. Зубья скал ожили в набегающем шторме; вода бесновалась, словно слюна в пасти исполинского хищника, но солнце еще заливало все сиянием, и девушка, занятая игрой, не замечала ничего.
Солнце скрылось в одно мгновение, исчезло, словно кто-то задернул тяжелую портьеру. Девушка оглядела ставший разом чужим и неприветливым берег, метнулась к обрыву; там, над обрывом, полыхнуло бело, земля содрогнулась, и обрыв стал оседать, дробиться пластами... Замер в шатком равновесии, качнулся и с утробным хрустом рухнул на песок, подминая под себя побережье и окутав все окружающее тонным смогом серо-желтой сухой пыли. Девушка заметалась в этом мороке, взвесь песка и пыли набивалась в легкие, душила.
Олегу казалось, что он парит над этим удушливым смрадом, словно птица. В лиловом небе он видел просвет, заполненный солнечным теплом и синевой чистого неба... Нужно было лишь взлететь туда – и все. Но вместо этого он сложил крылья и ринулся вниз, ощущая, как вздрагивает земля, и зная, что через секунду-другую новый пласт породы рухнет и погребет под собою и этот берег, и край океана, и девчонку... Он падал почти отвесно с отважным безрассудством, чувствуя, как девушка мечется в потемках беспросветной серой пыли, и знал, что должен ее вытащить оттуда ввысь, в ясную синеву... Он несся сквозь серый туман, как сквозь пепел, он кричал, но крик его был бессилен... И тут увидел ее, неподвижно лежащую у самой кромки воды... Он схватил девушку и рванулся вверх, напрягая волю, чтобы совладать с собственным телом, ставшим вдруг таким непослушным и тяжелым... Пыль застилала все пространство вокруг, душила, и он закричал и почувствовал, как податливый воздушный поток подхватил их и понес вверх, к солнечным лучам и сияющему до боли в глазах небу...
...Олег открыл глаза, некоторое время озирался, не узнавая окружающего, машинально наклонился с дивана, выбил из пачки сигарету, прикурил. Сердце билось, как загнанный зверек, попавший в капкан. Впрочем... И лето, и смерч остались во сне. В комнате плавали пасмурные сумерки: над городом завис Дождь.
Олег был один. Затянулся терпким дымом, усмехнулся невесело...
Порой все, что у нас остается, это сны. А уж что привело к такому невеселому положению вещей – бог весть. И кажется, что жизнь уже закончилась, а ты сидишь в унылой предтече чего-то нового, но вот ощутить, почувствовать, познать это новое тебе еще не дано... И нет уже ни беспокойства, ни душевной смуты, ничего нет. Только пустое созерцание голых стен и бег измученных клячмыслей по замкнутой арене давно опустевшего цирка, в котором не ждешь уже ни оваций, ни очарования, ни смеха. Смех остался далеко-далеко в юности, ну а юность... Она, кажется, вообще случилась в совсем другой, чужой жизни, в другой стране, в другой галактике. Наверное, так и есть. Зато остались сны. О берегах, где никогда не был.
Сигаретный дым был безвкусным и горьковатым. Олег посмотрел по сторонам.
Кошка Катька куда-то ушла по своим кошачьим делам. Он же никуда не собирался.
Потому что возвращаться в пустое жилище было бы совсем горько.
Звонок в прихожей был настойчив. Олег не спешил. Даже размышлял некоторое время, открывать или не стоит. Не было у него в этом городе друзей. Впрочем, врагов тоже. Ну что ж... В любой ситуации нужно искать только хорошее.
Звонивший был бесцеремонен и навязчив. Олег отодвинул защелку, распахнул дверь. На пороге стоял сосед, Иван Кириллович Ермолов. На его мятом, провисшем, словно простиранном и не просушенном до конца лице читалась вселенская скорбь.
Он смотрел прямо перед собой блеклыми выцветшими глазами и вряд ли отчетливо видел Олега. Но открытую дверь различил.
– Люди алчны и подлы, – провозгласил он и, миновав Данилова, как мебель, прошел в комнату.
Иван Кириллович Ермолов был творец. Художник. Маститый и матерый работник холста и кисти. Некогда Иван Кириллович был даже приближенным живописцем: портреты вождей партии и правительства, героев соцтруда и знатных механизаторов, масштабные полотна типа «Трудовая вахта на Кержинском сталелитейном» снискали ему республиканскую госпремию, чины, регалии и деньги.
Теперь он лепил из себя стоика.
– Ты один? – спросил Ермолов, склонив голову набок.
– Как Ленин в Разливе.
– Угу. – Живописец угрюмо кивнул, обозрел обстановку, спросил хрипло:
– Пьешь?
– Прикладываюсь.
– Угу.
Ермолов так же, по-хозяйски, прошел на кухню, поморщил нос, озирая обычный беспорядок, выудил из безразмерных художнических шаровар склянку с коньяком, отыскал на столе стакан, привередливо оценил его чистоту на свет, снова поморшился, протер полотенцем, расплескал коньяк в него и в случившуюся здесь же пиалу, произнес нечто напоминающее и «твое здоровье», и «все там будем» и в три глотка опрокинул двухсотграммовый хрущевский в рот. Задумчиво пожевал губами, спросил запоздало:
– Не отвлекаю?
– Уже нет.
– Тебя уволили. – Ермолов снова пожевал губами, уверенно резюмировал:
– Это к лучшему. Ибо люди подлы и алчны.
– Не все, – пожал плечами Олег.
– Все. Даже твой покорный слуга. – Он вздохнул, глаза его подернулись слезливой поволокой... – Молодость уходит слишком быстро. Слишком. И когда приходит удача, она тебе уже не нужна. Как и успех. У человека не остается ничего, кроме прошлого. Вернее даже – горькой памяти о нем.
– У некоторых остаются деньги.
– Вот именно. Эти лукавые слуги норовят стать господами, но Творец не может позволить себе, служить двум господам. – Иван Кириллович вздохнул еще горестнее. – Другие – могут.
– Что случилось, Кириллыч?
– На аукционе в Лондоне продали мои картины. Серию картин.
– Поздравляю.
Ермолов налил себе еще, спросил:
– Чего не пьешь?
– Нет желания.
– А из вежливости?
– Из вежливости я тебя слушаю. – Несмотря на существенную разницу в возрасте, Данилов был с Ермоловым на «ты» по упорному настоянию последнего.
– Мог бы и соврать.
– Зачем?
– Я не понимаю молодых. Вам совсем не знакома щепетильность.
– Когда как. Да и не так уж я молод.
– О да. Ты знаешь, сколько заплатили за семь моих полотен в Лондоне?
Двести восемьдесят тысяч фунтов.
– Я в этом профан. Это много или мало?
– Что ты придуриваешься, Данилов? Это признание, ты понял?! Успех!
Настоящий!
– Еще раз поздравляю.
Ермолов помрачнел, одним глотком прикончил полстакана:
– Не мой успех. Чужой.
– Почему?
– Картины писал двадцатитрехлетний гений Ваня Ермолов. В одна тысяча девятьсот шестьдесят третьем году. Иван Кириллович Ермолов с его циррозом, запойным пьянством и прочими проблемами никому не нужен и не интересен. Он ничего не создал. И уже не создаст.
– Это драма.
– Иронизируешь? Ну-ну. Знаешь, человеку свойственно желать. Женщин, роскошь, хорошие вина, внимание, поклонение... Когда желания исчезают, он труп.
Но вот в чем парадокс: удовлетворение этих самых желаний калечит человека еще пакостнее! Он становится, как это называют, «рабом приятной жизни». Ему противны и подвиг, и целеустремленность, ибо они нарушают гармонию суетного благолепия. А время, его время, уходит, не оставляя ничего по себе, кроме горечи несбывшегося. Ничего. Ничегошеньки. А если учесть, что впереди пустота и ночь...
– Прекрати плакаться, Иван. Теперь ты богат.
– Черта с два! Холсты увез мой однокашник Мося Гельман еще в семьдесят первом. Я не получу ни фунта. Люди алчны и подлы. Но... – Ермолов помолчал с полминуты, потом произнес тихо:
– Он в меня верил.
– Кто?
– Гельман. Весельчак и бездарь Мося Гельман.
– Выходит, не зря?
– Выпей, Данилов, мне трудно говорить с тобой трезвым. Ты меня не понимаешь.
– Понимаю.
– Но пить не станешь.
– Не-а.
– А я выпью.
Ермолов наплескал себе еще три четверти, выпил разом, как воду.
– Ты хоть понимаешь, отчего я тоскую?
– Отчасти.
Иван Кириллович покивал, как распряженный строевой конь.
– Жизнь прошла. И – не состоялась. И пожалуйста, не спорь. Укатали меня.
Или я сам себя укатал? Не знаю. – Ермолов тяжко вздохнул. – Дай-ка мне сигарету.
Он закурил, закутался в дым, как одеяло, поднял лицо:
– Ты знаешь, ребеночек, когда является в этот мир, орет – вот он я! Я – особенный! Я – неповторимый! Я – есть! А потом что? Он подрастает, а его тюк да тюк по темечку – не высовывайся, не горлань, не гордись... Вот и затихает человечек, а потом и навовсе – вязнет в интригах, чегой-то суетится по-мелкому, а на поверку – и не живет вовсе, долга своего перед природой и Богом не выправляет, так, пережидает жизнишку, будто время на автобусной остановке... А придет Суд, спросят: почто, раб Божий, талант в землю зарыл да дар свой бесценный – жизнь – на похоти и суесловия расточил? Что ответить? Что?
А чтобы талант свой ощущать, нам беспокойство дано. Вроде смотришь – и все у человечка есть, и умен, и пригож, и достатком Бог не обошел, а ходит как в воду погруженный, и лето красное ему не в радость, и зима белая – в тоску и укоризну... Знать – ест его сомнение да тревога: дни лукавы, время как вода сквозь пальцы бежит, под солнышком сохнет... И вот ладони уже сухи и шершавы, и не вспомнить – а была ли вода та? Нет, не вспомнить.
Глава 17
Иван Кириллович сокрушенно помотал головой, налил себе еще, выпил. Олегу показалось, что на стуле он держится чудом. Хотя пил художник всегда, надо сказать, крепко.
– А я к двадцати годкам сохранился в непорочном девичестве. Мир – полная чаша радости, вот что! Как в стихах:
- ...Я забывался в яблоневых снах
- Так искренне, так ветрено, так чисто...
- Там был ручей, конечно, серебристым
- И был совсем не сумрачным монах,
- Поросший первой мягкой бородой.
- Он был безгрешен, ясноглаз и весел,
- И распевал стихи греховных песен,
- И запивал вино святой водой!
- А если в чем была его вина,
- Так в том, что мир он принимал на веру,
- А лести, лжи, корысти черной меру
- В делах людей не видел. [5]
О, как я был легковерен! И – писал! Я писал мир ярким, яростным и страстным, жадным к жизни и чистым в своем совершенстве! Я желал, как Ван Гог, подарить этот мир людям, романтизм и идеализм! И не желал замечать ничего, кроме чистых цветов.
– Ермолов замолчал, словно собираясь с силами. – И меня за топтали. Крепко топтали, до костей. За чуждый классовому подходу мелкобуржуазный оптимизм, слюнтяйство, отход от принципов социалистического реализма... Хотя – что может быть губительнее для искусства, чем реализм?
Ермолов сник было, опустив голову на руки, но снова вскинулся, сверкая горячечными зрачками:
– Искус-ство... Искус... Искушение сотворения собственного мира и жизни, отличной от этой... Вот Господь и наказывает. Может, вся творческая тайна в том и состоит, что если ты решил писать честно и совестливо и обратился к Господу и Господь услышал тебя, то повел не просто вратами узкими, но через испытания тяжкие и мучительные, способные сделать сердце ранимее, а душу – зорче?.. Как заметил еще Экзюпери: «Я знаю только один способ быть в ладу с собственной совестью. Этот способ – не уклоняться от страданий». Да. Страдания очищают душу. Вот только вопрос: для чего они ее очищают? Для новых, еще больших страданий? И людей более всего привлекает чужая боль, перенесенная Творцом в вечность?.. А наши полотна... Они остаются все так же белы и пусты, и сил хватает лишь на то, чтобы облечь свою бездарность в парадную золоченую раму...
Иван Кириллович совсем поник. Когда он поднял голову, взгляд его был пустым, будто экран сломанного телеприемника.
– Семь холстов... Ясных, как жизнь. Написанных в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году... Сорок лет – в пропасть. Жизнь не удалась. – Он поднял лицо, искаженное страданием. – Ты понял, Данилов? Ты видишь расплату за предательство самого себя. Нет, когда я превратился из художника в маляра, я еще утешал себя тем, что отражаю свое сюртучное время... Сначала я еще пытался оживить полотна всполохами алого или беспредельностью синего... Тщетно.
Обыденность сопротивляется жизни еще более неотвратимо, чем смерть. А серость... Серость вицмундиров оч-ч-чень скрашивалась переливом алых червонцев, сиренью четвертных и скромной охрой сотенных... А еще – мерцающим пурпуром вина, персиковыми телами женщин, горячностью бредового веселья... Ну да, мы веселились яростно и отрешенно, чтобы как можно реже возвращаться в мир сюртуков и ковровых дорожек... Вот странно, ведь дорожки были малиновые с зеленым, а всегда виделись тоже серыми... – Ермолов неподвижно застыл на табурете, устремив взгляд в пустоту, произнес горько:
– Все было. Ничего не осталось. Ничего.
Некоторое время он так и сидел, словно мятое изваяние, поднял нездешний взгляд на Олега, спросил:
– Тебе снятся сны?
– Снятся.
– Что?
– Океан. Песок. Смерч. Девушка. Полет.
– Значит, ты счастлив. Только не подозреваешь об этом. – Он помолчал, добавил, снова погрузившись в трепетный мир выдуманных цветов:
– Нельзя обрывать полет, пока можешь летать. Нельзя.
Иван Кириллович снова налил себе, выпил, не чувствуя уже ни вкуса, ни опьянения. Улыбнулся вымученно и горько:
– Жизнь в вымышленном мире утомительна, как бессонница. Обрывки полусна-полубреда мечутся в ночных сумерках яркими всполохами, а утром не ощущаешь ничего, кроме усталости, раздражения и страха. Страха перед тем, что привиделось, страха перед одиночеством, как предтечей небытия... Страха перед новой ночью, как перед предвечной тьмой... Я боюсь снов. Все дело в том... У меня уже нет сил перенести их на холсты.
Кое-как Ермолов приподнял огрузневшее свое тело с табурета, его качнуло в сторону, но он удержался. Добрел до дверей, обернулся:
– Люди, встречаясь, чаще всего спрашивают друг друга: «Как живешь?» И никто не спросит о важном: «Зачем живешь?» Это считается бестактным. Если бы меня кто-то спросил тогда, может быть, я смог бы явить мир, что так и умер во мне?..
Ермолов отворил дверь, остановился перед проемом, как перед зияющей ямой, сказал едва слышно, почти прошептал:
– Не предавай себя, если сможешь. И даже если не сможешь, все равно не предавай. Живи.
Глава 18
Олег остался один. Вечером жара ушла, дождь заполоскал по листьям... Олег сидел и смотрел в дождливый сумрак за окном... «Зачем живешь?» Он не знал ответа. Впрочем... Это смотря что считать жизнью: если создание иных миров или иных химер, то да, его жизнь никчемна и напрасна. Ну а если... А что – «если»?
Он сделал кого-то счастливым? Или – счастлив сам? Искать ответ в книгах? О чем могут рассказать книги, кроме очевидного?.. Впрочем, любовь тоже очевидна, но еще никто о ней не рассказал так, чтобы поняли те, кто лишен дара любить. Тогда – что остается? Как в мудреном пионерском девизе: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Но что искать и почему не сдаваться, когда найдешь, от пионеров скрыли. Когда Данилов сам был пионером, девизом их отряда были слова Валерия Чкалова: «Если быть, то быть первым». Какое-то время Олег даже следовал ему.
Понимание, что первенство – это одиночество, пришло потом. Когда он уже привык быть первым.
А Иван Кириллович проспится. Пусть не от жизни, а всего лишь от пьянки. А там, глядишь, вместе с хмелем пройдет и горечь. А лукавое сознание, спасая душу от раздирающей тоски, придумает прожитым годам не просто оправдание, но найдет в минувшем много глубокого, важного и цельного. Ведь большинство живет даже не как бог на душу положит, а как нелегкая вынесет, и потом, в мирной или не очень тиши пенсионных раздумий, люди придумывают себе принципы, по которым якобы жили, и идеи, которым якобы следовали... Или ничего не придумывают, и к жизни их привязывают привычки. Закон «отрицания отрицания» срабатывает во всем своем разрушительном величии, а потому Ермолов прав в одном: мир принадлежит молодым, только они живут надеждами на блестящее будущее и иллюзиями великих воплощений, всем остальным остается лишь память о прошлом и сожаления о несбывшемся.
Звонок в прихожей снова разразился длинной переливчатой трелью. Или это Ермолов вернулся, чтобы добавить в квинтэссенцию вселенской тоски и самобичевания ноту здорового оптимизма?.. Вряд ли. После принятой дозы горячительного он витает в переменчивых чарах Алголя [6], а из когтистых лап этого беса вырваться не просто.
Данилов подошел к двери и распахнул ее. На пороге стояла Даша. В руках у нее была объемная сумка-рюкзачок.
– Не ждал?
– Не ждал.
– Хм... Мне что, вот так и стоять? Может, войти пригласишь?
– Входи. Только у меня бедлам.
Девушка сбросила ветровку, повесила на крючок, тряхнула мокрыми волосами.
– Ну что ты на меня так смотришь? Считай, я пришла извиниться за все, что произошло там, у реки.
– Бывало хуже.
– Я имею в виду не тех, из джипа, а когда... Ну когда меня в машину, а тебя скрутили.
– Я же сказал.
– Можно мне пройти?
– Проходи.
В комнате Даша огляделась, округлила глаза:
– У тебя не бедлам, у тебя тут гибель Помпеи!
– Предупреждать о визитах надо.
– Это экспромт.
– Тогда и общий бардак в кубрике будем считать экспромтом.
– Будем.
В комнате повисло молчание. Оно обступало, как вата.
– Ну что ты застыл, Данилов? Делай что-нибудь! Предложи девушке крюшон, сигарету, чай, кофе, шоколад! Разлейся соловьем, покажи, какой ты умный и замечательный! А то ведь через пять минут я тут скисну и умру!
– Прекрати балаболить. Тебе ведь невесело, а?
– Да. Невесело. Можно я закурю?
– Валяй. Крюшона нет, а чай сейчас будет.
Данилов прошел на кухню. Задумчиво посмотрел на гору посуды в раковине...
Выудил две пиалы, тщательно вымыл, сполоснул подошедшим за пять минут кипятком заварной чайник, высыпал более чем щедрую порцию заварки, залил, накрыл полотенцем. Вернулся в комнату, сел в кресло, закурил.
– Ну не сиди таким мрачным монументом, Данилов! На самом деле я жутко смущена, а ты... Я не знаю, как вести себя с умными взрослыми мужчинами! Не приходилось!
– Разве?
– Ну... Только как примерной дочери серьезного родителя. А самой – нет.
– Сейчас заварится чай.
Олег сходил на кухню, вернулся, расстелил на столике чистое полотенце, принес пиалы, чайник, сахар. Разлил чай.
– Ты так и будешь молчать, Данилов?
Олег пожал плечами.
– Может быть, ты думаешь, я тебе на шею пришла вешаться?
– Да нет. С чего?
– С чего... – задумчиво повторила Даша. – А ни с чего! Просто вот возьму и обниму! Оттолкнешь? Ты понял, почему я пришла?
– Тебе плохо.
Даша помолчала, кивнула совсем по-детски:
– Да. Мне плохо. Ты догадался, потому что веду себя как истеричка?
– Просто ко мне приходят люди, которым плохо. Когда им хорошо, им не до меня.
– Если людям хорошо, им вообще ни до кого. Разве не так?
– Так.
– И обижаться тут не на что. А ты правда странный. Вроде взрослый, а рассуждаешь как ребенок. И вид у тебя совсем такой же: «За что меня наказали?»
Наверное, это от беззащитности. Но ведь беззащитность – это не слабость?
– Нет.
– Вот и я так думаю. Она делает человека сильным и оставляет добрым.
Когда-то у меня папа был таким, только... Он всегда так боялся показаться слабым, что надел на себя маску «несгибаемая воля», и она победила его, эта маска. Он перестал замечать живых людей. И понимать. Он видит только их маски.
– И тебе от этого плохо?
– Мне много от чего плохо.
– Это просто юность. С возрастом пройдет.
– С возрастом все пройдет, даже жизнь! Только я не хочу жить в клетке и одноклеточным! Данилов улыбнулся грустно:
– Часто вся обида юности состоит лишь в том, что нам кажется, что все лучшее в этой жизни уже было и завершилось до нашего рождения... Было до нас и без нас. Или – будет потом, но тоже без нас. Это пройдет.
– Что ты читаешь мне сентенции? Я вовсе не дитя неразумное... А ты отгораживаешься от меня этим поучительным тоном, словно забором.
– "О чем бы ни спросил бы, зачем бы вдруг да ни разжал уста, опять дежурное «спасибо», потом резервное «пожалуйста» [7] – негромко напел Олег. – Извини.
– Это ты извини, что я тебя загружаю... Просто... Я знаю, все лучшее есть сейчас, но оно где-то не здесь, не со мной, вот что! И я загнана в какие-то рамки, мне в них тесно, неуютно, муторно, но другой жизни я не знаю и... боюсь.
А что может быть горше – тосковать о жизни и не видеть даже, а чувствовать, как она проходит мимо?..
Олег ничего не ответил, просто смотрел в одну точку.
– Прости. – Девушка подняла лицо, посмотрела на Олега, покраснела. – Я немного выпила. Или – много. Для храбрости. Больше всего я боялась, что ты меня сразу прогонишь.
– Как ты меня нашла?