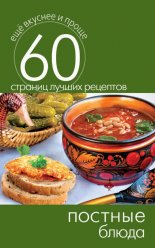Соль любви Кисельгоф Ирина
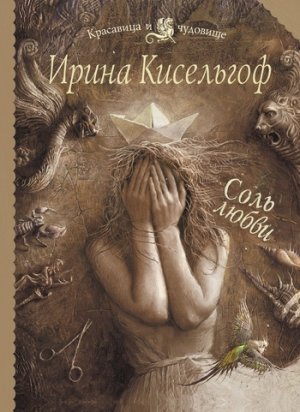
Я рыдала долго, пока не стемнело. Пока не устала от себя, от своих слез, от всего. Слезы выключились сразу после того, как пришла темнота. Я посмотрела на свои руки. На сером трикотаже футболки расплылись огромные черные кляксы, и я спрятала руки под стол. По привычке.
– Мне не с кем выпивать и закусывать в Новый год. – У Геры был грустный голос.
У меня подкатил горячий комок к горлу. Я хотела ответить и не могла.
– Я слышу бурю соплей по телефону, – сказал он. – Давай иди в гости любоваться на снег! Бегом!
– В старом платье своем бумажном? – прогундела я сопливым носом.
– Ну! – засмеялся Гера. – Будем валяться в снегу и морщинки разглаживать!
Я рассмеялась сквозь слезы. Они опять потекли, как из крана.
– Руки в ноги и бегом! – грозно сказал Гера – И не нюнить!
Я выскочила на дорогу и замахала двумя руками, возле меня тут же остановилась машина. Я даже не назвала адреса, а машина сразу привезла меня туда, куда надо. К моему собственному причалу. Ноги сами меня к нему принесли. Даже не принесли. Я долетела к родному дому на одном дыхании, не заметив ни расстояния, ни времени. Ни миллиметра, ни секунды! Как в сказке. Самой настоящей.
Многие люди ищут всю жизнь свой собственный причал, а он под боком. Получается, люди глупые.
Мы встречали Новый год впятером: я, Гера, Лимон, Яблоко и Пьеро. За праздничным белым столом у елки, пахнущей лесом, снегом, смолой и хвоей. Я закрасила нарисованные слезы Пьеро затиркой для печатного шрифта.
– Ни в жисть не отстирать, – сказал Гера.
Пьеро удивленно таращил на нас черные пуговицы своих глаз, думая, что мы за чудо такое. У него был такой потешный вид! Над ним смеялись даже Лимон и Яблоко. Пели хором и хихикали. И мы с Герой тоже смеялись над Пьеро, нам было совестно, но ничего тут не поделаешь. Так получилось само собой. А потом мы с Герой валялись в сугробах, разглаживая морщинки в душе, и глазели на черное небо. В нем не было видно звезд, только фейерверки. Они улетали в небо россыпями цветов и ягод. Никогда не видела таких фейерверков! Цветочных и ягодных, пахучих и вкусных.
Все было хорошо. Просто отлично. Как никогда. Но морщинки в душе не разгладились. Гера не мог мне помочь. Хирурги родных не оперируют.
Нас повели в хоспис. Как раз перед сессией. Это была учебно-ознакомительная прогулка. Не более. Я знала, зачем иду. Я не боюсь смерти. Но увидела глухую стену и вдруг испугалась. Людей, на чьем месте мог оказаться любой, отгородили стеной, чтобы не думать.
Изнутри на стене путались и блуждали сухие стебли дикого винограда. Стена давила на них, они упорно ползли вверх. Поодаль в безлюдном саду корежились озябшими ветвями нагие деревья. На газонах лежал ноздреватый снег, в нем упрямо топорщилась бескровная, уже мертвая трава. Над травой пустое, бессолнечное небо, под ней черная, сырая земля, наспех прикрытая белой простыней снега. Я, еще не войдя в дом, увидела его воочию. Он походил на тюрьму для больной души. Сумрачные, бесконечные коридоры, вдоль нескончаемой стены струятся бесчисленные копии закрытой наглухо двери. И ни молчания, ни крика неслышного.
– Я не пойду, – я оглянулась назад. Туда, за ворота.
– Слушай, Лопухина, какого черта ты поперлась в медицинский? – глаза Терентьевой жестко сощурились.
– Не твое дело, – я развернулась, чтобы уйти.
– Пойдем, – Старосельцев взял меня за руку. – Первый раз бывает не по себе.
– Откуда ты знаешь? – ненавидящие глаза Терентьевой просверлили его руку насквозь. Старосельцев не счел нужным ответить, я доверилась ему, хотя мне было не по себе.
Мы открыли двери, дом встретил нас теплом, светом, запахом печенья и фруктов. И птицами – шафрановыми канарейками на фоне ярких луговых цветов обычных, прозрачных штор. Луговые цветы поблескивали электрическим светом, а напротив окна – картина: городская улица под дождем. Вдаль уходят деревья с листьями всех цветов радуги. Листья пылают слезами небесного дождя. И нельзя понять, где листья, где городские огни, где небо. Синее небо сливается с бирюзовыми, сиреневыми, голубыми и белыми листьями. Свет фонарей – с оранжевыми, красными, желтыми и бордовыми. Небо, огни и полыхающие, многоцветные листья отражаются в мокром асфальте, мокрый асфальт горит и переливается радугой из неба, огней и листьев. Деревья, слившись с землей и небом, уходят все дальше и дальше. И они так прекрасны, что захватывает дух и сжимает горло.
Запах печенья вытеснил запах лекарств и болезней. Хоспис пах домом – не смертью. И жил по своим законам. Его придумали для живых, только умрут они раньше.
Я увидела в комнате добровольцев большой стол, застеленный белой скатертью, на него сплошным прозрачным потоком лился из окна свет.
– Скатерть какая красивая, – тихо сказала я, под моим пальцем вились и закручивались клумбы вышитых гладью белых цветков. Белое полотно расплывалось белым оконным светом, а от шитых гирлянд, венков и букетов падала тень, которую и увидеть можно, только если сядешь. И казалось так, будто бескрайняя река бесчисленных белых цветов летит в заоконную светлую даль.
– Елена Степановна уже отходит. Так мучается, так мучается, сил нет. Когда же бог ее приберет? Соборовать надо, отказывается. «Я просила, просила, – говорит, – а он не помог. И там не поможет. И там мне маяться». И как заплачет, а плакать нечем. «Как не поможет? – спрашиваю. – А внуки у вас какие? Старший в МГУ поступил. Сам. Ему заниматься надо, а он к вам ходил, не забывал. И дочка каждый день с вами. И зять приходит. Разве каждому так везет? Иные всю жизнь одни маются. Здоровые ли, больные ли, разницы нет. Все одни маются». Поговорила с ней, поговорила. А она вздохнула и попросила: «Правда ваша. Зовите батюшку». Вот так… Легче ж душе, если не одна она туда уйдет.
– А Заринка моя. С куклой не играет. Лежит, думает, мордашка смурная. А так думать нельзя. «Что не играешь?» – спрашиваю. «Не играется, – говорит, – мама опять плакала. Думала, сплю, а я видела. Жалко мне ее. Как она без меня останется»? Малая совсем, а мать утешает, беспокоится… На Заринку смотрю, Севу своего вспоминаю. Похоронила, ему семи еще не было. Целый год ходила на могилку, каждый божий день. Приду, зернышки, печеньки для птиц на его могилку посыплю и плачу, и плачу, и плачу. Такая тоска на меня напала, ни есть, ни пить не могла. Вот он ко мне ночью и пришел. Стоит у кровати, маленький такой, нос конопатый, и просит: «Не плачь, мама, холодно мне там, сыро. Я весь в твоей воде». Пошла тогда к бабушке знающей, она и помогла. Тоску мою перемолола. Сынку моему легче сделала.
– Я тут из деревни своей травки выписала для Аннушки. С оказией и прислали. Через Ваську-экспедитора. Медовица называется по-нашему. Сама летом собирала после Петрова дня. Собирала да приговаривала: «Небо – отец, земля – мать. Травушка-муравушка, разреши тебя сорвать».
– Не по-божески это. Заговоры-то ваши, Мария Ивановна.
– Как не по-божески? Так то ж за-ради здоровья, за-ради души покойной. Я ж говорю, собирала да приговаривала: «Дай мне не на хитрость, не на злобу. Для добра, для здоровья». Как не по-божески-то?
– Какая уж тут теперь разница? Главное, чтоб помогало.
– Так и я о том же. Даю по глоточку по маленькому. Пей, говорю, Аннушка, пей, голубушка, враз полегчает. А она глоточек отопьет, отдохнет. Отопьет, отдохнет. «Спасибо, – говорит, – Мария Ивановна, полегчало». А слезки катятся, а я отираю…
За большим столом, застеленным белой вышитой скатертью, сидели три женщины. Остальные были у своих. А над женщинами часы. Стрелки их двигались тихо, не спеша. Три простые, обычные женщины сумели замедлить и растянуть время. Для своих. Я только подумала об этом, как сразу забыла. Меня позвал Старосельцев.
– Напилась чаю? – спросил он. – Мне надо к Алексею Федоровичу. Пойдем.
Мы пошли по длинному коридору. Я увидела в горшках на подоконниках обычную траву. Крошечные леса крепкого лугового мятлика. И на шторах луговые цветы, и на коврах луговые цветы. Неяркие, уютные цветы дома с общим столом и белой скатертью до самого неба.
– Алексей Федорович, я вам газеты принес о текущем политическом моменте.
Старосельцев подал газеты, Алексей Федорович положил их на одеяло. Толстое, стеганое одеяло не сумело скрыть худобы убитого болезнью тела. Я невольно отвела глаза, и мне стало стыдно. Я виновато взглянула на Алексея Федоровича, он будто ничего не заметил. Старосельцев подвинул мне стул и сел сам.
– Читать не будем? Кате, наверное, это не интересно. Да, Катя?
– Нет. Почему же, – сказала я.
– Честно? – улыбнулся Алексей Федорович.
Я замялась, не зная, что ответить.
– Не переживайте, Катенька. Здесь не нас надо жалеть, а близких наших. Не мы сиротеем, они. Для меня смерть избавление, и жду я ее как доброго друга. Потерплю и пойду туда, откуда пришел.
– А откуда мы пришли?
– Не знаю, Катенька. Вот подожду и узнаю. Сдается мне, мы в этом мире только паломники. Он открыл нам двери, мы открыли его красоту. Но приходит пора, и мы всегда возвращаемся.
– Хотите сказать, что мы движемся по замкнутому кругу? – спросила я.
– Я хочу сказать, что это звучит обнадеживающе. Хотя мы уже вложились – вырастили детей. Может, это и есть наш круг?
– Кто открыл красоту, а кто нет, – вдруг сказал Старосельцев.
– Да, – согласился Алексей Федорович. – Я сам понял это только сейчас. Мир надо слушать, как раковину. Может, тогда ты сумеешь услышать море. Но для этого требуется пространство и воздух. И смелость, наверное. Выбор сделать сложно. Даже самый простой. Неловко. Вдруг осмеют или осудят? Или страшно. Иногда очень страшно. Распнут. На чужой взгляд пустяк, а для тебя выпала целая жизнь. Душа человеческая так красива, а мы и свою изгадим, и чужую затопчем. Как это недальновидно… Как глупо! Если бы кто-нибудь знал!.. Эхх! Знать бы, что жизнь складывается из важных мелочей… Что пойдет по-другому… От одной важной мелочи к другой… А так прожил зря, профукал все. Жаль мне, очень жаль…
– А как найти другую жизнь? – я, даже не заметив того, подалась вперед.
– Одному не выйдет. Вот только найти человека. Своего до последней косточки. И все получится. Без этого никак… – Алексей Федорович задумался, мы ему не мешали.
Он смотрел в окно, за которым были дубы. Кряжистые, могучие, надежные. В незапамятные времена из дубов делали колеса и корпуса парусных судов. Ветер надувал паруса и уносил сколоченный из дуба трехмачтовый барк в дальнее плавание. К новым причалам. Или домой.
– Людям нужны соборы. Маленькие и большие. И в них пространство и воздух. Я же уже говорил…
– Пространство и воздух, – как эхо повторила я.
– Я прожил длинную жизнь. Добрая жена, хорошие дети, внуки. Счастливо жил. В достатке. Да вот думаю не об этом, – Алексей Федорович смотрел на нас, а будто вдаль, за окно. – Город родной вспоминаю… Лето, жара, пыль и девочка в выгоревшем, застиранном платье. Хрупкая, тоненькая. Идет по улице, на босых ногах пыль, на лице свет… Тонечкой звали. Аэродром рядом был, она все туда бегала. Мечтала долететь до края земли… Все были в нее влюблены, а Сенька ее попортил. Посмеялся… Обижали ее, кто и камнями бросал. А она идет и идет, в глазах слезы, на лице свет… Забыть не могу. Все идет и идет… – Алексей Федорович помолчал. – Защитить ее надо было, а я как все. Так и пошло…
– Что с ней сталось? – спросила я, но Алексей Федорович меня не услышал. По его памяти все шла и шла девочка, мечтавшая долететь до края земли. На босых ногах пыль, на лице свет.
– Почему ты не говорил, что сюда ходишь?
– Как сказал великий Шар, в самую страшную бурю рядом отыщется птица, чтобы утешить. Из чего следует, буря дает крылья, – Старосельцев улыбнулся. – Белые.
– Я серьезно. Почему не говорил?
– А что говорить. Дело мое, – нехотя ответил Старосельцев. – Я же не тачку купил, чтобы понтоваться.
– Зачем же ты ходишь? – Не знаю, отчего мне так важно было узнать. – Чтобы «узреть мудрость»?
– Да не в этом дело, хотя, может быть, и в этом тоже. Мать моя умерла. Болела тяжело и трудно умирала. Ее тащили и тащили на наркотиках, а они уже не помогали. Совсем. Она кричала от боли днями и ночами. Сутками. А когда приходила в себя, просила: «Убей меня! Убей!» Поднимала глаза вверх и молила, молила, молила. Без конца и края! Я слышу ее голос даже сейчас, – Старосельцев отвернулся, а я успела увидеть в его глазах слезы. – Я тогда школу заканчивал. Устал ото всего и уехал. Отдохнуть решил. Думал, что такого? Успею, – Старосельцев сплюнул. – На месяц укатил, а приехал забирать ее из больницы. Неживую… Лето, жара, а на ногах ее две пары носков шерстяных, распоротых. Мерзла она самым жарким летом. Лежала там одна и мерзла. Как сейчас помню, отечные, распухшие ноги и рваные лохмотья на них. Как… – у Старосельцева перехватило горло. – …Как будто у нее никого нет. А я есть! Понимаешь?
– Да.
– Вот почему я за эвтаназию. Только здесь я уже не знаю, правильно это или нет. Понимаешь?
– Да.
– Будешь сюда ходить?
– Нет.
– Почему?
– Не хочу видеть, как люди уходят.
– Так тогда же они уйдут не одни.
– Не хочу! – закричала я как безумная. – Не хочу! Понял?!
– Катя, посмотри на окно, – вдруг сказал Старосельцев. – Видишь?
На оконном стекле раскинулись еловые ветки, нарисованные зимой. На темно-синей, заснеженной хвое в лучах закатного солнца пламенели искрящиеся ледяные шары. Дискотечные зеркальные шары, развешенные на стекле морозом, разбросали красные и розовые блики на синие еловые иголки и просыпались на подоконник. Зима устроила праздник. Разве ее просили?
– Какой калейдоскоп перелистал костер, который вмерз в оконный переплет?.. Я вас люблю. Я до краев налит свинцовой мукой, но все же невесом.
Лицо Старосельцева пылало вечерним солнцем. Он смотрел в окно, я не могла разглядеть его глаз. Я даже не могла их вспомнить, хотя видела каждый день. Я узнала Шара и вдруг поняла, что совсем не знаю Старосельцева. Он всегда раздражал меня до зубовного скрежета. За Рыбакову, за Терентьеву, за всех. Он открылся мне сейчас, и я разгадала – все мы хотя бы раз в жизни Корицы или те, кто их убивает. Гера об этом уже говорил. Это было так давно, что я забыла. Зря. Может, это мне помогло бы. Любовь – дурацкая штука. Она выбирает за нас и выбирает не нас.
– Я хочу большой белый стол, – вдруг сказала я. – Уже давно. Сколько себя помню.
Я только произнесла это, как увидела глаза Старосельцева перед собой. Под огромной лупой зимнего солнца. В них шкотами бежали травянисто-зеленые радиальные мышцы. Шкоты управляют парусами и расширяют зрачок. Это все знают.
– Я не умею делать столы, но можно научиться. Хочешь попробовать?
– Правда?
Старосельцев обнимал меня так осторожно, будто боялся, что я сломаюсь. Мне было тоскливо. Так тоскливо, что хотелось плакать. Старосельцев оказался моим человеком до самой последней косточки, а мне выбрали другого. И ничего поделать с этим нельзя.
Ночью мне приснился сон. Я собирала траву, расстеленную огромным полем до самого горизонта. У травы было лицо, и в ее лице свет. Два улыбочных солнышка, а глаза зеленые.
– Пей, голубушка, – сказал мне кто-то.
Я отпила медовой травы. Она пахла весной и морем.
– Спасибо, полегчало, – ответила я.
Глава 18
– У меня сегодня день рождения, – сказал Илья. – Отмечаю как обычно. С друзьями. Сначала в ресторане, потом в ночном клубе. До утра.
– Можно я с тобой? Или нет?
– Там будет много моих друзей. Очень много. Толпа. Тебе же это не нравится.
– Разве мы не можем быть вместе? В твой день рождения?
Для меня «вместе» значило быть вдвоем. Рука об руку. Глаза в глаза. День рождения для меня самый важный день на свете. Важнее Нового года. Иначе зачем тогда рождаться и зачем жить? Без этого дня все теряет смысл.
– Оденься поприличнее, – усмехнулись черные ямочки. – Ты вроде как со мной.
– Хорошо, – мой голос привычно сорвался на шепот.
Я все поняла. Илья не хотел, чтобы я шла отмечать день рождения с его друзьями. Я оказалась бы там не к месту. Белой вороной. Я не должна была идти, но пошла. Все всегда поступают согласно объявленной истине. Получалось, я тоже. А может, я чего-то ждала. Сама не зная чего.
Я приехала домой и отыскала прабабушкино белое кисейное платье. Она носила его совсем молодой. До замужества. Она улыбалась с фотографии, глядя мне прямо в глаза. У нее была такая хорошая улыбка.
– Я нормально оделась? Без финтифлюшек, широких юбок, пелерин и оборок. Это не винтажное платье. Совсем обычное.
– Ты похожа на белого лебедя.
– Из «Лебединого озера»?
Я вспомнила четырех дурацких лебедей в кокошниках из белых перьев. С ногами флажком под зонтиком из слоеной газовой вуалетки.
– Нет! На лебедя-подростка! – улыбнулся Гера. – У тебя глаза стали ультрамариновыми. Синее море, белый парусник, дальние страны. Все в твоих глазах.
– Я им не понравлюсь. Я не белый лебедь, я белая ворона.
– Ты не белая ворона. Ты привидение белой вороны. Они от ужаса сделают харакири.
Мы рассмеялись. И я его обняла. Как я хотела, чтобы Гера пошел со мной!
– Люди такими красивыми не бывают, – его сердце колотилось как сумасшедшее. – Ты пришелец из другой галактики. Из твоей любимой фантастики.
– Все пришельцы злые, – я зарылась головой в его грудь.
– Нет. Просто злые самые активные и навязчивые. От них помогают пестициды.
Я положила в сумку туфли и застряла у входной двери. Как мне не хотелось идти! Мне было страшно. Как в детстве.
– Если что, отстреливай безжалостно. Остальных добивай ногами, – Гера пальцем приподнял мне нос. – Я это на всякий случай говорю. Люди хорошие. Сама увидишь.
Я приехала в ресторан одна. Илья сказал, ему некогда меня встречать. Уже в холле я услышала мажорную музыку. Такая музыка и должна быть на днях рождения. Я переобулась в туфли и вошла в зал. Я впервые была в ресторане, потому не сразу нашла его компанию.
– Знакомьтесь. Катя! – засмеялся Илья.
Рядом с ним сидела девушка с вишневыми губами. Моя ровесница. А места свободного для меня не оказалось. Нигде.
– Официант! Стул! – крикнул Илья. – Для девушки с кукушкой в голове!
Все рассмеялись. Официант нес стул, я стояла возле стола, гости праздновали день рождения. Я хотела уйти и не могла. Во мне остановилось время. Я наблюдала со стороны, как Илья зачарованно смотрел на вишневый рот девушки. На то, как вишневый квартет сложил вишни поцелуем и потянул из трубочки коктейль. Он смотрел не отрываясь, выражение его глаз увидеть было нельзя, но это стало неважным. Темно-красные вишни и золотой мартини без труда сложили кубик Рубика. Не стоило даже гадать.
Две вишенки вверху, две полные вишенки внизу с разлившимися вишневыми дорожками по обе стороны говорили не умолкая. Гроздь спелых вишен, которые, наверное, хочется есть глазами. Квартет сладких вишен под большими, искрящимися глазами. И чужие глаза, множество пар чужих глаз и ушей, слушающих музыку вишневого квартета в огромном пространстве из искусственного света и кондиционированного, стерильного воздуха.
Девушка подняла голову и улыбнулась Илье одними глазами. Ее губы были сложены поцелуем вокруг трубочки для коктейля. Он улыбнулся в ответ. Девушка опустила ресницы и сразу же подняла. Широко распахнула ресницы, чтобы впустить другого человека в себя. Она пила коктейль, глядя на него, он на нее. Так получилось, что два человека внезапно оказались одни в зале обычного ресторана. Илья улыбался. То чуть заметно, будто для себя, то отчетливо, почти вслух. Наверное, сидя рядом с ним, можно было и не заметить улыбки, если бы не ямочки на щеках. Его улыбка жонглировала ямочками, они лучились смехом, разлетаясь во все стороны, и гасли так же внезапно, как появлялись.
– Стул, – раздался рядом голос.
Я вздрогнула и перевела взгляд на официанта.
– Сом, подвинься! – велел Илья. – Видишь, девушка стоит.
Гости раздвинулись в торце стола, напротив Ильи, официант еле втиснул стул.
– У тебя правда кукушка в голове? – улыбаясь, спросил Сом.
– Судя по прикиду, она принцесса на горошине, – рассмеялся второй.
– Кто горошина? – подняла брови девушка справа от Ильи. – Неужели ты, Софронов?
– Не я – кукушка, – Илья улыбнулся сам себе.
– Слушай, Катя, ты немая? – спросил Сом. – Что молчишь?
– Глухонемая, – ответила за меня девушка с вишневыми губами.
Все расхохотались. Я опустила голову. На пустой тарелке кружилась мандала, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Я не могла ее разглядеть. Она меняла положение и форму, расплываясь в тарелке синим чернильным пятном.
– Не трогайте Катю. Она особенная, – сказал Илья. – Она останавливает время.
– Как? – спросил человек, похожий на морского конька.
– Висит на маятнике, пока часы не сломаются! – засмеялся Илья.
Раздался гомерический хохот. Люди, когда смеются от души, качаются. Туда-сюда. Туда-сюда. Как маятник. Наверное, хорошо, когда людям весело, особенно если смеются они от души.
Я подняла глаза на Илью. Он улыбнулся мне, жонглируя ямочками на щеках. Нормальными ямочками, залитыми искусственным светом. Подцепил вилкой кусок карпаччо из осетра и отправил в рот. Свежую, мертвую рыбу. В самый раз.
– Мне нравится Катя! – смеялся человек с глазами навыкате. – Хочу узнать поближе! Что в ней еще такого? Эксклюзивного!
– Катя летает на золотых дирижаблях из пыли! – хохотал человек с ямочками на щеках.
– На чем?
– Из пыли! – сгибался от смеха человек с ямочками на щеках. – И плавает на бумажных корабликах!
– Психбольница! – визжали от смеха вишневые губы. – Где ты ее нашел? В Кунсткамере?
– Она падает в обморок от поцелуя! – хохотал человек с ямочками на щеках. – Валится на руки! От поцелуя!
– Припадочная! – веселились гости.
– Катрин! – человек с рыбьими глазами щелкал пальцами у моего лица. – Ау!
– Ку-ку! – хохотали гости. – Ау!
Кто-то в ресторане выключил звук и цвет. Я смотрела на разверстые, хохочущие рты. Они смеялись совсем беззвучно. Как в черно-белом немом кино. Вот тогда я и разучилась плакать. Разучилась, встала, взяла сумку и вышла.
Я шла по ночному зимнему городу. Тротуары расчистили от снега, у моих ног закручивались в крошечные смерчи ледяные снежинки. Они царапали мои ноги до крови. И кружились в веселом танце. Без музыки. Я танцевала с ними тот же танец. Под мерный стук башмаков ледяного монаха. Тогда я впервые услышала стук его башмаков. Это, оказывается, совсем не страшно.
Меня тянули за руку.
– Эй! Я тебя уже четверть часа зову. Ты чего?
Из кромешной тьмы веселого, украшенного горящими гирляндами города выплыла белая маска Ледяного монаха. Он смотрел на меня черными дырами глаз и улыбался черной дырой, приглашая к себе. Он меня ждал.
– Убейте меня. Прошу вас.
Он отшатнулся от моих глаз и пропал в темноте. Я пошла дальше. Под стук башмаков Ледяного монаха. Ледяной монах любит тишину. От него стынут руки даже на солнце.
– Белены объелась? – меня взяли за руку. – У тебя руки как ледышки. Садись в машину. Довезу, куда надо.
Ледяной монах снял пальто и накинул мне на плечи. Я посмотрела на небо. В нем не было звезд. В городе вместо звезд светили елочные гирлянды.
Меня усадили в машину, как куклу. Тряпичного Пьеро из моего детства. Только слез на моем лице не было. Даже нарисованных. Вот и все отличие.
– К родителям тебе надо. Всегда обогреют.
– У меня нет родителей, – без выражения сказала я.
– Дом есть?
– Есть.
– Адрес говори. И ноги к печке ставь. Согреешься. Жаль, водку выпили. В самый раз была бы.
Мы ехали по веселому послепраздничному городу, опутанному сетью елочных гирлянд. Это было красиво. Так же, как красивы сиреневые вены на крошечном тельце цвета индиго. Я ехала в машине и слушала четкий голос пожилого человека. Как радиопередачу.
– Смотрю. Девчонка в одном платье и туфельках по улице топает. Глазам не поверил. Думал, фея. Совсем, думаю, допился, старый дурак! Фея в белом платье и белых туфельках! Ночью. Зимой. Прямо в моем городе! Кому такое рассказать, не поверит! Идет и каблучками цок-цок. Цок-цок. Будто лето какое! – он рассмеялся. – А ты – убейте да убейте. Как такую фею убить? Слышь?
Он наклонился и застегнул на мне пуговицы своего пальто.
– Согрелась? Что молчишь? Глазищами своими смотришь да молчишь. Нельзя молчать. Душу открывать надо. Легче так.
Он вздохнул, мы поехали дальше.
– Ты ерунду из головы выбрось. Я тоже по молодости вены резал. Видишь? – он задрал рукав пиджака и протянул руку, она казалась серой в темноте. – А сейчас живу-поживаю, добра наживаю. Весело живу. Дурак был, а сейчас поумнел. У всех так случается. То хоть убей, то живи, веселись.
Он довел меня до дома, до самой квартиры и позвонил. Гера открыл дверь. Человек подтолкнул меня к Гере.
– Ты это. Согрей ее. А то заболеет. И посиди с ней всю ночь. Надо так.
Гера отнес меня в кровать, как тряпичную куклу, и влил в рот стакан коньяка. Я пила коньяк как воду. Выпила, закрыла глаза и сказала:
– Я гадкий лебедь.
И провалилась в темноту. В ней не было ни тепло, ни холодно. Никак.
Я проснулась от грохота колес мчащегося поезда. Они стучали и стучали. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! До бесконечности.
Я раскрыла глаза и увидела разверстые, хохочущие рты. И капли слюны. Они застыли в воздухе тусклыми серыми градинами. За столом сидели механические кукушки. Они хохотали от слез, беззвучно раскрывая рты. И качались от смеха. Туда-сюда. Туда-сюда. Туда-сюда. До бесконечности.
Меня за руку держал Гера, его рука была теплая, моя – ледянее льда.
– Гера, – без выражения сказала я. – Они надо мной издевались. Все. Я раньше думала, плохо, что обо мне забыли. Хуже не бывает. А оказывается, это хорошо, когда люди не знают, где твоя стоянка. Я мечтала не о том, о чем надо. Нельзя о себе напоминать. Не надо, чтобы о тебе помнили, надо, чтобы тебя забыли.
Он поцеловал мою руку. Моя ладонь была в его слезах, а я разучилась плакать.
– Он рассказал им обо мне все. Про все мои детские тайны. И про кукушку, и про часы, и про угол забвения. Про все. До последнего слова.
Гера сжал мою руку так, что чуть не сломал пальцы. Но я не чувствовала боли. Мне было никак.
– Зачем?
– Просто так. Для развлечения.
– Прости меня. Я тебя не уберег.
Он плакал, обхватив голову руками. Совсем тихо. А он никогда не плакал.
– Нет. Дело во мне. Я знала, что так случится. С самого начала.
Мы молчали, на наших лицах кружились тени серых, тусклых градин.
– Не уходи от меня. Я без тебя не выживу. Я люблю быть одна, но не могу быть одна. Мне легче жить, когда я знаю, что ты со мной.
– Я никогда от тебя не уйду.
Он поцеловал мои ладони, я провела пальцами по его волосам. Они стали совсем седыми.
– Гера, помнишь мою любимую картину? Праздничный белый стол улетает в синее небо за белыми птицами. Это не радостная картина. Мы ее не поняли. Она грустная. За столом никого нет, и на стуле никого нет. Некому праздновать, и праздников нет. Я тогда не поняла. Этот стол улетал от меня, а я не успела сесть на стул.
– Ты успеешь. Обязательно успеешь. Верь мне. Я знаю жизнь.
– Нет, – я рассмеялась. – Стул остался на земле, а стол улетел. Такая дурацкая картина. Зачем я фотографировалась? Надо было оставить одну эту картину. Это моя жизнь от начала до самого конца.
– Ты поплачь. Тебе будет легче. Тебе всегда легче, если ты плачешь.
– Не плачется. Я отдохну. Ладно?
Что делать, когда веру выдрали с мясом, не уронив ни капли крови? Я хотела только одного, чтобы меня не было. Чтобы я исчезла, испарилась, затерялась, растаяла, растворилась, пропала без следа. Самое лучшее лекарство – это когда тебя не помнят. Я поняла своего отца. Он забыл меня, потому что ему стало страшно оставаться рядом с моей матерью. Я была бы лишним напоминанием. Ни к чему это. Жить и так тяжело.
Я провалилась в темноту. Под грохот колес мчащегося поезда. Они стучали и стучали. Стучали и стучали. Одна. Одна. Одна. Одна. До бесконечности.
Я не выходила из дома. Ни в институт, ни на улицу, никуда. Не подходила к телефону, к входной двери. Я жила в скорлупе темной бабушкиной квартиры. Мне было страшно как никогда. До падения артериального давления, до холодного пота, до остановки сердца. Я стала бояться людей. Всех до единого. Самое страшное – это не привычные, оживающие предметы. Самое страшное в жизни – это люди. Любые.
Мне нужен был только Гера и больше никто. Но я боялась других людей даже с ним. Меня сжало пружиной, а пальцы меня не слушались. Онемели.
– Тебе звонил однокурсник, – сказал как-то Гера. – Старосельцев.
– Пусть, – вяло ответила я.
– Он беспокоится. Я по голосу почувствовал.
– Не знаю я никакого Старосельцева.
Зачем нужны чужие люди? Чтобы получить еще раз бритвой по глазам? Я не ждала ничего хорошего. Ни от кого. Так было легче.
– Пойдем погуляем?
– Нет.
– Ты не можешь никуда не выходить.
Я покачала головой. Гера вздохнул и прижал меня к себе. Смешно. У него на глаза набежали слезы, а я перестала плакать. Невзначай. Как-то вдруг все поменялось местами.
– Почему ты никуда не ходишь?
– Не хочу.