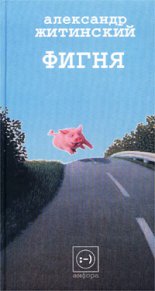На Маме Куклин Лев

I
…Вот уж сколько лет прошло с тех пор, как я работал на Маме, а в словосочетании, которое вынесено мною в название моего повествования, мне всё чудится некая двусмысленность… Говорим же мы совершенно спокойно: на Волге, на Оке или – на Каме, и ничего, никакой тебе двусмыслицы! А вообще-то говоря, это ласковое имя – Мама носит невеликая речка в Восточной Сибири, так же называется и посёлок в Иркутской области. Вырос посёлок возле пристани на реке Витим, – серьёзная пристань, грузовая, а оттуда дальше можно и до самой Лены добраться.
Но в ту пору, о которой идёт речь, главное, чем славился Мамско-Чуйский район, кроме старинного тракта, – это знаменитые древние разработки месторождений «московитского стекла» – прозрачной слюды-мусковита. В стародавние-то годы Сибирь торговала не только пушниной, лесом да пшеницей, – она ещё и слюду вывозила в Западную Европу. Цветное стекло там отливать уже умели, а вот плоское оконное стекло – ещё нет. И сияла наша сибирская, мамская слюда в свинцовых переплётах в соборах и замках самых богатых феодалов, во как!
Иркутский край да Прибайкалье – древние места, более-менее населённые, обжитые. А главное – богатые. Если двести вёрст на север взять, за Леной – Якутия начинается, а ежели вверх по Витиму на восток – само Бодайбо, где золотых приисков как груздей в лесу. Да и до Байкала рукой подать, ежели по нашим сибирским меркам мерить – каких-то полтысячи километров… Места эти я худо-бедно знаю, потому как Иркутский политех в своё время окончил, геолого-разведочный факультет. И как молодого свежеиспечённого специалиста меня направили в Мамскую комплексную разведочную партию: всего-то делов, – с самого юга переехал на самый север, но всё в пределах одной и той же области! Как говорится, – где родился, там и пригодился…
Ну, какой там у недавнего студента багаж да скарб? Два десятка книг да белая рубашка на всякий пожарный случай… До места своего назначения добрался я легко и без проблем, и тамошняя начальница партии, незабвенная Анастасия Спиридоновна Ермакова сразу же взяла меня, неоперившегося юнца-геолога, под своё крыло. Но это, понятное дело, сказано просто так, для красного словца, ибо кто-кто, а уж она на заботливую клушу походила меньше всего!
Когда она выяснила, что я, как и она сама, коренной сибирячок, кедровый чурбачок, она проделала необычный для меня ритуал, никогда раньше и позже мною невиданный и неслышанный: она вытянула вперед обе руки ладонями вверх и, улыбаясь, полупропела, чуть пританцовывая:
- – Ты чалдон, и я – чалдон,
- Оба мы чалдоны!
- Положи свою ладонь
- На мои ладони!
После чего крепко стиснула мои кисти и сказала: «Ну, здравствуй, отпрядыш!»
Я по первоначалу да по своей серости не врубился, что сие словцо значит, подумал, – может, что-то вроде «отрядыша», геолога-недомерка из меленького отряда, и только позже выяснил, что это – отдельная скальная глыба, отвалившаяся от массива, а в переносном смысле – отдельный, ни к кому неприлепившийся человек, сирота, одним словом…
А об Анастасии Ермаковой разговор пойдёт на особицу…
Меня самого, без ложной скромности скажу, Бог ростом не обидел: в Политехе в баскет играл за институтскую сборную, а потом – и в сборную города пробился, и мы на межобластных соревнованиях ниже третьего места ни разу не опускались. Но Анастасия высилась надо мной чуть ли не на полголовы! К ее круторазвёрнутым, почти прямоугольным плечам очень подходил и зычный командирский голос, способный разбудить мёртвого. Но работяги в нашей партии, буровики да шурфовщики не звали её «мать-командирша», а величали уважительно «Атаманша».
И в самом-то деле, – не такие ли вот женщины-богатырши встречались в ватагах русских первопроходцев, деля с ними не только, как говорилось, походное ложе, но и весь риск и невзгоды тех полуразбойничьих походов? И никуда не денешься от правды: слабеньким да жалостливым там не было места! И ещё… Лицо Настасьи было смугловатым, словно бы всегда чуть загорелым и, вдобавок, широкоскулым, – видать, и через несколько десятков поколений сказывалась, хотя и разбавленная, сильная кровь древних таёжных насельников, коих собрал под свою властительную державную руку атаман Ермак!
Одно слово – Ермакова, самая что ни на есть сибиряцкая фамилия!
Мне, вдобавок, очень нравилась её походка. Для женщины вообще, а уж для геологини – тем паче, походка, постановка ноги – великое дело! У нас на геологоразведочном, девушки, которые рискнули выбрать нашу ходячую профессию, выглядели в большинстве своём мужеподобно: некрасивые, нескладные, с плоской грудью и размашистой походкой. Они не умели мелко семенить на высоких каблуках, или двигаться по-балетному, разводя носки в стороны, или – ступать «от бедра», ставя ноги по прямой линии, одну перед другой, как манекенщицы на подиуме… Походка – одна из самых главных жизненных привычек!
Вспоминается мне байка из времён моей походной молодости. Один американец заключил пари на большую сумму, что он пройдёт по линии Трансконтинентальной железной дороги от океана до океана по шпалам, ни разу не ступив на землю… Ну, он в конечном счёте выиграл пари. Только после этого всю оставшуюся жизнь ходил шагами разной длины!
А геологи, которые постоянно занимались глазомерными съёмками в своих маршрутах, привыкли ходить, считая шаги, – парами или тройками, кто к чему привык. Это – не чудачество, не прихоть, а производственная необходимость! Я сам ходил, автоматически подсчитывая: правая – левая – раз! Правая – левая – два! И точно знал, что при нормальном походном шаге в километре вмещается пятьсот шестьдесят пар шагов…
А Анастасия… Куда б мы ни шли, – она всегда меня обгоняла. Голова посажена гордо, спина прямая, – словно у старослужащего старшины в парадном строю, а шаг – уверенный, лёгкий, иначе и не скажешь – летящий!
Я её почти сразу стал звать «Ермаковна», и так уж получилось, что оказался я с ней под одной крышей…
Тут следует пояснить, что собственно база нашей геологоразведки находилась не в самом посёлке, а пяток километров вверх по ручью, возле богатого «куста» разрабатываемых и разведуемых слюдоносных жил. Проходились два шахтных ствола, несколько не шибко глубоких буровых вышек оконтуривали границы месторождения, в общем – партия была многолюдной, и в разгар полевых работ жилья, конечно, не хватало. Недели три я помыкался в общаге для «холостёжи», пока для меня стараниями Ермаковны приспособили небольшую комнатку, – бывшую кладовку, в которой сваливали всякий хлам… Когда я впервые зашёл туда, чтобы оглядеться, – по стене от меня, торопясь, уползали два тощих плоских клопа с белёными после ремонта спинами…
В комнатёнку мою втиснулась казённая железная солдатская койка, стол, который выполнял двойные обязанности – обеденного и письменного, неотвратимая тумбочка с деревянным завёртышем на хлипкой дверце и две табуретки.
Дом, в котором я поселился, стоял на невысоком угоре, по прихоти стародавнего строителя развёрнутый как бы в ширину. Этот добротный шестистенок, сложенный из звонких вековых сосновых кряжей, имел один, так сказать, центральный вход. От крыльца в три высоких ступени и с двускатным навесом на точёных столбах из просторных сеней в глубь дома вели три тяжелых двери: налево – в нашу «камералку», общее место для работы и расшифровки карт, полевых дневников, пикетажных книжек и прочей геологической документации. Там же стояли ящики с образцами пород и столбиками буровых кернов, а направо, – в ту часть, которую занимала наша начальница, две комнаты с кухней; средняя же дверь, прямо против входа, – вела в мою «кладовку»…
…Третьи сутки шел обложной дождь. Нет, – он не шёл, он стоял в воздухе и обволакивал нас со всех сторон! Мы жили, как рыбы на дне аквариума, с трудом глотая воздух пополам с водой. Полевые маршруты застопорились. Над дальними увалами, словно пена, стекающая с пивной кружки, стелились угрюмые низкие облака. Прораб, коллекторши и чертёжница, вяло потягиваясь, уже ушли из камералки на обеденный перерыв. Мы с Анастасией ещё немного задержались: нам до дому идти было ближе всех… Наши головы, склонённые над картой расположения разведочных шурфов в масштабе одна пятитысячная, нечаянно сблизились, и тут… До сих пор не пойму, как это случилось, но Настасья поцеловала меня так, что дух перехватило. После чего слезла с табуретки, на которой стояла на коленях, обошла меня сзади, притиснула к своей груди и серьёзно проговорила:
– Как я есть атаманша, так ты мне возражать не моги! – и снова последовал затяжной поцелуй…
Мы вышли вместе. Меня ещё покачивало, – в том числе и от неожиданности. Настя, вместо того, чтоб толкнуть дверь своей половины, отворила дверь моей «кладовки» и ощутимым нажимом бедра помогла мне войти. Задержавшись не порожке, она левой рукой оперлась о притолоку, правой – дернула вниз язычок на «молнии» своей куртки, после чего спросила с совершенно непередаваемой интонацией:
– Не прогонишь?
Я же мог только, наконец, выдохнуть долго удерживаемый внутри воздух…
Она ловко накинула крючок, и моя узкая коечка жалобно зазвенела всеми пружинами, когда она вытянулась во весь свой рост на спине, вжав голову в подушку.
– Да уж, чалдон… – прошептала Анастасия с закрытыми глазами. – Коечка-то у тебя того… Для двоих узковата…
С неудержимой сладостной дрожью я начал целовать её высвободившуюся грудь, гладить обширный живот, ласкать под приспущенной резинкой тренировочных брюк волнующий мох её лобка…
– Ой, скорей… скорей, миленький… – шептала она, задыхаясь.
А когда я, скользя по крутоярам её бедер, сразу двумя руками начал стягивать последний покров, – она торопливо приподняла зад, помогая мне тем самым вытащить впечатляющих размеров трусы из-под её могучих ягодиц, и с тихим стоном одной рукой она охватила меня за шею, опрокинув на себя, а другой, уверенно взяв меня за вздыбленный стержень, сама ввела его в неведомую пещеру сокровищ Али-Бабы…
А на следующее утро, неуёмная, она в одном халатике проскользнула ко мне без стука, и не успел я как следует очнуться после нежданного пробуждения, как она уже оседлала меня, взнуздав, как опытная всадница послушную лошадь…
Доскакав до финиша, но ещё не покинув, так сказать, седла, она с нескрываемым ехидством спросила:
– Ты еще сегодня не брился?
– Не успел… – как бы виновато я постарался развести руками, но у меня ничего не получилось.
– Ага… Значит, себя в зеркале ты не видел? Откуда, интересно знать, у тебя губы чёрные, а? Вроде бы, чалдон, черника-то ещё не поспела?!
II
Незамысловатое хозяйство Анастасии вела её мать, сорокасемилетняя женщина без малейшей седины в чёрных волосах, с трудными, но запоминающимися именем-отчеством: Аграфёна Афанасьевна. Я точно знал её возраст потому, что мне в ту пору сравнялось двадцать три, Насте – двадцать девять, а матушка как-то упомянула, что родила её в самый сок – в восемнадцать…
Порою, – при крепких родственных связях в здоровой семье – говорят, сравнивая, что мать и дочь похожи, как родные сестры. Здесь наблюдался именно такой случай: различать по фигуре, по стати, по походке, особенно сзади, их было почти невозможно. Разве что по причёскам, – Настя носила короткие волосы с подстриженным затылком, а Аграфёна Афанасьевна свою богатую гриву заплетала в толстую, чуть ли не в руку, косу и высокой короной укладывала её на голове. И ещё – глаза! Замечали ли вы, что светлые глаза – голубые или серые – на женском лице кажутся больше? А у матери и дочери Ермаковых они были черными, не тёмно-карими, нет, – именно, как спелые ягодины чёрной смородины. Или – нет! Бывает такой редкий сорт чёрного янтаря – гагат, он одновременно и отражает свет, и поглощает его, отчего внутри него то и дело вспыхивают искры!
Колдовские, шаманские, знахарские глаза! Вроде и небольшие по размеру, а смотрят тебе в душу, словно дрелью просверливают насквозь! Иногда от такого пристального взгляда и впрямь по спине мурашки бегут…
Мать порою хвалила дочь своеобразно:
– Моя-то Настёна идёт, – ровно лодочка плывёт, не оступится, не качнётся. Носила б вёдра на коромысле, – ни капельки б не расплеснула!
На лбу и щеках Аграфёны Афанасьевны были разбросаны несколько розовых ямок-рябин, – следы перенесённой оспы, которые, впрочем, ничуть её не портили. А брови её, густые и шелковистые, так и просились, чтобы их по давней традиции называли соболиными, почти срослись над переносицей и должны были бы в минуты гнева быть сурово насупленными и наводить настоящий страх. Впрочем, я никогда не видел её по-настоящему рассерженной. Однако, ее побаивались. И не без оснований!
Я сам оказался свидетелем того, как она расправилась над мужиком из пришлых, который по пьяни или со злости прилюдно обозвал её чёрными словами.
– Ишь ты, старая блядь, как выступает, будьте-нате! – закуражился этот канавный работяга, когда ему навстречу попалась возле котлопункта Аграфёна, гордо несущая корону своей прически. – Готова свою пизду хоть на нос нацепить, только чтобы всем мужикам пахло!
Она, ни слова не говоря, подошла вплотную и, обхватив его поперек туловища, перевернула вверх ногами и воткнула головой в ближайший сугроб по пояс. И как тот ни рыпался, пытаясь вырваться, ему никак это не удавалось. Подержав его так минут пять-шесть, – он начал уже громко икать, булькать и захлёбываться, – поставила его на подгибающиеся ноги, вдобавок, он ещё и обмочился! – и спокойно сказала:
– А в следующем разе своё хайло, сопля зелёная, раззявишь, – обратно не выташшу… Ты и сейчас-то не мужик, а высерок, да так вот с говном в портках и окочуришься!
И хоть говорила она тихо, вполголоса, – все вокруг её хорошо расслышали…
Такая вот была матушка моей начальницы! Ко мне она явно благоволила, с интересом взглядывая иногда своими чёрными янтарными глазищами, и угощала пирогами со свежей рыбой. Я же – в глаза и за глаза – величал её «Марфа-посадница». Ей это нравилось.
Быстро промчался год. Пролетел, промелькнул, пробежал, просквозил, – с зимними метелями, с весенними ручьями, летними грозами и осенними дождями.
Но мы не замечали смены времён года, этого любимейшего занятия бесстрастных натуралистов и лирических стихотворцев-пейзажистов.
Не замечали потому, что для нас время на дворе стояло одно и то же: любовь и страсть. Кто-то из настоящих поэтов, мудрецов, сказал точно и верно: любовь – это пятое время года!
С Настей мы жили дружно, весело и открыто, днём и ночью вместе, почти не таясь, – да и чего нам было таиться?! Мы были молоды, свободны и одиноки, – так чего стыдиться, и что толку о нас судачить да перемывать косточки? Чай, не золото в ручье…
Ризница в возрасте скорей говорила в пользу Анастасии, ну а рост… Тут я тоже никакого ущемления моему мужскому самолюбию не ощущал, ибо ведал, что в постели длина ног значения не имеет, – они при необходимости отбрасываются…
А ежели всерьёз… Когда моя Ермаковна, эта большая сильная женщина, стискивала меня своим согнутым, как монгольский лук, локтем и шептала, жарко дыша мне в ухо: «Ласковый мой…», – меня целиком наполняла хмельная радость, а сердце, словно спотыкаясь на бегу, отчаянно делало два-три лишних удара.
Любовь – это пятое время жизни!
Тёмными осенними вечерами, когда с гор срывался пронзительный ветер, завывающий в печных трубах, или в самое что ни на есть глухозимье, когда от мороза потрескивали сосны, я любил засиживаться за столом с Настей и её матерью, которая неизменно сидела рядом с самоваром, заваривая в большом пузатом цветастом чайнике плиточный чай необычайной крепости…
Я чувствовал себя вполне семейным человеком!
И ещё они очень любили петь дуэтом. Как правило, запевала Аграфёна Афанасьевна, но какую бы она песню ни начинала, – Анастасия бережно её подхватывала, и их низкие грудные голоса заполняли старый, много на своем веку слышавший дом до краёв… Сколько же песен они знали! И не какие-то там сиюминутнопопулярные радиопопевки, а глубинные, народные песни, в том числе чудом уцелевшие на слуху старинные казачьи. Особенно мне нравилась одна, раздольная и напевная, предназначенная для исполнения могучим мужским хором, – «Как да на Амуре казацкий полк стоит…»
До сих пор мне слышится, как согласно выводят мелодию мать и дочь, то удаляясь голосами друг от дружки, то снова сплетаясь вместе, словно бы выводя сложный кружевной узор. Иногда, не выдержав, к припеву присоединялся и я, – не столь умело, сколь старательно…
Чаще других они почему-то пели озорную и не шибко приличную для официальных исполнений со сцены песню, нигде мною не слышанную ни прежде, ни потом. И сколько бы я ни искал её в различных песенных сборниках, – так она мне ни разу и не встретилась, да уж не сами ли они её и сочинили?! С них станется…
Но запомнил я эту песню наизусть и на всю жизнь, она – визитная карточка моей памяти:
- – Ой, как на речке утки крычут,
- Утки крычут…
- А нас мамки в избу кличут,
- В избу кличут.
- А нам в избы не хотится,
- Не хотится,
- А на тройке прокатиться,
- Прокатиться!
- – Ах вы, глупые тетери,
- Ах, тетери!
- Там вам ноги расщеперят,
- Расщеперят…
- А нам дома не сидится,
- Не сидится, —
- Нам хотится прокатиться,
- Поетиться…
- Молодым купцам поверим,
- Ох, поверим, —
- Сами ноги расщеперим,
- Расщеперим!
…Однажды, наливая мне очередную чашку чая и придвигая ближе блюдце с брусничным вареньем, Аграфёна Афанасьевна перевела лукавый взгляд с Насти на меня я вдруг сказала:
– Ишь ты, Настёна-то моя расцвела, как жарок на косогоре! Уж не ты ли, парень, тому виною, а?
III
Лето выдалось трудное, да и вообще в полевой сезон у геолого-разведчиков день ненормированный. Но этот напряг дал свои результаты: мы полностью выполнили картирование запланированных площадей, а наши удачно заложенные буровые подсекли перспективную для разработки жилу, и пробы показали высокое содержание слюды самого лучшего качества. Настасья, хоть и валилась с ног от усталости, но была очень довольна: наша партия перевыполнила план прироста запасов, и всем нам светила солидная премия…
Но тут наш региональный геологический Главк подкинул неожиданный подарок: по итогам второго и третьего кварталов… за перевыполнение производственных показателей… победителям в социалистической соревновании…
Короче говоря, Ермакову Анастасию наградили путёвкой в знаменитый санаторий «Горняк» на октябрь месяц!
– Слышь, чалдон? Вот счастье подвалило! – радовалась Настя. – Я ведь никогда, ни разочка на море не была!
– Загуляешь там… – буркнул я. – Заведешь курортный роман по всем правилам…
– Эвон куда метнул! – хохотнула она и весомо шлёпнула меня по спине. – Не дождёшься! Месяц-то быстрёхонько пробежит, ты и соскучиться не успеешь! А уж и накупаюсь же я! – она потянулась так, что хрустнули позвонки.
Скучать и в самом деле было некогда, – плюс к моим собственным делам на меня, пусть временно, легли и все её немалые обязанности. А мне не хотелось ни в чём её подводить. В свою кладовку я приходил только, чтобы завалиться спать, а с шести утра уже был на ногах.
Но оставшись один, я, конечно, затосковал… Темп жизни изменился, как будто я с разгону, на большой скорости влепился в бетонную стену: вроде и не тормозил, а из машины выкинуло!
…Ближе к концу рабочего дня в камералку заглянула Аграфёна Афанасьевна.
– Ну что, чалдон, небось, совсем от работы ошалел? – спросила она.
– Зато Настя отдохнет, как следует!
– Так то оно так… – весёлые лучики-морщинки сбежались к уголкам её глаз, – а ты заходь ко мне вечерком. Как ты есть одинокий, я оладушек напеку. С мёдом! Да чаёк настою на кедровых ядрышках…
Понятно, что от такого приглашения грех было отказываться!
Я быстро опустошил тарелку с горкой поджаристых оладий, макая их в тёмный цветочный мед, и блаженно откинулся на спинку стула, переводя дух.
– Ты как, по Настасье-то, небось, шибко скучаешь? – вдруг ошеломила меня вопросом хозяйка, выданным как бы вскользь, и не понять, то ли это был вопрос, то ли утверждение.
– В каком смысле? – осторожно ответил я.
– Да в самом прямом! – махнула она рукой. – Как мужик о бабе. Ведь ты уж скоро цельная неделя все один да один, аль не так?
– Ну, так… – неохотно признался я, все никак не решаясь на полную откровенность.
– И не хотится?
– Чего?! – довольно глупо вырвалось у меня.
– Не хотится… поетиться? – с легким нажимом использовала она слова из нашей песни.
– Хотится… – непослушными губами попытался отшутиться я.
Она посмотрела на меня через стол своим колдовскими глазами и спокойно спросила:
– А раз так… Может, я тебе Настёну-то заменю, покамест её нет? Хоть на разок-другой?!
И я понял, что шутки кончились! Я растерялся. Я оторопел…
Меня так ошеломило откровенное бесстыдство этого предложения в соединении с величественной простотой, что я в самом точном смысле этого слова онемел. Я не только не знал, что сказать в ответ, но я не мог даже кивнуть или хотя бы отрицательно покачать головой.
Любовный опыт у меня, честно признаюсь, был небогатый: так, случайные торопливые перепихоны после застолий, четыре более-менее продолжительных романа со студентками с филфака да – если посерьёзнее – старшая сестра моего товарища по институту, замужняя женщина, которой я почему-то приглянулся… Но никто из них, никогда, ни при каких условиях не могли бы обратиться ко мне с таким предложением!
Я сидел, не шевелясь, на жёстком стуле, но чуткий пёс по кличке Уран, огромная сибирская лайка-кобель вдруг неслышно толкнул меня носом и положил свою тяжеленную голову мне на колени, чего никогда ещё не делал…
Должно быть, я одеревенел, как языческий идол, как истукан, как жертвенный столб, и «Марфа-посадница», продолжая сверлить меня своими немигающими глазами, встала, обогнула стол и, обхватив руками, прижалась большой пухлой грудью.
– Да ты не боись… – выдохнула она, чуть прикусив мочку моего уха так, что передо мной всё поплыло, – я ведь ишшо баба справная, все на месте, и кунка паутиной не заросла, и тело у меня белое да ненасытное…
Она запрокинула мою бедную, идущую кругом голову, назад и полыхнула по губам жадным и долгим зовущим поцелуем.
– Пойдём уж…
И голос у неё был точно таким же, как у Насти, и вдобавок, – меня опахнуло таким знакомым родным запахом, что я… я не устоял!
Как загипнотизированный, я потянулся за ней…
Спальная половина отделялась от гостевой полосатой занавеской. Она быстрым, сильным рывком раздёрнула занавесь, так, что дружно звякнули металлические кольца, на которых крепились шторы. От белоснежного накрахмаленного покрывала потянуло прохладой. Отогнув покрывало, Аграфёна Афанасьевна присела на кровать и скинула кофту, оголив пышные, поистине елизаветинские плечи, налитые крепкой силой работящей сибирячки. Неотрывно глядя на меня, словно притягивая к себе взглядом, она расстегнула юбку и медленно вместе с белой нижней рубашкой приподняла её до уровня груди…
После чего откинулась на спину поперёк кровати, призывно раздвинув и приподняв ноги. Словно бы два слепящих прожекторных луча рванулись в небо!
– Давай, чалдон, попользуй меня… – донёсся шепот с кровати. – И мне в радость, да и тебе в облегченьице…
Распалённый, я вошел в открытые ворота…
– Ох! – только и выдохнула женщина, и сильно стиснула меня ногами, словно скобами капкана. И тут… я попал в смерч, вихрь, тайфун! Она стонала, охала, извивалась, выгибалась мостиком, подбрасывала меня на себе и одновременно удерживала, судорожно, раз за разом всё глубже вбирая меня в свое неистовое нутро…
– А у тебя «челыш»-то ничего себе, – с одобрением сказала она, когда мы, обессиленные, лежали рядом, – работящий, справный! Вот уж, скажу, моей Настене подвезло!
… А великолепный сторож с геологической кличкой Уран свернулся калачиком в ногах постели и от удовольствия поматывал хвостом.
IV
Тридцать-то дней, оказывается, в жизни – долгий срок, в который, как в старый чемодан, влезает очень многое… особенно ежели надавить коленом.
Аграфёна Афанасьевна – я почти что всерьёз верил в это! – и впрямь словно бы приворожила меня. Каждый вечер, неизменно она откидывала покрывало своей девственно-белой кровати, а то и утром чуть ли не с зарей раздавался её шепот:
– Дай-кось, я тебе его взбодрю быстренько! Страсть как люблю сверху сидеть!
Всякий раз, когда я погружался в неё, меня зашкаливало от боли, напряжения и восторга, и мне казалось, что я, задыхаясь, срываюсь в штопор, из которого мне не выйти… Разобьюсь к чёртовой матери!
– Да я любого мужика могла обратать, как бычка на верёвочке. Короче – за сучочек… ха-ханюшки… и под кусточек! – в её горле перекатывался смешок, словно тихое рычание собаки, готовой напасть. – Ничего не скажу: мой-то Спиря, с каким мы Настасью прижили (ну, конечно, её муж, – успел сообразить я, – отчество-то у Насти – Спиридоновна!), за зря хлеб мужской не ел, да уж больно часто на заработки на сторону подавался. Да рази можно горячую бабу на целый сезон без обихода бросать?! Э-эх, Сергунечка, мальчишечка мой дарёный! – она в упор приблизила к моему лицу свои чёрные немигающие глаза. – Встренулись бы мы с тобой лет двадцать назад, когда я ишшо была в полной-то силе… Уж я бы тебя нипочем никуда не отпустила, словом бы наговорным тебя оплела, волосом опутала, зельем приворотным из тридцати трёх трав опоила, дыханьем своим околдовала… Ты бы уж из моих рук не вывернулся… – протяжно пела она. – Ах, любовь-ебава, остатняя моя забава! Ты уж, чалдон, прости мне мою бесстыжесть бабскую. Больно уж захотелось настоящего мужчинского мясца попробовать! Мужик-то ныне всё какой-то мелкой пошел: одной поллитры ему мало, а одной, вишь, бабы с понятием – много…
Почти целый месяц – время Настиного отпуска – мы спали с ней рядом, за задёрнутой цветастой шторой. Она, спокойно дыша после вечернего неистовства, лежала на спине, подложив мне локоть под голову, а ночная её рубашка сминалась и задиралась до пупка, потому что она любила, чтобы моя левая рука (а я почти всегда спал на правом боку) лежала, словно печать собственности, у неё на лобке.
Нашими выходными днями была суббота во второй её половине – святое время, когда затапливалась наша баня. Сначала, понятно, парились мужики, а на остатний жар шли женщины, которых на базе наблюдалось явное меньшинство. Это там, на югах, близ Чёрного моря, была теплынь, а у нас в октябре лужи уже подёргивались ледком. Аграфёна Афанасьевна скидывала тулупчик, оставляла обувь у порога и в одной сорочке садилась расчёсывать свои длинные – до пояса – богатые волосы. Я любил погружать в них пальцы, – когда я перебирал пышные пряди, слышалось электрическое потрескиванье. Мы выпивали с ней по паре рюмок её настойки – на берёзовых почках или на веточках можжевельника – в субботу-то да после сибирской баньки как не выпить?! – и молча шли за занавеску…
Она садилась на меня верхом и ласково проводила по губам сначала своим шелковистым лобком, ещё чуть-чуть отдававшим ароматом берёзового веника, а потом – и горячим устьицем… Её тёмный… нет, пожалуй, смуглый клитор напоминал по форме финиковую косточку (нам довольно регулярно завозили этот вяленый заморский фрукт в тяжёлых спрессованных брикетах), только значительно больше размером. Когда я жадно вдыхал исходящий от нее чистый и терпкий запах женщины – я буквально зверел, как лось во время весеннего гона, или – выражаясь более современным языком, весь превращался в одну сплошную эрогенную зону…
Меня очень интересовала одна ее интимная особенность: она никогда, ни при каких обстоятельствах не снимала своей нижней сорочки.
– Дак как же по-инакому-то? – удивлялась она. – Сорочка эта по-людски и прозывается «срачица», что нам дадена сраку прикрывать…
Причем, этим «прикрытием» могла быть и простецкая полотняная рубаха с ручной вышивкой крестиком и с тесемочками у горла, как на бязевом солдатском белье; и вполне современная капроновая ночнушка из прохладного на ощупь шёлка с глубоким кружевным вырезом; или даже схваченная второпях моя клетчатая ковбойка, – неважно. Она неизменно ложилась в этом охранительном одеянии, и уж потом, в пылу и ярости постельных баталий, сорочка могла завиться жгутом выше грудей…
Как-то я спросил ее об этом.
– А это от Бога защита, – со спокойной уверенностью ответствовала она. – От его взгляду. Знаешь ведь, что он Еву, праматерь нашу, соорудил для мужской утехи? А вот хороша ли она, ладна ли да привлекательна для соблазна – хоть лицом, хоть статью своей, понять-то он не мог!
И рассмеялась вольным смехом.
– Не мог, стало быть, потому, что сравнивать было ни с кем! В раю-то они как есть голяком ходили… И вот теперь боженька-то нет-нет да на землю, и глянет, – мол, как там бабы резвятся, каким таким грешным делом занимаются. Красивей они Евы али нет?! Ну, мы от него и прикрываемся, как следовает быть, чтобы не позавидовал да не наказал… Ёбово-то оно, вишь, не хлёбово: им за всю жизнь не наешься. И до самой старой поры из бабьей лоханки можно хоть ложкой хлебать! Вот оно как в наших старых книгах кержацких написано… – и она, зажмурив глаза, припомнила: – «Женщина есть покоище змеиное, диаволовый цвет, злоба без истления, торжище бесовское…» А ведь без неё, без женщины-то, сам знаешь, не обойтись. Ох, не обойтись! И я уж это своим передком не раз доказала…»
V
– Жили мы тогда в Боровлянке, под Бийском… Может, слыхал? Там ветка железнодорожная кончается, тупик. Жили-то ничего по тогдашним временам, Спиридон мой на стройке работал, да так уж получилось – с лесов свалился и ногу сломал. Ну, конечно, травма производственная, да много ли денег по бюллетеню-то? Власть с нас и без того последнюю шкуру драла, а самой-то всё мерещилось: недохап! Для меня там работы не оказалось, я шали пуховые вязала на продажу. А Настёне пятнадцать уже, дева, можно сказать, на выданье, – то платьишко надо, то опять же – туфли. Не в лаптях же ходить?! А она, вишь, уже в этот… как его… универсам главный в Новониколаевском намылилась…
– В Новосибирский университет?
– Ну… Я, грит, мама, хочу геологиней стать. Богатства искать. А деньги? Пока то богатство найдёшь… Ну, и сманил меня сосед Фёдор Зятьков, у него ещё две дочени моей Насте ровесницы, в одну школу ходили. Мужчина солидный, положительный, работящий… В дальнем леспромхозе бригадиром. «Давай, грит, Аграфёна к нам, на реку Чарыш, мне на дальнем участке повариха нужна. На весь лесозаготовительный сезон. Пока у тебя Спиря твой со своей ногой в силу войдёт, ты деньгу подкалымишь. Я тебя не обижу… А по хозяйству чего так и Настя справится… Я тебя с собой зову, потому как, во-первых, ты баба сильная и за себя завсегда постоять сможешь, ежели что, а во-вторых, потому ишшо, что ты – неглупая, и Бог даст, ежели мне поджениться приспичит, меня не оттолкнёшь…»
А у нас сам ведь знаешь как: закон – тайга, прокурор – медведь, а срока у нас у всех пожизненные! Я и подумала, мужик-то дело говорит, я за ним буду, как за каменной стеной, уж при нём-то «на хор» [1] не поставят, отобьёт! Ну, а ежели придет койку делить, так то дело полюбовное, житейское…
Кержаки-то завсегда был народ вольный, сами себе хозяева. На наших сельбищах, на отрубах да заимках, ведь как: после крещения ребятишечка куму кума должна дать сама! Да и тот у нас свёкор плох, который после сына сноху не попробовал, не проверил, какова она на скус, не порченая ли… Снохач – он как лось-рогач, упорный да тяжёлый, редкая бабёнка упрётся, подол не заворотит; да ей еще и интерес – а каким её-то мужик через тридцать годков окажется, чего от него ждать?!
Я манатки свои да кой-какую приспособу хозяйскую подсобрала да за Зятьковым и тронулась, оказалось – это вёрст за сто, за Обью, там в неё речка Чарыш впадает, – потому и леспромхоз зовётся Чарышский.
Бригада у Фёдора подобралась дельная, всё больше молодняк после армии, солидных мужиков всего двое. Ну и бригадир, с ним – одиннадцать кадров. У них – барак, стало быть, общежитский, а еще – склад, мехмастерская, и отдельный дом – котлопункт: кухня с плитой, стол большой, лавки… Места всем хватает, а для меня – закуток за занавеской, вот вроде как здесь, только-только койка и влезает. Но – отдельно ото всех… И ещё важное дело Фёдор завёл: на участке – сухой закон, заработок – на сберкнижку, а на руки – только что на курево да на мелочевку.
Да и я, сам понимаешь, от работы не бегала. Помню, на первый обед пришла бригада, а я щи сварганила богатые, с салом копченым, щи так уж щи – ложка колом стоит!
Тут Пров Кузьмич, старший вальщик, и говорит: «Да за такие щи нашей Аграфёне нужно в ноги поклониться! У иной поварни щи на собаку выльешь – ничего на боках не повиснет! Жижей-водой скатятся…»
Ну я и старалась. С утречка схожу на ключ-студенец за водой, кашу какую заделаю, чтоб покруче да по полной миске, да чай покрепче заварю. А то клюквы-весенницы наберу, ее у нас еще «журавлина» зовут, кисель затею. Ржаных сухарей насушу – квас у меня такой получался, за версту в нос шибал! А хлеба не подвезут, – я оладий наготовлю али блинов на всю ораву. Захочешь ушицы похлебать, – так ложка за голенищем завсегда сыщется…
А на третий вечер и Фёдор подвалил, – пришёл, мол, посмотреть как устроилась, да не скрипит ли коечка, не надо ли смазать? Я его конечно, приголубила… А куда денешься? Да честно-то сказать, и нравился он мне. Потому как надёжный. Из тех, кого твёрдохлёбами величают: ведро выпьет, в донышко стукнется, домой пойдёт – никакой шатачки! Я ведь в людской породе научилась разбираться. Вот взять – сосна. Она, вишь, бывает «красная» и «пресная». Красная – она смолистая, звонкая, стукнешь – звенит, а у пресной – только серёдка смолистая, она сгнивает скоро. Так и люди…
Вскорости опять Фёдор за печку заявляется, на вид такой… мягкой, словно повиниться собирается. В чём, спрашиваю, дело?
«Понимаешь, Афанасьевна, просьба у меня к тебе. Личная… Паренёк тут у меня есть, чокеровщиком работает. Аккуратной, дисциплинной, армию отслужил… а вот всё ещё «в девках» ходит. А у него «сухостой» этот в лесу работать мешает, – за стволы цепляет… Пожалей парня!»
Как тут бригадиру откажешь? К тому же – производственная необходимость… Позвала я молодого за занавеску, ляжки заголила… Себя ему показала, – а он стоит столбом, и только со лба пот катится. Пришлось мне всё в свои руки взять… Поверишь ли, – как с меня скатился, заплакал он! Дала я ему, значит, по всем правилам, а самой гордо за то самое место, – будто я ребёнка родила, поверишь, нет? А дня через три мой крестник вежливо так подошёл, да таким секретным голосом и спрашивает, мол, Аграфёна Афанасьевна, нельзя ли мне опять вас навестить? Что, спрашиваю, – понравилось? Во второй-то раз он уже и сам справился: хоть и робко, да ёбко!
Так и покатилось…
Федор-бригадир наведаться поехал в главную контору, и тут как тут, – механик наш, Авдей Саввич, ко мне пришёл да поклонился эдак степенно: «Аграфёна Афанасьевна, приласкай мужика… А то, на тебя глядючи, мой шланг стоячий жить не дает. Может, по милости Божьей, разговеться дашь?»
Зятьков наш возвернулся с деньгами да продуктами, мол, всё у нас в ажуре, всё на мази, а сам по-хозяйски спрашивает: «Как дела? Кому дала?» А я и ответствую: «Что, проверять будешь?» Ничего не сказал, усмехнулся только: «Ох, Аграфёна, озорная ты баба!»
А уж молодёжь-холостёжь… Ребята чистые, ничего не скажу, не пьянь подзаборная. Да и работа у них – не в валенок мочиться, и не ветер пинать, тяжелый труд, без примеси. Ну, а известное дело: мужика покормишь как следовает быть – он тебе сразу же под подол заглядывает, – чего бы на закуску найтить?!
Сильничать, конечное дело, не сильничали, все больше склоняли. Днём, значит, мою пищу потребляли да на делянке вкалывали, ну а вечером… то один, то другой за «добавкой» зайдет, – так ведь и их понять надо!
И право слово, всех жалко! А у души-то ведь жопы нет, она высраться не может…
Иной, кто побойчей да пооборотистей, и у родничка перехватывал, когда я за водой утречком ходила. Давай, мол, Афанасьевна, ведра подмогну дотащить… А у самого, вижу, глаза голодные… Сколько ж я берёзок на той службе пообнимала, пока ктой-нибудь сзаду мне исподницу на голову задирал! Им-то, которы молодые, все равно, что лес ронить, что баб драть. Правда, ежли баб пилить, так опилок меньше…
Я в своей загородочке, стало быть, ляжки раздвинула, один сопит-работает, а евонный корешок – за занавесочкой топчется, очередь ждёт, портки расстёгивает… Так вот, мало-помалу, а чуть не всю бригаду лесоповальную я скрозь себя пропустила, да не по единому разу. Только и отдыху было, когда дни три-четыре месячные у меня… Я и трусов-то не носила: чего, думаю, их зазря снимать-надевать-то?! Ну, а Фёдора Зятькова, бригадира, я выделяла на особицу, очень уж я ему показалась. Светлая ему память, вечный покой, его потом, опосля через год, как я уволилась, деревом зашибло…
И злобы-обиды, упаси Бог, ни на кого из них не держала, потому как – от жизни куда денешься?!
Меня просто ошеломляла эта спокойная простота, эта исповедальная откровенность её в повествовании о своей жизни. Нет, я не ревновал к её поистине библейскому прошлому, как нельзя, к примеру, ревновать нашу планету к её геологической истории, в которой тебе не досталось места. Или как невозможно селянину ревновать к земле, которую заново вздирают плугом каждую весну, а она без устали всё плодоносит и плодоносит. И эта Женщина жаждала вспашки так же естественно, как земля…
Именно с ней я прошел свои сексуальные университеты, – да простит меня писатель Максим Горький!
– Ладно уж… – смилостивилась она, наконец. – Скоро Настёна наша возвернётся. Отдохни дни три, наберись силёнок перед свиданьицем… Настя-то у меня, слышал, – разженя…
– Это как? – не понял я.
– А сама от мужа ушедши была, стало быть – разженилась… Да уж больно он гнилой нутром оказался… А к тебе она, видать, сильно прилепившись. То-то она соскучилась, то-то с тобой наиграется! Уж как я это самое понять могу… Вот уж верно сказывают: сорок лет – бабий век, я вот с сорока годков вдовею…
А через несколько дней после возвращения Анастасии, загорелой и довольной, раздался деликатный стук в мою кладовку. Это оказалась Аграфёна Афанасьевна, с эмалированным тазиком, веником и узелком с бельём, – прямиком из бани. Свежая, разгорячённая, с розовым разглаженным лицом, она взглянула на меня с веселым любопытством:
– Ну, как, голубок? Наскучило, намялись? Не боись, про наш с тобой грех ни одна живая душа не прознает… Да оно, ежли всерьёз считать, я и не грех вовсе – всё в семью! Да ты не подумай чего, я к тебе вроде позыватки… Приходи вечерком чай с малиной пить. Я пирожков с горохом да с сальцем наготовлю, опару-то с утречка поставила, поедим – попердим… А я уж, прости меня, Господи, буду следующего Настькиного отпуска дожидаться. Как считаешь, – дождусь, нет?
Но, как говорится, – карта легла совсем по-другому…
VI
…Очнулся я в полной темноте с неимоверной слабостью во всем теле, можно было бы добавить – и с ломотой в костях, в поту, но зато с абсолютно ясной головой.
Я осознал, что лежу на постели, но на чьей и где?! И с одного, и с другого бока ко мне прижимались два голых женских тела! Об этом факте нормальный мужчина, как вы понимаете, догадывается сразу по некоторым… гм… особенностям строения. Так… Медленно освободив и подняв руку, которая ещё не очень меня слушалась, я осторожно коснулся головы той, что лежала слева. По короткой стрижке стало ясно, что это – Настя, Анастасия Спиридоновна. Ну, а в – вторая?! Роскошные длинные волосы, частично прикрывающие мою грудь поверх одеяла, могли бы принадлежать Аграфёне Афанасьевне, но… На женщине, лежащей справа, не было неизменной ночной рубашки!
Как же я очутился здесь? Повидимому, я непроизвольно дернулся, пытаясь разгадать загадку, но та, что с длинными волосами, сразу же успокаивающе обняла меня и положила на мои ноги свою, придавив меня томительной жаркой тяжестью.…
Тут я окончательно понял, что из моей жизни выпал какой-то заметный кусок, которого я не помнил!
…А хорошо помнил, как возвращался с дальней буровой, где следовало просмотреть результаты последних десяти-двадцати метров проходки, – столбики керна и отобрать образцы на анализ. Там, за ручьем, я и заночевал в жарко натопленном балке-передвижке. Обратно на базу я вышел в полдень, рассчитывая часа за три-четыре, еще засветло, добраться до места.
Стелилась, словно бы играючись, несильная поземка, закручивая снежные струйки, но и без того не шибко-то утоптанная тропинка через молодой кедровник была во многих местах переметена. Я то и дело оступался и сильно вспотел, вытаскивая валенки из плотного снега, тем более, что плечи оттягивал увесистый рюкзак с образцами.
И мне не повезло. Пытаясь сократить путь, я двинул наискосок через обширную заводь замерзшего ручья, где ветер частично сдувал снег, и лежали гладкие соблазнительные участки. И почти у самого берега, на приболотке, угодил в прикрытую ноздрястым снегом промоину.
Провалялся я неглубоко, по грудь, и устоял на ногах. Но мой полушубок, конечно, сразу намок, покрылся на морозе ледяной коркой и непомерной тяжестью обжал плечи. Бросить его я как-то не решился, подумал, что ничего, мол, обойдётся, доберусь до базы как-нибудь. А вещь нужная, жалко бросать… Выбирался я из ледяной каши трудно, ползком и на карачках, то и дело оскальзываясь на камнях и набирая жижу в валенки. Рюкзак я пристроил на ветку прибрежной криворослой сосенки, – потом, думаю, на лыжах подскочу, никуда не денется: кому камни нужны? Но тут, на мою беду, внезапно, как это всегда и бывает в наших краях, с гор свалилась метель. Все исчезло в сумасшедшем вихре сухого, бьющего в лицо острого снега. То и дело прикрывая глаза, я почти ощупью, вслепую, двигался от ручья, понимая, что ежели в самом скором времени не доберусь до жилья, то попросту замёрзну, как тот самый ямщик в степи глухой… Нельзя было останавливаться, ибо ноги онемели уже минут через десять.
В сильнейшей круговерти тропинку я потерял и сгоряча двинул напрямик по целине, взяв направление по компасу, который, словно часы, был закреплен на правом запястье: у него светилась стрелка.
Я уже ясно слышал лай собак на базе, но совсем обессилел, обезножел, и последние сто-двести метров то ли полз, то ли перекатывался, загребая руками…
Последнее, что смутно всплыло в моей, памяти, перед тем, как провалиться в черную пропасть беспамятства, был запах спирта, которым в четыре руки растирали моё беспомощное тело, и спокойный голос Аграфёны Афанасьевны: «Огневица у него. Теперь согреть его надоть, да лучшей всего – живым бабьим жаром… Грелку во всю длину, и с двух сторон! Нутро освободить от ледыни, встряхнуть…
А всё дальнейшее я могу воссоздать только из отрывистых, сбивчивых, и не слишком-то охочих разъяснений Анастасии и деловитых комментариев Аграфёны Афанасьевны.
…– Она мне и говорит: «Ты вот что, девонька, ложись-ка с ним рядом, да совсем голяком…» Ну, я разделась, легла, тебя руками-ногами обвила, а с другой стороны… с другой стороны… мама. Мы тебе еще много аспирину дали, да с малиной, чтобы ты пропотел, отогрелся. А ты всё дергаешься, вздрагиваещь, мечешься, хрипишь, а но-оги у тебя такие холоднющие! А метель только усиливается, и до Мамы не добраться, и вертолет не вызвать…
Тут мама… тут она и говорит: «Ты вот что… сядь-ка ему это… прямо на личность, да поелозь по губам, потрись по носу. Пусть он твой дух знакомый, лакомый, почует! А я… а я, мол, с другой стороны … ой, не могу!»
Чуть позже Аграфёна Афанасьевна продолжила рассказ дочери:
… – с другой стороны дам ему воспрянуть. У тебя жар под сорок, ноги поморожены, в дыхалке хрип… Я и решилась сама справиться старинным способом. Лучшее средствие мужика до костей взбодрить… Я и стала твоего… живчика лежачего за воротник дергать! Потом на тебя села, и в себя, значит, его приняла… Настя-то тут разревелась, но поняла. А ты и впрямь через часок-другой так вспотел, что с тебя словно весенняя капель покатилась. Только и успевали полотенца менять! Настена-то от тебя три дни не отходила, не спавши совсем, с лица спала… Ну, и встрепенулся ты, ожил. Отогрелся!
… А на следующий день мужики меня в баню сволокли. Каменку для этого дела специально натопили, напарили, веничком нахлестали. Даже без воспаленья легких обошлось! С носа, правда, кожа стала клочьями сползать, облупился он, как молодая картофелина.
И опять оказался я, самую малость выпивший, на той же постели.
Аграфёна Афанасьевна, поглядывая на меня, совершенно резонно сказала:
– Уж раз попал ты своим пестом да в мою ступу, – так лежи и не рыпайся, – чего уж тут чиниться?!
И не успели мы расположиться в привычном порядке, – только на матери была неизменная ночная рубашка! – как на наше лежбище вспрыгнул Уран с весьма загадочным выражением на своей добродушной морде. Он внимательно оглядел нас умным карим глазом, свернулся калачиком в ногах, и по всему было заметно, что он нам откровенно завидует…
© 2009, Институт соитологии