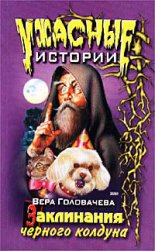Дивны дела твои, Господи… Щербакова Галина
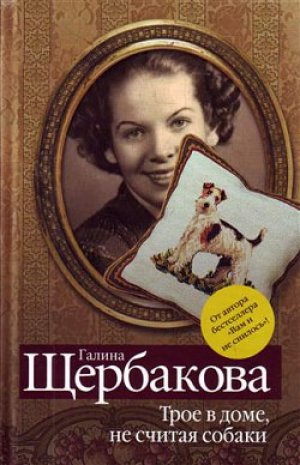
Она подумала: я перечитала. В смысле как переела. У меня несварение ума. Надо остановиться. В конце концов, не только для чтения… Дано ей теперь время. Есть много других занятий. Та же перелицовка вещей. Сейчас это дело забыли, а самая пора вспомнить. Наизнанку вывернутые вещи вполне могут заиграть как новые. Слава богу, у нее есть машинка и нет проблемы прострочить.
Тут же полезла в голову всякая ерунда: что скажут соседи, когда она начнет переворачивать для новой носки вещи? Не подумают ли о ней как-то не так? Не заподозрят ли в мелочности и скопидомстве?
«Кто? – закричала она на себя. – Кто может меня в чем-то заподозрить? Кому дело до моих старых тряпок и до того, как я с ними поступлю?» Но мысли – явление непознанное. Они приходят в голову и уходят из нее по своим неведомым законам. И замечено: в момент, казалось бы, укрощения мысли, постановки ее на место она – мысль – больше всего и разгуливается, как пьяный на базаре.
«У меня нет культуры мышления, – сказала она себе. – Это никуда не годится, потому что человек больше и значительнее отдельно взятой мысли. Он обязан с ней справляться».
Конечно, когда она ходила на работу – все было иначе. Там общаешься с другими людьми, что-то делаешь, ходишь на перерыв или в уборную, там много разнообразия. Собрание или субботник. Взносы или поборы по случаю. Все время отвлекаешься, злишься, устаешь, потом трясешься в транспорте, жизнь заполнена до самой пробки, до ощущения распирания, которое принято называть усталостью. Но это не то… При распирании нет мышечной или там умственной боли, а есть тяжесть, как будто в тебя, десятилитровую или какую-то еще, всандалили раз в сто больше. И тебя раздуло, как в детской считалке: «А пятое стуло, чтоб тебя раздуло. А шестое колесо, чтоб тебя разнесло…» Больше не помнит. Но раздуло и разнесло – самое то было всю ее работающую жизнь.
Теперь – мысли.
Ей говорили: первое время на пенсии будет именно так – как начнут гулять мысли. Одна дама очень антр ну сказала ей как интеллигентная женщина интеллигентной – берегитесь сексуальных миражей. Настигают. Ее это глубоко возмутило. У нее? Миражи? С какой стати? У нее все было, весь объем полноценной женской жизни. Роды, аборты, прижигание эрозии, удаление полипов, хронический аднексит. После этого миражи? Ха-ха! Ищите дуру.
И была абсолютно права. Разгул мыслей пошел в другом направлении, и она сказала себе: я перечитала. Нельзя же так! Я только и делаю, что читаю, читаю, читаю, как полоумная. А каково сейчас содержание?
Сначала были еще цветочки, которые вполне можно было прогнать мыслями о перелицовке осеннего пальто. Например, приходит в голову мысль о довойне. Она в чем-то длинном, белом (ночная записанная рубашонка) стоит на высоком крыльце (всего три ступеньки, как потом выяснилось) и тянет ручата.
Все думают – к мужчине. Но она-то знает – к хвосту лошади. Первая красота в ее жизни. Не тюшки-потютюшки какие-нибудь, а конский хвост – живой, сверкающий, распадающийся на шелковые нити. Такой, в сущности, ленивый от величия. Боже, как хочется ей его трогать руками, носом, губами. Подумать только! Хочется быть в середине хвоста. Отец существует в памяти обязательно при хвосте.
Хвост, отец, синусоида повозки, запах кожи человека и лошади. И жутковатая, все покрывающая уже сегодняшняя мысль: хорошо, что отца расстреляли. Сначала стрелял он, потом – его. Хорошо. Что бы она сегодня делала, если бы его не… Не… до войны, не… после, не… сейчас… Этот мужчина – папочка, прыгающий с повозки, – жил бы и жил, сквозь годы мчась, со своей единственной профессией. Вот на эти мысли о довойне хорошо раскладываются распоротые куски драпа. Они покрывают все сразу: ее-ребенка, лошадь, папу, скрипящую повозку – остается хвост. Куски драпа на столе и веточка хвоста. Хорошо это выглядит. Веточку можно выпустить из-под воротника на низ и прикрыть им неправильный запах перелицованного пальто – слева направо. Но для запаха нужен весь лошадиный хвост, а ей хочется чуть-чуть, дать хвост неким намеком. Для возможного интереса. «А что это у вас так элегантно торчит? Шерсть или шелк? Такая непохожая отделка?» – «Угадайте! Это хвост от папиной лошади». – «Ваш папа был жокей?» – «Скорее, нет… Он был… кавалерист…» – «Какая прелесть! Где теперь наши конницы?»
Изящный разговор, да? Что ни говори, перелицовка – дело великое и напрасно забытое. Очень, очень напрасно.
Но сейчас и перелицовка подвела. Не помогла. Случилось так… Она… Скажем наконец ее имя, не аноним же она какой? Александра Петровна. Шура Петровна, как ее звали на работе. Аленька, как звал папа-кавалерист-жокей-расстрельщик. Сашон, как глупо придумал муж. Санька, как звала лучшая подруга, которая тоже была Александрой и числила себя Сашкой. Были еще имена недолговечного характера. Первый ее мальчик из семьи кантонистов называл ее Сандрой. А последний, шестидесятилетний мальчик из дома отдыха «50-летие Октября», кричал ей на извилистой тропинке в горах: «Где вы там, Апэ?» Она знала, что кроме законного имени была у нее и кличка, на которую она не обижалась, но которая ее временами раздражала. Ее дразнили Матильдой. Было так. Пришел к ним на работу давным-давно молодой начальник (сейчас он уже не просто немолодой, а умер) и в первые свои дни зашел к ним в комнату. «Слушайте, девушки, – сказал он пяти вполне пожилым дамам, – я пишу приказ на премию и забыл, как зовут эту вашу Матильду». И он ткнул пальцем на ее место – она как раз была на бюллетене, тогда всех косил грипп «Гонконг». Все засмеялись, и к ней прилипло. Но так как с начальником до самой его преждевременной смерти у нее были прекрасные отношения, то никакого нехорошего подтекста в Матильде не ощущалось. Матильда потому, что у нее испанский тип внешности. Другие его называют еврейским. Но это испанский. Тут есть глубокие отличия. Черные волосы на тонкий, разобранный по волосиночке пробор, сзади же узел, твердый, как кулак. Или же – конский хвост, прическа-воспоминание, а чаще коса, заплетенная вовнутрь, чтоб, когда ее поставили крендельком, получалось правильное направление плетения. Понятно я говорю? Ей это все идет, волосы с возрастом не седеют и не выпадают. По-прежнему черные, блестящие и густые. И глаза им под цвет. Карие. И брови дугой, хорошей волосистости, хотя и дискредитированы Брежневым. Дальше в лице, правда, преобладал русский тип. Нос в конце гулечкой и щеки без испанских впадин, а налитые, далее с постоянным стремлением вширь И губастенькая она по-русски, а вот подбородок опять на испанский манер – длинный и узкий, самый некрасивый из всего лица. Его она считает наиболее испанским, потому что стоит посмотреть на старые картины! Там сплошь и рядом неудачный треугольник лица гарнирует жабо. Кто-то же их придумал! Кто-то же увидел первым этот национальный изъян, какой-нибудь испанский Зайцев, и преподнес фасон королеве. Заройтесь подбородком в кружева, ваше величество.
Она об этом думает, когда смотрит на себя в зеркало, и автоматически прикрывает кончик подбородка, укорачивая его для хорошего настроения после зеркала. Смолоду носила водолазки и вечно натягивала их почти до рта. Ну ведь у каждого есть свой изъян? У каждого. Кривые ноги разве лучше? Или заднее место шире двери? Или – не дай бог – живот выходит за вертикаль носа? По сравнению с такими недостатками внешности подбородок, в сущности, – тьфу! Мелочь. В общем, прожила она жизнь как женщина с вполне интересной, можно сказать, незаурядной внешностью. Жила, жила и достигла предела. Не в том смысле, что собралась умирать, ничего подобного, здоровье у нее контролировалось медициной и было в возраст-ной норме. Предел – это выход на пенсию. Не будь сегодняшнего времени, она, конечно же, продолжала бы служить в своем патентном бюро, но время ей досталось не лучшее, всюду шли сокращения, пришлось собирать манатки. И все было бы нормально, не так уж она любила свою работу, если бы не комплекс возраста. Вечно она была с ним в раздоре. Начиная со школы, когда, стриженную наголо, ее, уже почти девятилетку, привели в первый класс, а учительница сказала: «Дети! Давайте не обижать эту малышку. Она из вас самая маленькая и скелетистая. Того и гляди…» А она была старше всех. Так потом и пошло. Она всегда смущалась неточностей, которые преследовали ее возраст. Когда она рожала дочь, то – наоборот. Врач кричала на нее, что она перестарок и теперь она, врач, отвечай за нее. Не могла родить до тридцати? Что, она не понимает, что в таком возрасте роды могут дать плохое качество ума ребенку? А еще интеллигенция! Тужиться не научилась. А вены, вены! Что за вены! Сразу видно, физического труда не нюхала, а туда же – рожать. Врач была, в сущности, монстром – она оскорбляла всех подряд, а никто не оскорблялся. Во было время! Гнули пред нею шеи, безропотно, как холуи какие, подтягивали опущенные виноватые животы, которые несли в себе неизвестно что, стыдились истекающих по ногам вод, а чудовище гоняло их с места на место, и они то босиком по каменному полу переходили со стола на кровать, то носили за собой клизмы и горшки, и все виноватились, виноватились… Приняв ее дочь, врач с удовлетворением сказала: «Еще одна дынеголовая».