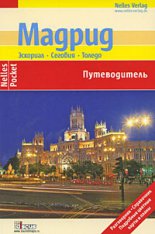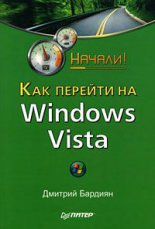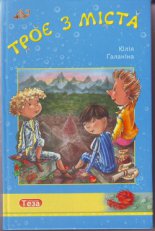Знак Девы Проханов Александр
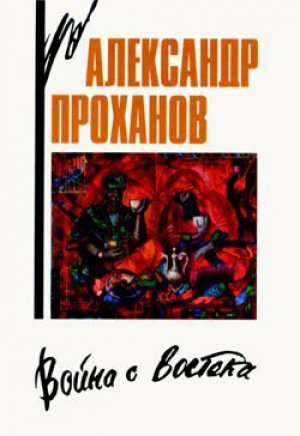
Ночью город снова забросали «эрэсами». Прапорщик Кологривко спал и во сне чувствовал подлетающий снаряд. Видел искристую траекторию. Слышал гулкое, глубокое плюханье. Снаряд разрывался в глубине его сновидений, расталкивал рваным ударом разноцветные сны, которые снова смыкались, затягивали радужными наплывами черную дару удара. Сны толпились, мелькали в одной половине сознания, в той части головы, что была прижата к жесткой подушке. Другая, верхняя половина слушала взрывы.
В «зеленке», в путанице виноградников, в изломанных безлистных садах, ловкие стрелки ставили на треногу ракету. Отбегали, падали в мелкий сухой арык. Ракета на длинной метле улетала со свистом в ночь, над разрушенными кишлаками, над безлюдной дорогой, над притихшими придорожными заставами. Падала в город, среди пыльных площадей, мерцающих куполов, глинобитных дуканов. На мгновение в красном разрыве озарялись вывеска с размалеванной надписью, разукрашенный борт грузовика, оскаленная морда верблюда. И пока стрелки поправляли треногу, вынимали из ящика длинную, остроклювую ракету, наводили на туманный город, Кологривко видел свой сон.
Будто он плывет в теплой, зеленоватой реке среди глянцевитых листьев кувшинок. На берегу, на траве, разостланы влажные простыни. На зыбких мостках тетя Груня, их нянечка из детдома, шлепает, возит в воде белую наволочку. И он, плывущий, видит летнюю реку, отраженное стеклянное облако, зеленую гору со старым кирпичным детдомом, и кто-то незримый и любящий, может быть мать, смотрит на него из-за облака.
Он проснулся от сигнальной трубы. И с первым светом в глазах, отгоняя прочь сновидения, увидел свой автомат, прислоненный к изголовью кровати, гвоздь с брезентовым «лифчиком», набитым магазинами, зеленую фляжку на тумбочке. И уже гудел, надвигался вал солдатских сапог, крики команд за стеной.
Они стояли перед модулем штаба – длинным дощатым строением. Кологривко отворачивался от слепящего, колючего солнца, бьющего из-за лица командира. Лейтенант Молдованов, нетерпеливый, синеглазый, с горячим румянцем на безусом лице, жадно внимал командиру. Майор Грачев, сутулый, набрякший, с обвислыми усами над растресканной губой, молча слушал полковника, его неуверенную, раздраженную речь. Ждал, когда полковник сядет в уазик, умчит за шлагбаум в белую, пыльную степь, где туманилась колонна машин.
– Для вас, майор, это задание – последний шанс, я считаю! Вам просто повезло напоследок. Думаете, мне было приятно вас отстранять? Задерживать ваше представление на орден? Обещаю: хорошо сработаете – вернетесь в Союз с наградой. И батальон обратно получите! И остальные не пустыми вернутся!..
Кологривко слушал полковника с неясным, мучительным чувством, будто в его словах была малая, ускользавшая от понимания неточность. Командир заслонялся от какой-то близкой, им всем угрожавшей правды. Не желал ее проявления. Кутал, пеленал в неточные, раздражающие слова.
Мимо шла рота – серо-зеленая, плотно стиснутая колонна. Приблизилась к командиру. По окрику дрогнула, взнуздалась, с хрустом, громом переходя на строевой, окуталась солнечной пылью. Прохрустела, простучала мимо, обдавая запахом пота, ваксы, горячей растоптанной земли. Кологривко заметил близкое, под козырьком, лицо рядового Птенчикова, его маленький, облупленный носик. И рядом – сержант Варгин, его сильные, круто поднятые брови, могучий взмах руки. Отметил обоих в уходящей колонне.
– Вы их пошерстите немного в «зеленке» и – назад! Не ввязывайтесь! Пошерстите, постреляйте, может, установку подавите, может, на позицию наткнетесь и – обратно! Для видимости!.. А то обнаглели! Сегодня ночью сорок «эрэсок» упало! Губернатор звонит, умоляет: «Помогите!» Город гудит, дымит, люди бежать собираются!..
Неискренность чудилась в словах командира. Он нервничал, возмущался, был вынужден помогать губернатору. Но существовало нечто, что пряталось и скрывалось в его возмущении. Это чувствовал Кологривко, стоя перед штабом у чахлых, безлистных кустиков, вмурованных в каменный грунт. Мусорные ящики перед входом были полны окурков. Кричал в телефонную трубку оперативный дежурный, два вертолета поднимались с площадки. Боднули воздух стеклянными лбами, просвистели металлическими кругами, протащили клепаные пятнистые днища.
– Ясно одно – «духи» готовят в городе панику! Как только мы уйдем, поднимется паника! Голод, обстрелы, резня! Люди побегут кто куда. Сметут военных, губернатора, партийных, и город достанется «духам». Так было во Вьетнаме, в Сайгоне!.. Надо их пошерстить напоследок. Нам же легче будет хвосты вытягивать. Когда пойдем в Союз, из «зеленки» такое посыплется!..
Кологривко видел утомленное лицо полковника. Упрямый, насупленный лоб майора, его выпуклые, выражавшие покорность глаза, верящее лицо лейтенанта, обожавшего своего командира. Кологривко испытывал оцепенение, будто жизнь остановилась, замерла перед недвижной преградой. Копится, медленно наполняет грудь. Он дорожил этим остановившимся временем, боялся его расплескать, разрушить преграду в груди. Отпустить в пыльный свет, в душную, колючую степь это драгоценное недвижное время.
Мимо проехал санитарный «рафик» с крестом, остановился, закрутил над собой вялую пыль. Из «рафика» выскочил солдат, кинулся опрометью к низкому саманному дому, где размещалась санрота. Через минуту вернулся, неся тяжелый блестящий бак, изгибаясь под тяжестью. «Рафик» умчался, и там, где он был, распадалась белесая пыль, начинала светиться степь.
– Только, Грачев, по-умному! Мне гробы не нужны! Вы мне в Союзе живыми нужны, а не в цинке! Реализацию дай, но сам живой возвращайся! Тебя, а не кого-то другого посылаю на засадные действия! Ты «зеленку» знаешь – делай по-умному, без глупостей! Ты меня понял, Грачев?…
Кологривко видел набыченный лоб Грачева, выражение тупого согласия. Вислые усы над запекшейся в коросте губой. Время, скопившееся под сердцем, зачинало движение. Разрушало, прерывало преграду. Устремлялось вперед, вовлекая в движение всех, здесь стоящих.
– Ты понял, Грачев? Без глупостей!
– Так точно, товарищ полковник! – Майор подтянулся, распрямил сутулые плечи.
Командир повел головой. Водитель уазика издали сквозь стекло наблюдал за ними. Уловил командирский знак. Двинул вперед машину. Полковник сел и умчался, оставив в воздухе запах бензина и пыли. И что-то еще, мучительное и невнятное.
Майор Грачев повернулся спиной к шлагбауму, за которым исчез командирский уазик. Его лицо, мгновение назад тупое, исполненное покорного согласия, преобразилось. Стало живым, подвижным. Глаза остро, зло заблестели. Усы взъерошились, распушились. На теле распустились недвижные, твердые бугры, заиграли гибкие мышцы.
– Пусть мозги-то не пудрит, шкура-мать! Знаем его политику! Реализацию ему подавай, но чтоб на теле ни царапины. А так не бывает, товарищ полковник! Чтоб «духа» поцарапать, надо и самим поцарапаться! Мы-то, дураки, не знаем! Звонили ему из Кабула, просили помочь губернатору. А кому охота напоследок дырку в теле иметь? Конечно, только Грачеву! Мы могём, шкура-мать! Могём мы или нет, лейтенант?
– Могём, товарищ майор! – радостно ответил Молдованов, преданно сияя лицом. – А то что же получается! Только прибыл сюда и – опять уходить в Союз! В рейде не был, в засадах не был, на операциях не был! Для чего-то меня учили? Пусть командир не волнуется – все сделаем по классической схеме!
– За это люблю, Молдованов! – похвалил майор. – Ты офицер настоящий. Другие жмутся по углам, шкура-мать! Тут болит, там болит, из санроты не вылезают! А ты сам на боевые просишься! За это люблю!
– Да все сделаем по классической схеме! – Лейтенант был польщен похвалой. – Правильно, прапорщик? – повернулся он к Кологривко.
Кологривко не ответил. Переступал с ноги на ногу, ощущая стопой жесткую подошву ботинка. Неточность, неправда были в произносимых словах.
Нет, не та, что таилась в усталом лице полковника. Командир готовил войска к отводу, собирал полковое хозяйство. Ремонтировал подбитую технику. Ждал с нетерпением и страхом, когда боевые колонны – головная броня, фургоны обоза, свернутые радиостанции, санитарные и наливные машины, замыкание из «бэтээров» и танков – выйдут из расположения части, пройдут через пыльный город. Втянутся в «зеленку». Под прикрытием придорожных застав, снимая их по пути, стягивая с дороги «чулком», ввяжутся в арьергардные бои, пробьются в открытую степь. Медленно, длинным хвостом двинутся на север, в Союз. Покинут седую пустыню, серые скалы и осыпи, нищие кишлаки у дороги, оставляя за собой ржавые остовы и осыпи танков, развалины, белые придорожные столбики – метины боев и потерь. Засада в «зеленке», предпринимаемая по звонку из Кабула, казалась командиру бессмысленной. Не решала исхода близкой к завершению войны. Он тяготился заданием, жалел людей. Не мог им об этом сказать. Кологривко чувствовал его раздражение, муку. Но не это казалось неправдой.
Майор Грачев был разжалован из комбатов за пьянство. Бесстрашный, неутомимый в походах, любимец гарнизонных женщин, потерявший под собой три «бэтээра», чьи обгорелые коробки валялись в окрестной пустыне, Грачев стремился в «зеленку». Надеялся этой засадой, ночным скоротечным боем вернуть себе должность комбата, наградные представления, чтобы в Союзе получить достойное назначение, рядом с нашивками за ранение привинтить орден, чтобы штабные чины, добывавшие награды писанием глупых бумаг, не кичились перед ним, «афганским» боевым офицером. Он рвался в засаду, утягивая за собой желторотого лейтенанта и его, Кологривко. И в этом была неправда. Но не та, что томила прапорщика.
Лейтенант Молдованов, с нежным, девичьим румянцем, проступавшим сквозь смуглый загар, хотел казаться мужественным и бывалым. Едва из училища, он попал на войну в момент ее завершения. Считал это для себя неудачей. Он был отличником, был наполнен военными знаниями, которые мечтал применить наделе. Но этого дела не было. Была изнурительная, хлопотливая жизнь гарнизона, собиравшегося покинуть обжитое место. Лейтенант, узнав о засаде, умолял Грачева взять его с собой в «зеленку». Был в нетерпении, предвкушал долгожданный бой, к которому готовили его в училище любимые педагоги. Лейтенантский азарт и радость, среди общей угрюмой усталости, перед завершением долгой, ненужной войны, из которой они с трудом выдираются, – этот жеребячий азарт казался наивным и глупым. Раздражал, был неправдой. Но не той, что мучила прапорщика.
Неясная, невыразимая неправда, что угнетала Кологривко в последнее время, заключалась в том, что он, Николай Кологривко, тридцати с лишним лет от роду, плыл когда-то по теплой, тихой реке с отраженным в ней стеклянным облаком. Чудесно пахло небом, лугами. Хрупкое, гибкое тело скользило в мягкой воде. И оттуда, из реки, из отраженного облака, он славил весь белый свет – свой кирпичный детдом, окруженный полетом ласточек, нянечку тетю Груню, полоскавшую белые простыни, мать, долгожданную, милую, которая его ищет и ждет. И он же, Николай Кологривко, стоит теперь в несвежей, пропыленной одежде в чужой, колючей степи, и в теле его непрерывно и нудно болит рубец от стального сердечника, а в спине, под лопаткой, натянулся шрам от ожога. И опять ему предстоит навьючивать патронташ и подсумок, затягивать лямки ремней и идти в глухую ночь по неверной тропе, ожидая близкого удара, внезапного секущего огня. Падать, кричать от боли. Резать, стрелять, убивать. И все это с ним, с Кологривко?
– Они, шкура-мать, думают, раз в жизни из штаба выползли, окружили себя сотней танков, проехались по дороге и – сразу Звезду на грудь? А ты здесь борзей два года без бабы, весь в дырках, как кухонный дуршлаг, и тебе за это Туркестанский военный округ? Не выйдет. Аллах правду знает! Вот мы за правдой и сходим в «зеленку», так или нет, лейтенант?
– Так точно, товарищ майор! Все сделаем по классической схеме!
– Айда ко мне, карту посмотрим! – Грачев усмехнулся какой-то двойной улыбкой, двумя разными половинами рта. Весело, легкомысленно, поощряя лейтенанта. И угрюмо, по-волчьи, кому-то невидимому, засевшему в штабном кабинете.
Жилище майора было тесно, неубрано. Железная продавленная кровать, застеленная цветастой азиатской тряпицей. Тумбочка с поломанной дверцей, на ней – замусоленная, без обложки книга, гильза с окурками, кассетник с расколотым корпусом. У входа на стоптанном коврике стояли изношенные кроссовки, женские, с помпонами тапочки.
Кологривко, усаживаясь на кровать, погружаясь в скрипнувшие пружины, ощутил несвежий запах жилища. В этой комнате ели и пили водку, курили, любили женщин, чистили и заряжали оружие.
Майор расстелил на полу изжеванную, стертую карту. Окраина города, «зеленая зона», оспины кишлаков вдоль бетонки.
– Вот здесь две тропы в «зеленку»! – Грязный ноготь майора провел надрез в глубь зеленоватых разводов.
Кологривко, следя за надрезом, представил сады, виноградники, чересполосицу полей и арыков, холмы с разрушенными артиллерией кишлаками, огрызки древесных стволов, красноватые безлистые заросли, изуродованные войной.
– Надир сказал, на тропах мин нету. «Духи» ходят ночью спокойно, никто их здесь не шерстил. Таскают «эрэсы» вот сюда, в район Гуляхана! – Ноготь с черной каймой щелкнул желтоватое пятнышко, метину кишлака. – Отсюда и лупят! Надир сказал, сегодня ночью снова будут лупить!
– Не верю Надиру, – глухо сказал Кологривко, представляя длинное, худое лицо афганца, белую чалму, жидкие струйки усов. – Больно суетится в последнее время. Глазами бегает. Мы уйдем, а ему оставаться. Ему без нас свои же башку оторвут!
– Да они сейчас все на обе стороны стали работать! На нас и на «духов»! – подтвердил лейтенант, оттопыривая сочную, розовую губу, выражая свое презрение. – Я бы не стал особенно верить Надиру!
– Куда ему деться! – хмыкнул майор. Его развеселило мнимое лейтенантское глубокомыслие. – На нем столько крови, что ему, шкура-мать, невозможно здесь оставаться! Побежит за последним «бэтээром», чтоб взяли его с собой… Ты помнишь Гуляхан? – повернулся он к Кологривко. – Помнишь, что и где в Гуляхане?…
Год назад они были с майором в «зеленке». Последний вместе с афганскими солдатами рейд, после которого был наложен на «зеленку» запрет. Четыре трупа привезли в полк исстрелянные, ободранные «бэтээры», прикрывая отступление роты. Кологривко помнил, как обмывали в морге пыльные, в спекшейся сукрови тела, впрыскивали в них заморозку, накладывали грубые швы. Рота выходила из «зеленки» мимо кишлака Гуляхана. Глиняные, похожие на башни сушильни, просторное, окруженное деревьями поле, какой-то полуразрушенный дом с блеклым рисунком над входом, круглые, напоминавшие муравейники кучи кяриза. Ему хотелось рассмотреть получше рисунок, но из дома ударила очередь, и в ответ задолбил пулемет «бэтээра», простреливая поле и заросли, и он прижался к броне, пропуская мимо рисунок на глине…
– Наши действия, шкура-мать! Докладываю! – Майор вонзил в карту две свои сильные короткопалые ладони, словно прорубал сквозь «зеленку» просеку. – Двумя группами уходим на километр – не больше! Наша группа – шесть человек. Вторая – до взвода. Оседлаем обе тропы. Берем втихаря на проходе, сколько можем, без выстрелов. Будут «эрэс-ки» – ладно! Не будут – черт с ними!.. Делаем взрыв в Гуляхане, один хороший хлопок, чтобы слышно было и в городе, и в «зеленке». Пусть полковник приходит, проверит, были здесь установки или не были! После хлопка они суток на пять заткнутся, прекратят обстрелы!.. Две группы взаимодействуют. Как вошли, так и вышли! Все!..
– Кто в вашей группе пойдет? – Кологривко смотрел на карту, чувствуя, как каждый наполнявший жилище предмет выделяет свой собственный запах. Среди тлена, никотина, прогорклой пищи, нестиранной одежды раздражал дешевый и едкий дух одеколона.
– Как это кто пойдет?! Ты, конечно! Товарища лейтенанта возьмем! – Майор легонько пихнул плечом Молдованова. – Возьми Белоносова!.. И двух солдат покрепче, чтоб, как лоси, ходили, шкура-мать! Вторую группу потащит капитан Абрамчук!
Кологривко кивнул, соглашаясь. Его уже покидало недавнее оцепенение. Состояние, когда он чувствовал, что его «я» случайно залетело в большое, длиннорукое тело, не связано с ним, может излететь из него. Существовать отдельно, наблюдая за всем то ли из исчезнувшего прошлого, то ли из ненаступившего будущего. Это состояние покидало его теперь, сменяясь заботой. Он начинал заботиться о множестве мелочей и предметов, которые предстояло собрать, проверить, починить и почистить, соединить один с другим в сложной, единственно возможной последовательности, перед тем как нагрузить этими предметами себя и других, двинуться вместе с ними в «зеленку». Он начинал заботиться и о тех, кого ему предстоит выбрать. Выделить из множества населявших казарму солдат, отличая их по признакам душевной и физической стойкости, способности бежать, стрелять, переносить усталость и боль. И, может быть, умереть, если план майора Грачева окажется неверным и вздорным, или Надир, афганский разведчик, окажется предателем, или стрясется какая-нибудь невероятная, не предусмотренная ими случайность и «зеленка» проглотит из без следа своими виноградниками, садами, арыками.
– Как будем входить в «зеленку»? – спросил он майора.
– По-хитрому. Сядем в грузовик под брезент. Пойдем с колонной. У сто первой заставы – имитация поломки. Ставим грузовик у обочины. Колонна пошла вперед, а «водилы» и солдаты с заставы имитируют ремонт. На ночь бросают грузовик и идут ночевать на заставу. Ночью втихаря выходим из-под тента и втягиваемся в «зеленку».
– «Духовскую» одежду брать?
– Ты «духовский» кафтан надевай и Белоносов!.. А я по-простому, в казенном. Правильно, лейтенант? – Майор подмигнул Молдованову.
– Так точно! – громко, возбужденно ответил Молдованов, предвкушая ночную засаду, бой в темноте.
Кологривко чувствовал, как сильнее наваливается забота. В комнате пахло одеколоном и прелым бельем. Тогда, когда вышли из-под Гуляхана и тела убитых в морге заворачивали в фольгу, пахло формалином и сладким, трупным зловонием.
Прапорщика Белоносова он отыскал в машинном парке, где шел ремонт техники. Солдаты били кувалдами по гусеницам, возились в моторах, меняли тормозные колодки. Готовили технику к изнурительному маршу на север, к границе, когда длинный, с разрывами хвост растянется на долгие километры, на подъемах в радиаторах станет вскипать вода, буксиры возьмут на трос грузовики с заглохшими двигателями и от солнца пустыни будут обгорать до пузырей сидящие на броне пехотинцы.
Белоносов, с голыми по локоть руками, перепачканными маслом и копотью, слушал, как ревут запущенные движки «бэтээра». Из открытого жалюзи шел синий чад, сотрясалась горячая сталь.
– Айда отойдем! – позвал Кологривко, крикнув в мохнатое ухо прапорщика.
Тот неохотно, оглядываясь на запущенный механизм, шагнул в сторону, туда, где кончались построенные в ряд «бэтээры» и начиналась свалка подбитой техники. Валялись катки, звенья траков, выломанные трансмиссии. Горбились пустыми коробами сгоревшие транспортеры и танки.
– Сколько железа после себя оставляем! – сказал Белоносов, присаживаясь на смятую бочку. – Была бы охота – металлургический завод можно открыть. И сколько же здесь моторов даром погублено! Если бы эту силищу да в народное хозяйство, плуги таскать, какой же был бы прирост в продовольствии! А то здесь вся степь стальная, а дома в магазине гвоздя не найти…
Он огорченно качал головой с выпуклым лбом, должно быть, представляя себе этот несостоявшийся прирост хозяйства.
– Доберешься в Союз – будет тебе и прирост, и приплод! – усмехнулся Кологривко, разглядывая близкое лицо друга, с кем два года находился бок о бок. Спали в комнатушке на соседних койках. Шли в колонне на соседних «бэтээрах». Хлебали из одного котелка. – Будешь морковку растить и детишек стругать одного за другим!
– А что? И буду! Вернусь и рапорт на гражданку подам, в первый же день! Оттрубил! Меня в казарму теперь палками не загонишь! Мне другое теперь интересно!
Кологривко знал, что интересно другу. В последние месяцы, чем ближе к возвращению, тем чаще Белоносов доверял ему свои мечты и проекты, как уйдет из армии и вернется в родную деревню, где на пенсии доживают его старики. Поселится с семьей в родовой избе, срубит баню, посадит новый, взамен померзшего, сад. Возьмет в аренду окрестные заросшие земли, где в бурьяне прячутся межевые прадедовские валуны. Купит трактор, лошадь и вместе с женой, такой же, как и он, деревенской, с подрастающим сыном станет пахать и сеять, косить и метать стога. Крестьянствовать, как в старинные, позабытые времена, благо силу у него не отнимешь, а душа намыкалась, натосковалась на этой азиатской войне и просилась обратно в Россию, в поля, к речушкам и рощам. И будет дом его, мечтал Белоносов, полон детей, а труд будет направлен не на взрыв, не на выстрел, а на хлебный росток, сенной стожок, стакан молока.
– Замкомбата сказал – сегодня ночью идем в «зеленку». Ты и я в группе Грачева. – Кологривко смотрел на перепачканные руки прапорщика, сжимавшие замасленную отвертку. – Надо бы собраться, как следует.
– Да ведь он вчера сказал – добровольно! Не пойду! Прикажут – пойду, атак – не хочу! Чего туда лезть напоследок? Сматываться надо аккуратно, а не ворошить муравейник! Пусть разберутся промеж себя, а нам зачем к ним соваться?
– Надо хорошенько собраться, – тихо сказал Кологривко, глядя на исцарапанные, избитые руки прапорщика. – Двух-трех мужиков подобрать, которые покрепче. На стрельбище сходить, а то давно не стреляли. Втягиваться будем ночью в районе Гуляхана. Абрамчук нас взводом прикроет.
– Не хочу я «втягиваться»! «Вытягиваться» нам надо, а не «втягиваться»! Пора шмотки домой собирать! Куда он лезет, Грачев? Он же бешеный! Он без войны не может! В Союзе от скуки повесится или сопьется! Он «ползеленки» взорвет, чтобы себе Звезду добыть! Не пойду я напоследок Грачеву Звезду добывать!
– Тебе и мне в «духовской» форме идти. Моя разорвалась, надо пойти подлатать.
– Ты-то, дура детдомовская! Всю жизнь на тебе пашут! Все на тебе наживаются! Чего ты нажил за жизнь? Бабы нет, детей нет, дома нету! В цинке тебя привезут – похоронить некому будет! Военком фанерку на могилке поставит – вот и весь праздник!
– Зачем ты так!
Ему стало больно. Не от того, что сказал Белоносов, а от того, как сказал. А сказал он со злобой, будто он, Кологривко, своей неприкаянностью затягивал Белоносова в свою беду. Будто он, Кологривко, всем всегда приносит несчастье. И от этого стало больно.
Белоносов положил ему на колено замызганную, тяжелую руку.
– Прости, Никола! Сам я дурак! Дурак, что тебе говорю!
Сидели рядом на скомканных металлических бочках, среди сожженных танков, ржавых транспортеров, источавших горький запах окалины. Тяжелая пятерня Белоносова лежала у него на коленке.
– Я же тебя люблю, Никола, оттого и сказал!
Конечно же, он любил. Тащил на себе его безжизненное, пробитое тело, когда их забросали гранатами в маленьком, тесном ущелье. А после сам хрипел и плевался кровью у него на руках, когда контузило ударом базуки. Вместе тонули в реке, когда отступали, так и не дождавшись «вертушек», побиваемые огнем пулемета. Лежали спиной к спине, не давая замерзнуть, когда внезапно повалил снегопад и все горные тропы, все минные поля покрылись стеклянными звездами. Кому бы еще читал Белоносов письма от жены и от сына? Кто еще слышал его ночные всхлипы и плачи? Кто знал, что мать дала ему на войну образок – разноцветную иконку Георгия? Белоносов, отправляясь в рейд, надевал ее под жесткую ткань «эксперименталки».
– Приходи на стрельбище, – сказал Кологривко, вставая.
– Не пойму я тебя, Колюха, – тихо сказал Белоносов.
– Я и сам не пойму.
Кологривко знал, кого возьмет в свою группу, кого поведет в «зеленку». Сержант Варгин стоял у стены казармы перед ведром побелки. Высокий, тяжелый, наблюдал, как солдатик, приторочив к палке самодельную, тряпичную кисть, белит саманную стену, пачкается, проливает на землю известковую жижу.
– Чего ее красить, товарищ сержант! – жаловался солдатик, весь конопатый от белых брызг. – Все одно – уходим, бросаем! Для кого? Для верблюдов красить?
– Для людей, – вразумлял сержант. – Мы уйдем, а люди поселятся. Будем сдавать хозяйство. Вон белуджи ходят бездомные. Уйдем – сразу и заселят. Пусть будет чисто, бело. Тебе же спасибо скажут.
– На кой мне их «спасибо»! Я и так проживу!
– Не проживешь. Ты себя не знаешь, – возражал сержант. – Крась, крась! Кисть прямее держи. А то на себя льешь, ноздри белые! Побелки не хватит!
Кологривко, подходя, услышал эти негромкие сержантские вразумления. Варгин увидел его, отвернулся от перепачканного недовольного солдатика.
– Товарищ прапорщик, я сделал, что вы меня просили! – Он залез в карман и вытащил маленький ножичек, протянул Кологривко.
Этот ножичек, давнишний подарок, был дорог Кологривко как память об исчезнувшем времени, о детдомовском друге, след которого потерялся. Этим ножичком друг вырезал узорные сосновые тросточки, покрывая сочную, смоляную кору узорными квадратами и спиралями. Делал дудки из полых, хрустких стеблей.
Здесь, в Афганистане, жгучее солнце иссушило до ветхости деревянную рукоятку, а едкий пот ладоней растворил и разрушил деревянные волокна. Рукоятка осыпалась, обнажился железный стержень. Кологривко отдал ножичек в ремонт сержанту, известному своим умением.
Ножичек был поточен. Лезвие натерто до блеска. Рукоятка была набрана из тонких пластмассовых пластин, добытых здесь в глиняной и песчаной стране, среди металлического лома сгоревших вертолетов и танков, подбитых душманских «тойот». Ручка завершалась искусно вырезанной головкой, усатой, бородатой, в чалме, с черно-золотистыми искрами солнца. Прапорщик, принимая ножик, восхитился искусством мастера, любовной, от души, от сердца, работой. Теперь в этом ножичке будет память о двух не знавших друг друга людях, о двух несоединимых временах.
– Я вас хотел спросить, товарищ прапорщик! – Варгин видел, что Кологривко растроган, изделие ему нравится. Избавлял его от слов благодарности. – Я вот тут газетки читаю, и все статейки попадаются про нас, «афганцев». Все о нас кто-то заботится, от кого-то нас защищает. Тут один такой – забыл его фамилию, на насекомое похожа – пишет, что мы-де бедные, несчастные, мы-де глупые и обманутые и нас, когда вернемся, в ватку надо всех положить и нянчить, пока не выздоровеем, не станем нормальными. А до этого нас к людям лучше не выпускать, потому что у нас мозги испорчены и все мы вроде бы сумасшедшие и опасные! Вот я и думаю, товарищ прапорщик, может, и вправду мы в «чайников» здесь превратились и нас, когда мы в Союз вернемся, надо в какую-нибудь колонию посадить, перевоспитывать, чтобы стали неопасные и нами детей не пугали! Как вы думаете, товарищ прапорщик?
– Дожить надо до Союза, а там разберемся! – рассеянно ответил Кологривко, рассматривая точеную рукоять, где в пластмассовой усатой головке мерцали злые искорки солнца. – Дойти, говорю, до Союза надо!
– Дойдем, немного осталось! – уверенно сказал Варгин, не желая прекращать разговор, отпускать важного для себя собеседника. Солдатик с тряпичной кистью, перестав работать, прислушивался. – Дойти дойдем, но когда вернемся, хотел бы я найти этого насекомого, который статейки пишет, и спросить, чего он с нами сюда не пришел? Пришел бы он сюда послужить, пяток «тойот» в засадах забил, гепатитом чуток поболел, ну там осколочек в зад или пульку в плечо, ну в горы суток на пять с полной выкладкой, дружка бы в цинк запаял, невеста бы ему написала, что за другого выходит, ну и разное всякое. Вот он бы с нами тут послужил, а потом бы и писал статейки! А то, я думаю, папа его блатной лапой в институт посадил, статейки писать научил, а у кого папы с лапой нету, те, рабоче-крестьянские дети, сюда трубить пошли! Так зачем же, спрашивается, нам ихние умные статейки читать, если они нас так и так бояться должны! Потому что мы придем и спросим их, насекомых, чем они занимались в Союзе, когда мы здесь кровь проливали! Я лично спрошу. Специально его отыщу и спрошу. Я статейку ту вырезал и спрятал. Разыщу его, товарищ прапорщик, и спрошу! – Большое тело сержанта напряглось и набычилось, лицо потемнело.
Кологривко, пряча ножичек в карман брюк, сказал:
– Потом разберешься, в Союзе… Сегодня ночью идем в «зеленку». Ты маленько отдохни. После обеда – на стрельбище. Давно на крючок не жали. Все тряпки да палки! А ты не маляр, а сержант. Понял, что говорю?
– Так точно! – ответил Варгин, собирая свое тело в груду твердых, упругих мышц. – На стрельбище давно не бывали!..
«Ну давай, бели, бели! Белый цвет – гигиена! Чтоб насекомые не водились!» – услышал, отходя, Кологривко, огибая угол казармы.
Рядового Птенчикова он отыскал в клубе – знал, где его искать. Солдаты из самодеятельности готовились к Новому году. К последнему, как они надеялись, в этой безлесной, бесснежной степи, где декабрьское солнце сушило на плоских кровлях оранжевую хурму и урюк, а вместо елки привозили из предгорий кривую арчу, украшали ее фольгой из медсанбата и пластмассовыми уродцами, сделанными из медицинских капельниц.
Птенчиков, круглолицый, большеротый, с круглыми, смешливыми глазами, похожий и впрямь на птенца, показывал фокусы. Он собирался стать клоуном, циркачом. Все привыкли к его проделкам и шуткам, не обижались, если шутки были не слишком уважительными. Дорожили его постоянной готовностью смешить, каламбурить.
Сейчас Птенчиков стоял на эстраде перед сидящими в зале солдатами. На полу, рассыпанное, пестрело самодельное конфетти. Бумажные цветные кружочки, вырезанные автоматной гильзой.
– Вуаля! – говорил Птенчиков, держа в руках две длинные газетные полоски. – Фокус-покус! – Он увидел входящего прапорщика, устремил на него свои моргающие, птичьи глаза. – Для самых маленьких!.. Вуаля!
Он аккуратно сложил обе полоски. Снова их разъял, показывая публике, что они существуют отдельно. Вновь плоско, аккуратно сложил. Взял со стола ножницы и отрезал внизу от обеих тонкую кромку. Обрезки упали на пол. Он отпустил одну из полосок, ухватив двумя пальцами другую, и та, которую он отпустил, стала опадать, но не упала, а повисла на первой – была ее продолжением. В руках у Птенчикова висела, колебалась длинная газетная лента, одна вместо двух отдельных.
– Фокус-покус! – повторил он, продолжал обращаться к Кологривко. Подхватил болтавшийся бумажный хвост. Опять сложил вдвое. Взял ножницы и остриг нижний конец, разрушил соединение ленты – маленький обрезок газеты упал на пол. Отпустил один конец, и лента, вместо того чтобы отлететь и распасться, вновь оказалась целой. Длинно, волнисто качалась в руках фокусника.
– Вот также неразлучны наши замечательные командиры, товарищи прапорщики Кологривко и Белоносов, хотя их регулярно «стригут» командиры роты, батальона, полка!
Он ловко, несколько раз подряд, повторил свой фокус, рассекая ножницами газетные ленты. И они чудотворно оказывались всякий раз соединенными воедино. Солдаты ликовали, хлопали, довольные не только фокусом, но и смелой насмешкой над вошедшим прапорщиком.
– Птенчиков, подойди ко мне! – позвал Кологривко.
Солдат бойко, весело спрыгнул с эстрады. Подскочил, щелкнул каблуками. Но не вытянулся перед прапорщиком, а длинным взмахом пустой, открытой ладони провел вокруг головы Кологривко, задержал свой взмах около его уха.
– Товарищ прапорщик, разрешите я вам помогу! А то торчит, неудобно! – И он вынул их уха прапорщика, показал всем присутствующим пуговицу со звездой. Солдаты гоготали, хлопали, стучали ногами. – И еще, товарищ прапорщик, извините, вот здесь у вас торчит! Наверное, мешает! – Он снова провел ладонью у самого лица Кологривко, задержался немного у другого уха, извлек из него стреляную автоматную гильзу. – Товарищ прапорщик ведет огонь из всех огневых точек! – сказал Птенчиков, показывая гильзу солдатам. – Этим достигается высокая плотность огня!.. И еще вот здесь! – Он хлопнул ладонями над головой Кологривко, осыпая его бог весть откуда взявшимся пестрым конфетти.
– Птенчиков, – устало улыбнулся Кологривко, – да погоди ты цирк разводить. Сегодня со мной в «зеленку». Отдохни, ночь спать не будешь. На стрельбище – после обеда. Там и покажешь фокус! Понял, Птенчиков?
– Так точно! – ответил солдат. Сиял круглыми, птичьими глазами, крутил заостренным носом. – Это не вы потеряли, товарищ прапорщик? – И он протянул Кологривко ножичек с пластмассовой усатой головкой.
Кологривко не мог понять, когда этот ловкач вытянул ножичек у него из кармана.
Кологривко вернулся в свою комнатушку, достал из тумбочки ворох азиатских одежд. Длинные жеваные шаровары. Долгополую рубаху. Жилетку. Свитую, сложенную гнездом, чалму. Шерстяную накидку. Афганский наряд, в который облачался, отправляясь на разведку, в засаду. Желтоватая, линялая рубаха была порвана. Прапорщик достал иголку и нитку, стал аккуратно сшивать прореху, делая длинный рубец на ткани, выдергивая прелые, расползавшиеся волокна.
Это облачение, «духовский» костюм, он добыл у пленного. Душманы, привезенные в полк на броне, испуганные, потрясенные, пережившие обстрел и побои, жались к саманной стене. Солдаты, покуривая, поплевывая, смотрели на них из люков. И он, Кологривко, выбрал из пленных того, что был одного с ним роста, заставил раздеться, сгреб пыльный ворох одежд. Уходя оглянулся: пленный, голый, худой, с костистыми плечами и ребрами, ежился, топтался у стальной гусеницы.
С тех пор он не раз облачался в чалму и пузырящиеся шаровары. В засадах, когда зарывался в бархан и вел наблюдение за красноватой, волнистой пустыней, не мелькнет ли где вялый дымок «тойоты», не затуманится ли пылью верблюжья караванная тропа. Укутывался накидкой, пряча под нее автомат и гранаты, когда провожал командира на тайные встречи с разведчиком: пока они говорили о чем-то, он вглядывался чутко в сумерки, на тропу, на мостик у ручья, сжимая под накидкой готовый к стрельбе «акаэс». В последний раз, во время ночного налета на придорожный дукан, где пряталась душманская группа, он порвал рубаху. Подкатили без огней на двух «бэтээрах», вломились в дукан, забросали «духов» гранатами и во тьме, среди вспышек и трасс, он зацепился рубахой за крюк, вырвал клок.
Теперь он сшивал ветхую ткань, протыкал ее иглой, готовился к ночному рейду. Чувствовал запахи, исходящие из поношенных материй. Они источали слабые дуновения дыма, полыни, домашней скотины, крестьянского двора, очага, пахли чужим человеческим телом, передававшим холсту и сукну свое тепло и дыхание во время трудов и хождений, полевых работ и молений. В матерчатые складки и швы залетел и держался запах железа и пороха, бензиновой гари и смазки. Испарения хлебного поля смешались с едкими дымами войны. Прапорщик улавливал легчайшие токи, исходящие от азиатской одежды. Думал: кто еще после него накинет на плечи желтоватую, линялую ткань, водрузит на голову пышную, как капустный кочан, чалму?
Впервые в жизни он взял в руки иглу в детском доме, после встречи с женщиной, которую принял за мать. Он увидел ее на другом берегу ручья, в белом платье. Такая мука, любовь, вина были на ее блеклом лице, что он тотчас узнал свою мать. С криком кинулся к мостику, на тот берег, чтобы скорее ее обнять. Но когда добежал – никого. Только лежала на траве белая ленточка. Он поднял ее, долго рыдал. Знал, что это мать приходила на него посмотреть. Ленточку он пришил изнутри к своей детской куртке, долго и неумело орудуя иглой.
Сейчас он чинил прореху, испытывая неясную нежность и вину перед этими поношенными одеяниями. Они были созданы человеком по образу своему и подобию. Бессловесно и преданно служили ему, сопутствуя в страдании и радости. Умирали, исчезали, изнашивались вместе с человеком.
После обеда на стрельбище сошлись обе группы – майора Грачева, в которую входил Кологривко, и вторая, возглавляемая капитаном Абрамчуком. Капитан, высокий, чернявый, жилистый, с красным шрамом через все лицо, доложил майору о готовности групп.
Стрельбище размещалось за гарнизоном, в сорной пустыне, с маленькими вихрями пыли, с далекими, разрушенными временем глинобитными крепостями. Свалка отходов, накопленная за десятилетие, ржавела грудами банок. Над ними, не боясь людей, медленно всплывая на потоках горячего ветра, кружили грифы. Иные из них, хлопая крыльями, отталкивались от гремящих банок, взлетали. Другие высоко парили, растопырив маховые перья, похожие на черные алебарды.
– Группы к стрельбе построены!.. Постановка мишеней закончена! – доложил Абрамчук, небрежно касаясь виска кончиками изогнутых пальцев.
– Покажи, как твои «звери» стреляют, шкура-мать! – Майор, довольный, поглядывал на выстроенных стрелков, на далекие, установленные вместо мишеней консервные банки, на позиции, отмеченные рытвинами, лежащими на земле автоматами, вскрытыми патронными цинка-ми. – После вчерашнего руки не дрожат, Абрамчук?
– Никак нет, – ухмыльнулся капитан.
– Чего здесь человеку осталось, в этой дыре? Женщин хороших нет, шкура-мать! Спирт соляркой воняет! Одна радость – пострелять! Давай, покажи, чьи «звери» лучше стреляют – твои или мои? А то штабные умники хотят войну без выстрелов сделать! И чтоб победа в кармане, и патроны все целы! Нет, товарищ генерал, так не бывает!.. Давай, Абрамчук, командуй!
Стрелки ложились на теплую землю, били в мишени. Прочеркивали хлысты очередей. Дырявили банки, гоняли их пулями по пустыне. Трещали автоматы и пулеметы, рассылая бледные трассы. Солдаты, отстреляв, бежали к опрокинутым мишеням, водворяли их на место. Снова стреляли. Над стрельбищем, в горчично-рыжем небе, кружили грифы, делали плавные, однообразные круги.