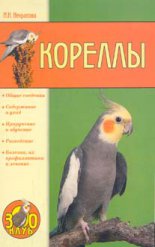Тайна полярного князца Прашкевич Геннадий

В круглых глазах Двинянина вспыхивали дерзкие искры.
Даже Артюшка Солдат сразу схватывал, на какого такого этого оставил несчастный Сидорка свою добычу. И цена-то всей мяхкой рухляди вышла в пятнадцать рублев, богатым не сделаешься, но этот не погнушался, прибрал малое добро к рукам. Пришлось Сидорке, вернувшись с краю лесов, нести в приказную избу слезную жалобу. Вот, дескать, напромышлял добрых соболишек, а этот не возвращает. Жесточью и скаредностью ввергает Сидорку в нищету, совсем сгибл.
Двинянин отдувал рыжий ус.
Слушая, даже вредный Евсейка Павлов входил в раж, толкался сильными локтями. Как все, понимал: тут имен называть не надо. Ответчик, он ведь кто? Да все тот же Семейка!
– А ответчик челобитную выслушал, плечами пожал. Дескать, ничего не знаю, не ведаю. И судья у истца спросил – чем уличишь? И истец уличал Божьей правдою, крестом животворящим. А этот дал истцу на душу. А истец клятвенно слался на артельщика своего на Сеньку Шапку. А этот сказал, яз де не шлюсь на Шапку! Истец слался на Панфила Иванова, а этот и на Панфила не слался. Истец слался на Семка Петрова, а этот не слался. Истец слался на брата его Голыгу да на слепого Пядку Софонова, а этот не слался. А сверх слался истец всяк в повальный обыск. А этот никак.
Казаки фыркали.
Ишь, горазд говорить.
Думали: пришел – свару затеет. А все оказалось наоборот.
Вот все сидят на скамьях уже не беглыми, преследуемыми, а настоящими служилыми. Сами люди государевы и Юшка – человек государев. В сильном рвении подавались к Двинянину, перехватывали взгляд.
– И судья стал спрошать у третьих – у Шапки, и у Самсона, и у Панфила. И третьи сказали по государеву крестному целованию: этот – он сам говорил, что промышлял. Только Голыга сказал: яз не знаю. И судья стал спрошать в повальном обыску у служилого человека Макарья Тверякова и Фаддея Васильева, и у промышленных людей Бориса Григорьева, да у Микиты Стефанова, да у Федора Трофимова. И они все сказали истинную правду по государеву крестному целованию: все слышали, что Сидор соболя отдал этому.
Казаки кивали. Одни открыто, как Евсейка Павлов: дескать, и не сомневаемся! Другие смущенно. Как никак, а Семейка пока – прикащик.
Сидели при свечах. В своих избах привычно, лед пророс по углам. А здесь надышано, смех, жизнь живая.
Евсейка толкался локтями:
– Глупый Артюшка где?
Требовал: звать сюда Артюшку! Пусть слушает разговоры вольных умных людей. Хватит ему лежать при Семейке. Он все услышанное передает прикащику, вот пусть и передает! Но Артюшка, однажды побывав на посиделках, больше не приходил. Дежневу объяснил так: «Предательства не могу видеть». Вообще с приходом Двинянина Артюшка на всех стал смотреть с подозрением, самого Дежнева предупреждал: «Ты не терпи, Семейка. Зря терпишь такое беззаконие и сладкие уговоры. Увидишь, многие отойдут к Двинянину. Он сладко всех улещивает. Евсейка Павлов ушел, теперь Бугор проторит тропу». Уличал Гришку:
– Вот где ходил, проводив Данилу?
Гришка смеялся, не отвечал. Но дивно ему, ходил к Двинянину.
Молча присаживался на краешек лавки. Вот Юшка! Так мечет искрами из глаз, что, смотришь, изба займется. Перечисляет вины этого с таким видом, будто одновременно выгораживает Семейку. Правда, не сильно, а так, чтобы понимали: он даже к Семейке как бы не таит зла. А иногда случалась совсем другая игра: Двинянин вдруг замечал Гришку. Вот сидел рассказывал, Гришку не видел, разводил красиво руками, всяко старался уколоть этого и вдруг – на тебе! – заметил.
– Лоскут?
Павлик Заварза суетливо подсказывал:
– Он! Лоскут это!
– Чего с ножом на поясе? Пришел ведь не к дикующим.
Многие оборачивались, даже смотрели на Гришку с укором.
– А он стережется, – суетливо подсказывал Павлик. – Мы теперь на ночь караулы ставим. Может, он тоже в караул собрался. Не с Артюшкой же валяться ему, – намекал. Суетливо подмигивал: – Дикующие совсем рядом.
Заговорив о дикующих, суетился еще больше:
– Домой хочу. Каждую ночь мне баба снится. Невиданной красоты, вся в вышивках. Толстая коса на плече, на голове кика рогатая.
Одни смеялись: «Артюшка тебе приснится!» – но Двинянин понимающе кивал:
– Сон в руку. Вернешься, Заварза.
Это действовало. Кто-то вспоминал: под самой Вологдой, почти на другом конце света, его тоже ждут. Вроде как родители. Ну, старые уже, но, может, дождутся. И на это знал Двинянин волшебное слово: «Отец лапти плетет, мать нитки прядет».
Подмигивал:
– Огня не гасят, сына ждучи. Обогатиться хотят.
Смеялись. Кивали задумчиво. А рыжий весело повторял:
– Весной все сны в руку. Кроме, егды бесы томят.
Утешал:
– В Нижний вернемся не пустые.
Хитро подмигивал:
– На корге наше богатство!
Сильно распалялся от собственных слов:
– Вот тебе, Евсейка, к примеру, новый кафтан пойдет. С больших шишей купишь настоящий праздничный. Тебя это дураки дразнят, а на самом деле ты мужчина осанистый, купишь себе настоящий праздничный кафтан. Чтобы сукно доброе, да пуговицы бронзовые.
Спохватывался:
– А, может, сам подарю тебе такой кафтан. Из большого уважения. Нашьешь впереди сорок две пуговицы – народ дивить. Ну, там петли, снурок золотой. – Встряхивал рыжими волосами: – Серьгу вставишь в ухо. Как зверовидный Фрол. Приданое привезешь дочкам.
– А как не возьмут замуж? Если девками и помрут?
Двинянин не терялся:
– Тогда на помин сгодится.
Гришка смеялся вместе со всеми, но без ножа к Двинянину не ходил. Попутчик, с которым шел в Нижний – упомянутый зверовидный Фрол, постоянно косил на него глазом. Где увидит, там и покосится. И Тюнька Сусик, дружок, всегда поблизости. Левое ухо Фрола рваное, прятал под шапку. Когда-то плавал с лихим охочим человеком Прокофием Брагиным. На восток от Лены встретили в прибрежном море груженый товаром тяжелый коч енисейского казачьего десятника Елисея Бузы. Поднялись на борт, помянули старую обиду, выбросили людей за борт, товар забрали.
В другой раз с Тимкой Щупом, смуглым, как цыган, беглым человеком, наткнулся Фрол в сендухе на загадочное озерце. Маленькое, округлое, в низких каменных берегах. А среди камней – блеск. На зуб – чисто золото. Промышлять зверя бросили, все бросили. Как умели, мыли тяжелый металл в ледяной воде. От лютой обжигающей воды скоро слегли – в кашле, в жаре. Горло схватило ужасной пленкой. Фрол один тогда выполз из сендухи – совсем пустым. Не гнушаясь, пил кровь зарезанного верхового олешка, тем и спасся. А Щуп не стал пить.
В другой раз шел богатейший соболь. Фрол столько зверя упромышлял, что решил больше никогда не ходить в лес. «Я богатый таперича!» – говорил, как Гришка, прятал под шапку рваное палачом ухо. «Хоть садись отдельным хозяином!»
И сел.
Купил избу, деревянную, живой скот.
Поставил лавки и стол. Начал искать под себя смирную бабу, но не успел – загулял. В каком-то ужасном пьяном загуле так уснул, что уронил на пол лучину. Все враз сгорело.
За что ни брался Фрол, все шло наперекосяк. Из людей верил только Тюньке Сусику. На Гришку косился.
А рыжий Юшка щурился на свечу, откидывался спиной на бревенчатую стену, там из пазов мхи лезли. Играл перначом на короткой ручке, как бы показывал: этот пернач много народов видел. Играл ремешком-петлей, чтобы даже при слабом свете все видели сильную жилистую руку. Вот де этот выдает нынче богатую коргу за свою, а на самом деле упомянутую коргу первым увидел он – Юшко Двинянин. Было, плавал он со Стадухиным по голому морю, вот тогда и увидел. Даже якобы спускался на камни, брал заморный зуб, привозил в Якуцк для опыту. Артюшка Солдат, услышав такую похвальбу, сплюнул:
– Нет на тебя Ваньки Реброва!
Казаки переглянулись. Виду, конечно, не подали, но переглянулись.
Иван Ребров, тобольский пеший казак, первый ходивший на Яну и честно дослужившийся до пятидесятника, в Якуцке в питейной избе услышал неслыханной силы поносную речь, направленную против него. Не заметив вошедшего Ивана, Двинянин продолжал ужасно его поносить. Презрительно называл ребром, корил в разном обмане, явно придуманном, умалял славу деяний. А Ребров никогда мирным характером не славился. Послушав немного, ухватил Юшку за рыжую бороду, окунул во что-то там. В Якуцке стали шептаться: зарежут теперь Ивана! Много жиганов у этого Юшки.
Но Двинянин выбрал другой путь.
За позор, учиненный в питейной, решил сыскать с Реброва деньгами.
И сыскал. Вычли с Реброва за невежливость двадцать рублев. Казачий пятидесятник требуемые деньги на судейный стол охотно выложил, да подьячему не пожалел полтину. Только выдай мне, попросил, верный список с указанной государевой грамоты. Подьячий выдал, конечно. «Взыскано двадцать рублев… За позор в кружале… За таскание бороды…» Ребров бесстыдно ржал, вслух оглашая тот список в питейных избах. И казаки, и промышленники, и всякий гулящий люд вместе с ним – весело ржали. А завидев Юшку, толкались локтями: «За позор в кружале… За таскание бороды…» Вот Двинянин, чтобы вытеснить такое из памяти людской, распустил по Якуцку слух, что знает богатые места заморного рыбьего зубу. Торжественно объявил в приказной: сам в неведомое пойдет, в казну сдаст не менее, чем пятьдесят пуд. Это тогда многих смутило. Пуд рыбьего зубу шел по двадцати, а то и по тридцати рублев. А тут – сразу пятьдесят пуд!
«Знаю удобный морской ход, – хвалился Двинянин. – И сильный кормщик есть у меня на примете. В такие места уйдем, где никогда не бывало русских».
Насчет кормщика не врал.
Но когда пришла пора уходить, тот кормщик резко уперся.
Дескать, какой морской ход? Ты окстись, Юшка! Тут только что пригнали баб с России – в жены служилым. Какой ход? Какой рыбий зуб? Чуть не первую ухватив за рукав, кормщик забыл обо всем. Двинянин клялся, что рука у него легкая, упаивал кормщика до смерти, бил даже, но и угорев от длительного пития, кормщик все равно упорно, как морской зверь на старое лежбище, полз к своей избе, где ждала ласковая баба.
– Вот не было меня год с Пядкой Васильевым, – загадочно намекал Двинянин, прибыв в Нижний острожек. – А спросите: где был?
Дождавшись вопроса, загадочно подмигивал:
– Плавал к восходу.
Весело рассказывал: далеко заплыл, жил среди всяких чюхоч. В каждом стойбище выбирал ясырь. Брал добрых девушек, выпытывал у них про хорошее. Не раз говорил Пядко Васильеву, что не может быть, чтобы такой старинный народ, как чюхчи, ничего не знал о счастье.
И правда, плывя дальше, увидели остров.
А на острову – церкви с золотыми головами. И дома, и люди – все из чистого золота. Когда подъехали поближе, вышла на берег старая золотая старуха, подала Юшке золотую трубку: «Ну, кури». Двинянин курил, старуха сказала: «Знаю, Юшко, ты ищешь границу человеческих путей, хочешь счастье принести всяким народам. Но лучше вернись. На этом море пролегла неведомая граница всех человеческих путей. Перейдешь через нее, плохо будет».
Но Юшко и Пядко поплыли дальше.
Кончились битые льды, пошла совсем полая вода.
Увидели: посередине моря стоит лестница, высотою до неба.
Упруго нагибается, уходит под воду, потом с шумом является обратно, вся полная крупной рыбы. Этого Юшко и Пядко испугались и свернули на полдень, где наткнулись на другой остров. Этот совсем пустой, только рос табак. Листья такие, что одним можно обернуть человеческую голову. Юшко и Пядко взяли много таких листов и пошли, наконец, к матерой земле. Уже увидели прибрежный припайный лед, когда донесся грозный гром со стороны покинутого острова. Бросили коч, пали на нарты. Собаки мчали во весь дух, но ужасный грохот догонял, рвал уши. И плавно, как волны, ходил под людьми вечный толстый лед.
Все же добились до суши. Поставили урасы, уснули.
А утром Юшко увидел, что лед на воде весь переломан, будто били по нему ужасной дубиной, а Пядко и все другие люди зарезаны. Остался только он. И открылось ему откровение. Чтобы в будущем не погибнуть, открылось, не надо больше ходить к волшебным островам.
Вот не поймешь, врет Юшка или говорит правду?
В питейной мог любого зажечь. Иные дрались за честь сидеть рядом. Душа играла, как красиво звал всех отчаянных за собой – хоть на реку Мому, хоть на Погычу, хоть на зеленый берег неведомого моря. Вот все ведь знали про список Реброва, и про всякие другие Юшкины обманы, а слушая, начинали верить.
- На калине соловеюшка сидел…
Похвалил Стадухина.
Груб, конечно, Мишка, зато рука твердая. Когда к иноземцам идешь, рука должна быть такой твердой, как у Стадухина. Этот (все понимали – Дежнев) вроде и ухватист, а твердости не хватает. Он новую реку ухватил за хвост, как медведя, тянет из берлоги, а медведь не вытягивается. Ну дал бы пинка, всхрапывал от удовольствия Двинянин, ну, бросил бы, пошел искать зверя по силам, а этот сел и сидит бессмысленно. Нет, не тверда у него рука.
– Зато голова умная, – не выдерживал Лоскут. Хотел сидеть молча. Но не выдерживал. – Ты, Юшко, пришел на одно лето, только тебя и видели. А Семейка, он – казенный прикащик, он власть государя представляет. Ну, ты погуляешь и уйдешь. А чего хорошего, если дикующие, проводив тебя, возбужденно бросятся на Семейку? Только казне убыток.
– Я где бываю, все беру дочиста.
– А можно долго брать, с пользой.
На Лоскута даже Васька Бугор посмотрел волком.
– Двинянин волю принес! А ты, Гришка, беглый. Зачем перечить вольным людям? Думаешь, в долгу у тебя, так ты…
Не договаривал, но Гришка все понимал.
– Где печатки дорогие? – спрашивал. – Неужто потерял?
– Были, были печатки, – легко соглашался Двинянин, сжимая пальцы в кулак. – Только, уходя, купил просторный двор вдове Коноваловой. Ее мужа шоромбойские мужики на Яне зарезали.
– Врешь! В кабаках оставил.
Впрочем, возражал Гришка без уверенности. Знал, что Юшка запросто мог оставить дорогие печатки в кабаках, но так же легко мог купить просторный двор некоей вдове. Наглотался крепкого винца, запела душа, а тут – молодая! Шоромбойские мужики у нее мужа зарезали!
– Ишь, ноздри вывернул, – непонятно, но весело смеялся Двинянин. – К Камню зачем ходил?
– Данилу Филиппова провожал.
– Ой ли?
Гришка настораживался.
А вдруг Двинянин в пути встретил Данилу? Данила вполне мог сказать, где расстался с Лоскутом.
И Двинянин настораживался:
– Чего молчишь?
– Зачем отвечать? Не тебе служу.
– А кому?
– Прикащику Погычи.
– Ой, прикащику! – презрительно фыркал Двинянин. – Он в прикащиках сам себя утвердил. Ты мне служи! У меня воля. У меня б тебя звали – Грегорий. А так ты кто? Вор беглый.
Фрол приподнимался в углу.
– Сиди, Фрол! – весело останавливал Двинянин зверовидного. – В том нет худа, что Лоскут из беглых. У нас многие бегали. И ты, Фрол, бегал. И ты, Бугор. И ты, Заварза. – Обводил казаков вспыхнувшими глазами: – Не побегаешь, не утвердишься. Правду я говорю? Правда, новый воевода якуцкий строг. Приказал всех воров в Якуцк возвращать в колодках.
Этим высказав свое отношение, терял интерес к Лоскуту.
– Скоро пойдем на коргу! На одном месте только пень растет. Этот совсем нелюбопытен, пень пнем, а настоящему казаку на одном месте скушно. Я каждому плачу от души, всех домой возвращаю. Я же знаю каждого, – доверительно понижал голос, и казаки дружно поддавались к Двинянину, даже Гришка. – У одного дома ласковая баба осталась, у другого – малые дочки, у третьего хоть коза, да своя. А этот все под себя гребет.
В круглых глазах Двинянина вспыхивали адские искры:
– Я книжки читал, куншт корабельный знаю. Сердцем чувствую, как надо правильно жить, стоять за служилого человека. Далеко людей увожу, но со мной возвращаются отовсюду. Я так считаю, что если человек со мной пошел, так со мной и должен вернуться. Ни одну православную душу не ставлю в пустынном месте. А если кто умрет при мне, то христианскою смертью, как Бог велел.
Замолчал.
Всем и так понятно: камень в Семейку.
Ушли в Заносье с Дежневым люди Федота Алексеева, Афанасия Андреева, Бессона Астафьева, а кто на Погычу вышел?
Вздохнули.
Сразу слышно стало, как Анисим Костромин – плотный, тихий, черные волосы стрижены скобкой – при колеблющемся свете ширкал по кости острым ножичком, шлифовал обломок рыбьего зуба. У него всегда что-нибудь интересное получалось. За что ни возьмется Анисим, обязательно что-нибудь получится. Сейчас, например, птичка. Маленькая, легкая, крылышки распустила. Кажется, что голосистая. Не в пример другим, Анисим ни крошки не терял рыбьего зуба. Другой бы выбросил малый обломок, что в нем проку? – а Анисим не выбрасывал. Вот и теперь получилась птичка, весу в ней никакого нет, а на ярманге в Нижнем потянет на хорошую цену.
Платят ведь не только за вес.
Платят и за искусную работу.
- Горьку ягоду невесело клевал…
Оставив душную избу, Гришка постоял у крылечка.
Мороз, а все равно весна. Днем на берегу мокро. Солнце взойдет, тронется лед. С гулом, с треском страшно полезет на высокие берега, обдерет каменные обрывы. По доброму бы ставить оленный аргиш да с набранным зубом, с мяхкой рухлядью, со всем, что скопилось в амбарах, бежать на Камень, а там на Анюй-реку.
Но Семейка, правда, сидит, как пень.
Странно, покачал головой Лоскут. Вот Стадухин всяко поносил Семейку, теперь Юшко поносит, а Дежнев терпит. Евсейка Павлов отшатнулся от него с шумом и с неприязнью, а он терпит. Расселил всех новоприбылых по избам, выделил места для припасу, указал на два кочика готовых. Вот, дескать, Юшко, стоят на берегу два готовых кочика на деревянных городках. У тебя людей много. Весной просмолите лиственничной смолой. Как сойдет лед, вместе поплывем рыбий зуб брать.
Гришка не понимал.
Ну, как так? Зачем дал кочики Двинянину? Почему не обрывает поносные речи? Известно, в характере Дежнева – все решать миром, но люди устали. У них запас мал, немногая часть порохового зелья от сырости стулом села. Вместо мыла варят сайпу – ворвань с золой.
Вздрогнул.
Легок на помине.
Дежнев, без шапки, с русой, как бы прилипшей ко лбу светлой прядью, с лицом желтоватым, морщинистым, как лахтачья кожа, со впалыми щеками, вынырнул из тьмы неслышно. Сразу выдвинулся из тьмы коричневый олешек, скромно уткнул рыло в снег, смотрел снизу вверх: может, помочиться вышли люди?
– Что слышал?
Гришка усмехнулся:
– Двинянина.
– Невежлив?
– Считает тебя самочинным прикащиком. Всяко поносит. А ты зачем кочики ему дал?
– А как он зуб рыбий доставит с корги?
– Твоя корга. Лучший зуб ты должен взять.
– Корга моя, – подтвердил Дежнев. – Но удержать Юшку у меня сил нет. Не забывай, что многие люди польстились на его слова. Сам колеблешься. Юшка многих смутил прельстительными словами.
Вздохнул:
– Жаль, Энканчан замерз.
– Да чего дался тебе незамиренный князец? Может, это хорошо, что он умер. Можно не опасаться. И с Юшкой ты зря. Он от добра наглеет. Весь лучший зуб заберет.
– Все равно в казну.
– Да он же пишет изветы на тебя! Будто не знаешь?
– Я оправдаюсь. Специальных людей пошлю в Якуцк.
– Кого?
– Да хоть тебя.
– Ты что? – по-настоящему испугался Лоскут. – Мне нельзя. На меня в Якуцке крикнуто государево слово.
– Понадобится, пойдешь.
– Я тебе на Погыче нужен.
Помолчали.
– Семейка.
– Ну?
– Что о будущем думаешь?
– Всякое думаю.
– Семейка!
– Ну?
– А если Юшка отберет аманата? Если посадит одноглазого Чекчоя в свою казенку и родимцы ясак понесут Юшке? Жалко будет?
– Жалко, – согласился Дежнев.
Тявкнула вдалеке лиса, а может, лед на реке крошился.
Ночью звук таинствен, не всегда угадаешь, откуда пал? Согреваясь, Дежнев тяжело топтался на месте, хлопал варегами по бокам:
– Я вижу, Лоскут, ты ко всему присматриваешься. Но ты об увиденном не просто про себя думай, ты вслух говори. Я не аптах, не волшебник, не умею чужие мысли ловить, мне сказанные слова важны.
– О чем ты?
– О будущем.
– Это как?
– А то не знаешь? Думал ведь, – упрекнул прикащик. – Ты так думал, что уйдет Юшка, нам не усидеть на реке. Да? Всех зарежут дикующие, всех спицами переколют. А если уходя, Юшка еще и ударит по стойбищам, как Стадухин, то вообще тогда. Придут обиженные анаулы, явятся ходынцы, спустятся с гор сердитые коряки. Им ведь все одно, кто их обижает – Стадухин, Юшко или Семейка.
Гришка подозрительно глянул на Дежнева.
Ужасные вещи говорил Семейка, но говорил рассудительно, не впадая в горячность.
– Так что, Гришка, не мудрствуй. Просто служи. Неси дозоры, поглядывай за аманатом. Не сумел сохранить Кивающего, хоть Чекчоя сохрани. Положи пищаль перед собой, чтобы все видели, что ты к смерти готов. Ни Юшка, ни дикующие не должны забрать князца. Понимаешь?
Глава VI. На море и на суше
Ночь.
Глухо.
Дежнев никак не мог уснуть.
Далек Нижний острожек. Якуцк еще дальше.
А здесь сендуха. Летом – болотная, мокрая, укрыта мхом. Зимой – лед рвет течением, ходит над рекой эхо. Обидно. Прав Лоскут. Вот Юшко пришел и поносит всяко, считает кopгу своей. А где, в каком сне мог увидеть? Многие искали богатое место. И с моря, и с суши искали, но первым пришел я. Мало ли, что начинал Мишка Стадухин. Это он так считает, что везде первый. Было, стучал кулаком в грудь: «Помните, заворовал в Якуцком острожке сын боярский Парфен Федоров? Тот негодный Парфен всех заморил голодом, но разве Семейка первым крикнул Парфену: „Кажи анбары!“? Да нет! Я крикнул! А жиган Анкудинов поддержал, ндрав такой. А когда сын боярский появился на крыльце с заряженной пищалью и грозно крикнул: „Ну, стрелять буду в первого, кто пойдет к анбарам!“ – разве Семейка первым смело кинулся на Парфена?»
Ладно.
Стадухин.
У него рука, бессонно ворочался Дежнев под заячьим одеялком. Еще с Парфеном Ходыревым приводил на Лене якутов под высокую царскую руку. В выжженном морозами Оймяконе собирал ясак с одулов. Первый принес весть о реке Ковыме, лежащей к восходу. Так сказал у костра Дежневу (на Оймякон вместе ходили): «Вот, чувствую, Ковыма – совсем моя река. Чувствую, первым приду на Ковыму». Потом поймал бабу по имени Калиба, она оказалась смышленой. За похлебку многое рассказала. Следуя указаниям Калибы, Стадухин неспокойным морем добрался до Ковымы. Трижды ранен был одульскими стрелами – в грудь, потом в плечо, в голову. Вернувшись с Ковымы, в пространном расспросе, учиненном приказным Якуцкого острога, уверенно указал, что восточнее новой реки живут иноземцы чюхчи. А в море имеется остров, протянувшийся вдоль берега. Чюхчи специальный род зимой переезжают по льду на остров и бодро колют морского зверя моржа особенными копьями-спицами. Головы зверей везут в стойбища на материк, там шумно поклоняются. При этом веселые шаманы бьют в бубен, необычно прыгают у костров. А от новоприбылой Ковымы до Погычи, если под парусом, да в хорошую погоду, ходу всего трое суток, ну, может, немногим более.
Ворочался под заячьим одеялком.
Груб Стадухин. Что для него Семейка Дежнев? Голь. А сам – родной племяш богатых торговых гостей Гусельниковых. Казачий пятидесятник. За многие службы метит в атаманы. В Якуцке вровень с собой ставит только письменного голову Василия Пояркова.
Не спал.
Ворочался.
Было как-то, что на Тотьме, в Устюге Великом, в Вологде, в Сольвычегодске собирали охочих людей на дальние службы. А еще девок собирали в жены сибирским пашенным и служилым. Желающих пойти в сторону Сибири набралось много. Кто бежал от постоянной, никогда не утихающей войны на западных границах, кто просто искал удачу. Слышали смутно, что Сибирь – край земли, холодно там под низким небом, но разве сама Русь край не мрачный? Вон у селян русской деревни Осиновской местный монастырь именем Черногорский отнял землю. Всего-то неширокая речка Сояла, маленькие лужки на выпасы, а как жить без этого? Тут сравнишь с Сибирью. Да еще отца Семейкиного побили в московском погроме. Да родного дядю жестоко сжег вместе с лодкой бородатый кормщик Ене Мунк, приказом датского короля Христиана ходивший корсаром по морским путям, ведущим к северу варварского русского государства.
Ну, правда, как жить?
Вековечно над русскими берегами несло палёным.
Семейка с детства знал многое. Ходил пеше, ходил морем. На простой лодке без паруса заплывал так далеко, что из-за низких волн не видел берега. Правда, не был драчлив. Этого точно не было. Другой, не думая, пустит в ход кулаки, вопьется зубами в горло, ногами станет топтать. А Семейка – нет, он в драку не кинется. Он сперва долго убеждать будет.
В Сибирь сшел охотно.
Слышал: в Сибири воля, делай, что хочешь. Как Ярофейка Хабаров, торговый человек, ставь деревянные варницы, богатей на белой соли, которая всем нужна. Как тобольский пеший казак Иван Ребров, промышляй в лесах доброго пушного зверя. Или вообще, как жиган Гераська Анкудинов. Нигде не записано, что ты не должен свободно жить.
Но Гераську невзлюбил сразу.
Анкудинов оказался видом черен, телом и голосом изворотлив, левая щека дергалась. Волос, как вороново крыло. Лоб рябой, как дробью, побит оспинами. Все знают – беглый, а держался гоголем. И никак его не прижмешь, никогда не ходил в одиночку, всегда рядом его люди. Тоже наглые, всегда при сабельках. Не зря, наверное, шептались в кружалах, что это Гераськины люди на реке Большой собачьей обчистили до чиста торговых гостей Андрюшку Дубова да Алешку Ермолина. Шептались, что на морских путях этот черный жиган многих перещупал, как ненасытный кормщик Ене Мунк. И не попался ни разу, хорошо знал кормчее дело.
Еще долгов Гераська никому не возвращал.
Дежнев однажды выложил черному двенадцать рублев да десять алтын да полуполтину. Где теперь те деньги?
Обида.
В Тобольске нес гарнизонную службу.
Там же бил челом об отпуске в Сибирь племянника Ивашки из Устюга Великого, а то «… ни в тегле, ни в посаде – скитаетца меж дворов с женою своей Татьянкою». Охранял государеву казну, переругивался со стрельцами, поглядывавшими на казаков свысока: имели лучшее снаряжение и припас. Впрочем, секирой в походе не помашешь, и красивый кафтан тоже не спасет от стрелы. Дежнев сдружился со стрельцами. Потом сдружился и с басурманами, как называли в Тобольске татар. По этой причине взвешивали Дежневу на базаре больше рыбы или пожирней кусок, чем кому другому.
Тобольск.
Потом Енисейск, Якуцк.
Потом обширная река Яна. Студеные воды Оймякона.
Наконец, Большая собачья, где течение крутит, как мельничные колеса.
Долог получился путь от Устюга Великого до новой реки Погычи. Много стоптано сапогов. В Якуцке внимательно прислушивался к казакам, сам придумал: построить судно и под парусом, выйдя из Ленского устья, плыть в правую сторону на восток – за холодную Алазею, за Ковыму.
В сто пятьдесят пятом году в Нижнем подружился с торговым человеком Федотом Алексеевым, Поповым, прозванным Холмогорцем. Пришел Федот в Сибирь прямо из Холмогор с племяшом Омелькой Стефановым. Уверенный. Лицо побито оспой. Кто тогда не болел? А по левой щеке – шрам. Правда, не одульская стрела оставила след, а подрался с расшалившимися промышленниками, требовавшими скинуть цену на пороховое зелье.
Служил Федот у братьев Усовых.
Эти знали размах. Кипучие, как самовары. Торговали в Мангазее, освещенной пазорями, в снежном Енисейске, в пыльном Илимске, в холодном Якуцке, на прозрачной реке Селенге, даже ходили караваном в далекий Нерчинск, даже в Китай, где небо желтое, а по земле несет желтую пыль. Теперь решили испытать север. Послали Федота в сибирские города, с ним устюжанина Луку Сиверова. Выдали товару на три с половиной тыщи, богатый товар. Только Лука, заболев, на Ленском волоке постригся в монахи.
В Нижнем Федот хмурился. Оттопыривал губу, гладил ладонью бороду, отдувал рыжеватый волос. Жаловался: привез сукна и холст, шила и иглы, сапоги, колокольцы, хлебный запас, одекуй, топоры, медь в котлах, да вот припоздал малость. Незадолго до Федота пришли в Нижний богатые торговые гости Светешниковы, а с ними Баевы и Ревякины. А еще раньше расторговался на весь край московский торговый гость Гусельников.
Дежнев подсказал Федоту: есть река Погыча.
Совсем новая река. Если доставить туда товары, вернешься с мяхкой рухлядью и с рыбьим зубом. Конечно, лежит та река вовсе не в трех сутках морского ходу под парусом, как утверждал Стадухин, и даже не в пяти, зато всем богата, и красная рыба по ней идет. А иноземцы известно, за жестяной колокольчик, за малую горстку синего одекуя дают по мешку мяхкой рухляди.
Федот хмурился, но думал.
Расспрашивал, уточнял мелочи, составлял чертежики.
Для начала отправился все же на Оленек. Но там эвенки встретили русских неприязненно. Кто-то, оказывается, уже торговал с дикующими: сильно они сердились при виде русских, сразу пускали стрелы. Вернувшись в Нижний, Федот вновь взялся за расспросы. Так вроде получалось, что до новой реки Погычи проще добраться морем, если, конечно, обойти Необходимый нос. А он далеко выступает в море. На высоких камнях сидят строгие чюхчи с копьями. А над ними туман, а внизу волны – мертвая зыбь.
Федот хмурился.