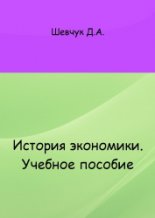Дзэн самурая Маслов Алексей
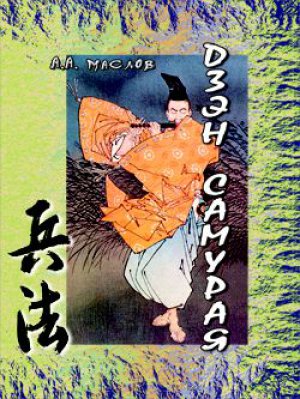
Маслов Алексей Александрович – профессор истории, доктор исторических наук, Академик РАЕН. Родился в Москве в 1964 г. Окончил Институт Стран Азии и Африки при МГУ. Заведующий кафедрой Всеобщей истории Российского Университета Дружбы Народов, профессор нескольких зарубежных университетов. Автор и ведущий нескольких телевизионных передач, в том числе «Тайны тибетских мастеров» на канале «Рамблер-ТВ». Много лет ведет исследования в Китае, Тибете и других регионах мира. Автор ряда книг на русском и иностранных языках по истории и духовным традициям Востока.
Посвящение в воины
…Пламя свечи задрожало, готовое вот-вот погаснуть, что это – порыв ветра? Но двери в кумирню плотно претворены, да и бумажки, что окружают статуи Будды и божества Фудо Миё на алтаре и на которых написаны священные формулы, даже не колеблются. Нет, это не ветер. Это духи, это они не желают принять в свое лоно вновь обращенного воина.
Здесь, в пустынной кумирне на вершине горы два человека – наставник боевых искусств и его ученик испрашивают у духов. В этом священном месте учитель передал ученику магические приемы, которые позволяют приобщаться к тайному миру, откуда он может черпать неимоверную силу и мощь всей Вселенной, теперь посвящаемый знает и особые методы переплетения пальцев, замыкающие токи энергии внутри тела и священные формулы-мантры. За спиной ученика долгие годы тренировок в боевых искусствах, знание сотен хитроумных методов боя и тайных методы нападения. Но этого мало – сейчас он узнал тайные знаки и формулы, благодаря которым Небо может даровать ему высшее мастерство, и теперь духи должны принять будущего воина в свое лоно.
Но, кажется, они не хотят этого делать. Свечи на алтаре – это жизнь человека, а их пламя все скудеет и скудеет, тени все ближе обступают двух человек, застывших в узком пространстве кумирни, наползают на посвящаемого, согнувшегося в молитвенном поклоне на коленях перед алтарем. Как только эти тени настигнут его, как погаснут свечи духи отвернуться от него – он умрет.
Может быть прервать посвящение, вернуться туда, в долину, где поют ручьи и стрекочут цикады, где радость жизни наполняет каждую клеточку твоего организма? Но он уже прошел часть инициации, он уже прикоснулся к той мистической тайне, которая открыта только великим посвященным, и значит, если духи не примут его, неофита прийдется заколоть здесь же у алтаря узким длинным кинжалом, который всегда находится у “учителя, вводящего во врата” под рукой. А может быть он умрет сам – сколько раз бывало, когда во время церемонии по телу посвящаемого начинала пробегать дрожь, глаза расширялись от ужаса, он силился что-то сказать, но из его губ вырывались какие-то несвязные звуки. Потом он страшно кричал, падал, и несколько раз дернувшись, затихал. Посвящаемый умирал здесь же у алтаря, и никто, даже учителя не могли сказать, что произошло. Да и кто может постичь деяния духов? Почему они принимают одних и отвергают других? Почему здесь у алтаря они делают слабого – сильным и вдруг отбирают мужество у отважных? Путь воина – это всегда путь смерти. У того, кто вступает в мир духов, немного путей. Одному нравится то, что они даруют силу, власть, сверхъестественное могущество разума – эти становятся пленниками духов и мало кто может представить, сколь страшную плату им придется воздать им. Им кажется, что они используют силу духов, но это не так, это духи пользуются людьми, и обмануть их невозможно, они сами обманут тебя. Другие просто погибают, угасая столь стремительно, что помочь им невозможно – можно сказать, что этим еще повезло, расплата наступила быстрая и безболезненная. Но есть и третьи – они проходят сквозь мир духов, одолевают их силой того, кто стоит над ними. Эти и становятся великими воинами и мудрецами.
А пламя свеч дрожало все сильнее, тело посвящаемого начало дергаться, у губ появилась пена, кулаки судорожно сжимались и разжимались. Глаза были открыты, но, казалось, смотрели куда-то внутрь. В них был ужас перед развернувшейся бездной.
Внезапно, словно кто-то дунул на свечи – две из них погасли, а пламя третье уменьшилось до того, что в кумирне воцарился мрак. Человек у алтаря страшно закричал и упал ничком, лицо его исказилось гримасой страдания и ужаса. «Может быть дух Фудо уже ударил его своим невидимым мечом?», – пронеслось в голове учителя. Он занес в руке короткий меч – духи явно не приняли ученика к себе, а ведь в этом и заключен мистический смысл всей церемонии инициации. И миссия учителя – решительно отказаться от недостойного ученика, и только смерть может быть единственным истинным подтверждением такого отказа. Но он все еще колебался – а вдруг духи изменять сое решение, вдруг они еще ведут ученика по пути мучений, боли и страданий, испытывают его страстями и искушают богатством. И тогда удар его меча окажется вопреки решению духов, а значит и он сам умрет. Но две свечи были уже мертвы, а третья готова была вот-вот угаснуть, унеся с собой остатки жизни ученика. Жаль, в учении он был лучшим, всегда казался терпеливым и мужественным. Может быть именно поэтому духи устроили ему такое страшное испытание? Кто не знает, что за маской мужества и силы может крыться мелкая душонка себялюба, труса и предателя.
Но все, время истекло, кажется, пора приводить приговор духов в исполнение. Истинный наставник должен быть безжалостным к своим ученикам, и быть может это – высшая форма проявления любви. Слабые, жестокие и себялюбивые не нужны боевым искусствам, они лишь принесут вред другим людям. Наставник занес клинок над шеей скорчившегося ничком ученика. Воин велик именно тем, что все делает вовремя. Он знает, когда надо жить и когда надо умереть, и меч учителя сейчас опуститься на шею ученика. Жестокость равная любви…
А может быть духи потребуют, чтобы вслед за учеником последовал и сам учитель, ведь это его ошибка – привести неподготовленного человека на посвящение в воины. И тогда наставник, воспитавший немало блестящих бойцов, не раздумывая, вскроет себе живот.
Но внезапно лицо ученика приобрело выражение решимости и мужества, оно стало жестким, страх ушел из его сердца. Он боролся, он не хотел поддаваться даже всесильным духам! Его тело выпрямилось и он вновь стал на колени, но теперь в молитвенном наклоне головы была видна воля истинного воина. И вновь по кумирне пробежал странный ветерок и… все три свечи запылали! Стало нестерпимо жарко и яркий, невероятно яркий свет озарил старые стены. Он шел отовсюду – от мшистого пола, от закопченного Будды на алтаре, он струился от головы ученика. Уже не первый раз старый учитель видел это превращение, этот духовный свет, и всякий раз ему становилось страшно и торжественно одновременно – к этому привыкнуть было невозможно.
На лице посвященного блуждала странная улыбка, полная блаженства и покоя. В мир пришел новый Воин.[1]
«Душа Японии»
Война в одиночку
В начале 70-х годов страницы газет заполнили удивительные сообщения. В джунглях Лубанга на Филиппинах обнаружен лейтенант японской императорской армии Онода Хиро, которого все считали погибшим. Небольшая группа Оноды была заслана сюда во время Второй мировой войны для организации диверсий против американских солдат. Товарищи Оноды погибли – были убиты или умерли от голода, и Онода, имевший специальную подготовку, в том числе и психологическую, сражался один, считая, что война продолжается, и веря в победу Японии. Когда Оноду посылали в Лубанг, он получил приказ ни при каких условиях не сдаваться в плен и любым способом сохранить свою жизнь для выполнения задания. Поэтому он не вышел из джунглей, даже когда к нему через мегафон обратилась мать. Ему зачитали указ императора о капитуляции Японии в войне – Онода счёл это провокацией, ибо великий император не может обречь страну на позор. Ему сбрасывали с вертолёта журналы с фотографиями современного процветающего Токио – Онода делал вывод, что раз город так изменился, значит, война идёт в пользу Японии.
Наконец в 1974 г. был найден бывший командир Оноды. Уже старый человек, он приехал на Филиппины, чтобы лично отдать Оноде приказ закончить 30-летнюю войну. Лишь его приказу подчинился Онода, истинный носитель самурайского духа.
Мы не случайно рассказали эту историю. Именно здесь, в самурайской культуре, в особой системе воспитания человека-воина берут начало все виды японских боевых искусств, будь то дзю-дзю-цу, дзюдо, каратэ или айкидо. А это значит, что книгу о них надо начинать с самурайской древности.
Самурайские истоки боевых искусств
История Оноды может показаться фантастической европейцу или американцу, но только не японцу. Для японца в ней нет ничего необычного – это вполне традиционное проявление особого самурайского духа, который прививается с детства.
В переводе с японского «самурай» означает «воин» или «человек, занимающийся боевым искусством». Именно это слово стало привычным для европейца. Но в Японии те же иероглифы читают иначе – «буси». Никакого дополнительного оттенка слово «самурай» (буси) не несёт, оно просто обозначает человека, который профессионально занимается воинскими искусствами или принадлежит к воинской среде. (Последнее я подчёркиваю особо, поскольку с XVIII в. многие потомственные воины вообще не занимались боевыми тренировками, носили меч лишь по традиции и всё своё время посвящали развлечениям и изящным искусствам.) Самураев объединяла не только принадлежность к ратному делу, но и особая идеология, которая в свою очередь диктовала определённый тип поведения: преданность господину, верность слову, презрение к смерти, беззаветное служение интересам своего государства или клана. Всё это в совокупности стало называться Бусидо – «Путь воина».
Самураев называют «душой Японии». Ничто, наверное, не повлияло на японскую культуру и тем более на культуру боевых искусств так сильно, как самурайский дух. Чтобы постичь его, чтобы понять истоки дзюдо, каратэ и прочих современных боевых дисциплин, нам предстоит прежде всего углубиться в историю и культуру японских самураев.
Зачем? Не проще ли лишь описать методы воинской подготовки и хитроумные приёмчики, начиная от самурайских искусств и кончая каратэ? Но в этом случае вряд ли удастся понять, на наш взгляд, странное поведение многих незаурядных личностей, прославивших японские боевые искусства. Почему, например, знаменитые ниндзя, придерживаясь самурайского кодекса чести – а большинство из них и принадлежали к самураям, – были в основном наёмниками, выполнявшими самые тёмные дела, в том числе убийства? Почему «отец каратэ» Фунакоси Ги-тин, неизменно подчёркивавший свою приверженность духу предков, сломал традицию, которая существовала до него, и почему он бросил на произвол судьбы свою семью?
Какой же он – классический японский самурай? Мы сразу представляем себе благородного, немногословного воина. Он неизменно следует кодексу воинской чести Бусидо – вежлив, дисциплинирован, предан своему господину и милосерден к побеждённым. Самурай никогда не нападает со спины, заранее предупреждает противника о своём желании вступить с ним в бой и даже даёт время подготовиться к поединку. Измену и предательство он считает величайшим и позорнейшим преступлением. В обыденной жизни строго следует установленным ритуалам. В перерывах между воинскими тренировками и битвами самурай не прочь заняться стихосложением и живописью, любит предаваться философским рассуждениям. И вообще он не только храбрый воин, но и духовно развитый, утончённый человек. Такой или приблизительно такой стереотип мы без труда обнаружим почти во всех кинофильмах о самураях и в книгах, посвящённых японским боевым искусствам. Именно ему подражают сегодня многие последователи каратэ, айкидо и других боевых искусств.
Такуан Сохо (1573–1645) знаменитый дзэнский монах из храма Дайтокудзи. Преподавал дзэнское учение и чайную церемонию мастеру меча Миямото Мусаси, а также был наставником императора Го-Мидзуно и другом сёгу-на Токугавы Иэмицу
Идеальный образ самурая возник не случайно – его тщательно лепила сама японская культура. Но, как известно, культура не всегда способна адекватно отразить действительность. Самурайская реальность существенно отличается от наших представлений о ней. Воины сплошь и рядом были вероломны, легко нарушали данное слово, предавали своих господ, убивали из-за угла, были откровенно жестоки, а многие к тому же и не столь образованны. Образ благородного воина, созданный традицией японских боевых искусств, резко отличался от существовавшего на самом деле.
Итак, самурайская культура оказывается более сложной и неоднозначной, чем может показаться на первый взгляд. Следовательно, эту неоднозначность и «неидеальность» нам предстоит обнаружить в японских боевых искусствах, как древних, так и современных.
Предшественники самураев
Когда же началась собственно японская традиция боевых искусств? Где её истоки? Японская воинская культура моложе китайской почти на тысячелетие. В то время как в Китае регулярно проводились экзамены по ушу среди чиновничества, существовали десятки школ боя с оружием, которого насчитывалось свыше сотни разновидностей, в Японии только-только начинали формироваться основы регулярной воинской подготовки. И естественно, многое в практике японских воинов было скопировано с китайских образцов, в основном VI–VII вв. Так появляются ранние японские методы упорядоченной боевой тренировки и первые армейские кодексы. Собственно, ещё до письменной фиксации таких законов существовали их прообразы – устные уложения, племенные заповеди, правила воинской морали. Но уже в VII в. в государстве Ямато составляются два сборника законов – «Омирё» (668 г.) и «Киё-мигахарарё» (682 г.). История не донесла их до нас, они были уничтожены временем. Зато сохранился другой документ, именуемый «Свод законов Тайхо» («Тайхо ёрё рё» или «Тайхорё»), опубликованный в 702 г., где немало внимания уделено предмету, весьма актуальному для той эпохи, – воинской подготовке. В основе этого сборника – несколько сводов законов, пришедших из Китая, в частности «Тан лин» – «Административный кодекс династии Тан». Таким образом, даже истоки законодательных актов Японии находились в Поднебесной империи.
Кем же были предшественники знаменитых самураев? В подавляющем большинстве простолюдинами, одинаково хорошо владевшими и мотыгой, и дешёвым мечом, а то и просто заострённой палкой, которой они пользовались для защиты своих поселений. Один из самых первых письменных законов Японии «Манифест Тайка» (646 г.) предписывал каждому военнообязанному вносить в казну меч, латы, лук со стрелами, боевой флажок и малый барабан [23]. По-видимому, всё это хранили на особых складах и раздавали с началом боевых действий. Позже стала формироваться профессиональная армия, и как логическое завершение этого процесса через несколько столетий сложился класс самураев.
Дисциплина в древней армии была на удивление жёсткой и досконально разработанной. Уже тогда складывается специфический подход к военной службе как к особому почётному долгу.
Тот, кто попадал в столицу, служил всего лишь год. Таких столичных солдат называли вэйси, т. е. «дворцовые стражи», и они несли службу по охране дворцовой территории. Значительно сложнее приходилось тем, кого направляли в пограничные войска (бодзин): там солдаты находились три года, причём проезд до места назначения в срок службы не засчитывался, хотя поездка в дальние гарнизоны, например, на острове Кюсю порой занимала несколько месяцев. Правда, из отдалённых районов в армию старались не призывать, к тому же при наборе следовали правилу: от одного двора из трёх взрослых мужчин после 21 года в войска брали лишь одного, чтобы не разорять сельское хозяйство.
Воинов делили на пятёрки (го) и полусотни (тай). Тех, кто владел искусством стрельбы из лука и верховой езды, брали в кавалерийские части, остальные становились обычными пешими воинами. Смешивать конников и пеших в составе одной части запрещалось. Существовали ещё и особые отряды, например снайперов-стрелков из больших луков (досю).
Особое положение занимали царские гвардейцы (хёнэй) и стражи внутри дворца (тонэри). Когда кандидаты в гвардейцы прибывали в столицу, сначала проводилась тщательная проверка их документов, устанавливалась личность – среди приближённых к высочайшей особе не должно оказаться предателей. Рядом с правителем находились наиболее преданные и умелые воины – его личная охрана (удонэри).
Стражники охраняли ворота, склады и арсеналы, следили за тем, чтобы не выбрасывали и не сжигали зловонные предметы, проверяли путь императорских выездов. Правитель жил в постоянном страхе перед покушением и заговором со стороны своих же ближайших подданных. На территорию дворца пройти было непросто. Всех служащих и чиновников, включая самых высокопоставленных, вносили в специальные списки, которые находились при входе во дворец. И если имени министра или его помощников в таких списках не оказывалось, то для них возможность пройти к правителю сводилась к нулю. Даже на слуг и мастеровых, что работали на территории дворца, составлялись такие списки; они утверждались министерством центральных дел и передавались в штаб охраны дворца. Особо следили за большими группами свыше пятидесяти человек – ведь это вполне могли быть заговорщики. Поэтому о них всегда докладывали правителю [25]. На территорию дворца нельзя было проносить без особого разрешения больше десяти комплектов боевого или церемониального оружия.
Экипировка рядового воина также строго регламентировалась. Обычно он был вооружён двумя мечами – большим и малым, луком с пятьюдесятью стрелами. Помимо этого воин, следуя закону Гумборё («О военной обороне», VIII в.), обязан был иметь при себе точильный брусок для мечей, мешочки для тетивы, сухой рис, флягу для воды, солонку, запасную тетиву и пару соломенных сандалий (варадзи).
В походе воины были скромны и непривередливы. На десять воинов приходилась простая подстилка (конфумаку) для отдыха, медные сковородки, котелки и ещё масса подручных средств: топоры, ручные пилы, долота, труты и огнива для разведения костров. Брать в походы женщин (как жен, так и наложниц) строго запрещалось.
Именно эти люди, одетые в соломенные сандалии и обмотки (хабаки), превратились через несколько веков в грозных и гордых самураев, создавших свою неповторимую культуру.
Самураи выходят на арену истории
Когда же появились в Японии самураи, известные сегодня как великие воины? Отдельное воинское сословие самураев начало складываться приблизительно к VIII в. В отличие от кугэ – родовых аристократов, стоявших в то время у кормила власти в Японии, первые самураи не были образованными людьми. Подавляющее большинство не умело ни читать, ни писать. Их трудно даже назвать профессиональными воинами; в основном это были рекруты, отряды которых дислоцировались на востоке и северо-востоке страны для борьбы с местными племенами айнов. Нередко к ним присоединялись беглые крестьяне и даже разбойники. Нравы были просты и жестоки: выживал тот, кто лучше других умел держать в руках меч. В таких отрядах господствовало не уважение к «голубой крови» и древности рода, как у аристократов-кугэ, а принцип сильнейшего.
За охрану границ и военные подвиги им жаловали небольшие земельные наделы (лены), которые позже стали основой огромных самурайских владений. Никакой политической или культурной роли эти люди долгое время не играли – разве могут повлиять на цивилизацию, погружённую в конфуцианские, буддийские и синтоистские ритуалы, разрозненные группы вооружённых плохо образованных людей? Оказалось, могут – но сначала самураям пришлось доказать свою жизненную необходимость для Японии во время кровопролитных войн Х-ХII вв., когда их стали нанимать различные аристократические дома для выяснения отношений между собой.
К ХII в. вся политическая история Японии начинает определяться противостоянием двух крупнейших аристократических кланов – Минамото и Тайра. Связанные с этим события настолько потрясли жизнь страны, что о них слагались эпические повествования, особые «военные романы» – гунки. Дом Тайра долгое время фактически правил всей Японией, и его история превратилась в сознании последующих поколений самураев в грандиозную драму. Род Тайра принадлежал к высшей аристократии Японии и генетически по боковой линии восходил к принцу Камму (782–805 гг.). Тайра прославились как замечательные воины, которые не жалели ни своих, ни чужих ради исполнения долга; не случайно их образы всегда связывались с исполнением законов Бусидо. Например, в Х в. один из представителей рода Тайра – Масакадо, стремясь самостоятельно занять трон, сформировал дружину из необузданных, неорганизованных воинов, покорил всю восточную часть Японии – область Канто – и поднял мятеж против западных областей, на которые простиралась власть рода Фудзивара. Он уже заранее провозгласил себя правителем страны Ямато. Душе воина была непереносима утончённая манерность периода Хэйан (898-1185 гг.) и его правителей из рода Фудзивара. Но мятеж Масакадо был разгромлен другим представителем клана Тайра – Садамори, который тем самым проявил полную лояльность к правящей династии.
Самураи Кумагаи Таодзанэ и Хираяма Суэсигэ атакуют замок Итино-тани, принадлежащий клану Тайра в 1184 г., однако атака была отбита. 1656 г. (по С. Тернболу)
В 1181 г. умер глава Тайра – Киэмори, – и клан, лишившись вождя, быстро утратил свой авторитет. Дружина Минамото, напротив, крепла, и именно она стала основой будущего самурайского корпуса Японии. Много лет между Минамото и Тайра длилась изнуряющая война, получившая название «Гэмпэй». Наконец воины Минамото подошли к столице страны, и вожди Тайра в 1182 г. бежали из Киото. В 1186 г. этот клан был окончательно разбит.
Победителем вышел род Минамото, во главе которого стоял блестящий воин и хитроумный стратег Минамото Ёритомо. В 1192 г. он принял в городе Камакура титул сёгуна, т. е. военного правителя, и, таким образом, стал полновластным военным лидером Японии.
Минамото смогли лучше, нежели Тайра, организовать самураев, пообещать им больше наград и земель. По логике вещей симпатии самураев должны были оказаться на стороне Минамото. Но нет. Как только величие Тайра превратилось «в предутреннюю дымку», самураи горестно преклонили колени перед образом главы дома Тайра – великого Киэмори (1118–1181 гг.) – человека, чьи поступки, с нашей точки зрения, были далеко не всегда благородны. Как нам ещё предстоит убедиться, самурайская мораль – явление особого порядка, и именно личность этого великого воина привлекает внимание самураев многих последующих поколений.
Да, дом Тайра проиграл войну, да, он растоптан боевыми конями Минамото. Но сам деспот и диктатор Киэмори не проиграл ни одного сражения, а крушение некогда великого клана – не символ ли это мимолётности славы и удачи, да и всей нашей жизни? Киэмори был фактически правителем всей Японии во второй половине 70-х – начале 80-х годов ХII в. По его приказу сам император покорно сменил свою резиденцию, столицей был объявлен город Фукухара, а затем своевольный Киэмори лишь по одной своей прихоти вновь возвратил столицу в Киото. Этому человеку безропотно подчинялись и воины, и аристократы. Он – воплощённая необузданная сила, идеал самурая. Не случайно в «Повести о доме Тайра» говорится:
- Гордые – недолговечны,
- Они подобны сновидению
- весенней ночью.
- Могучие в конце концов погибнут,
- Они подобны лишь пылинке
- перед ликом ветра.
Такова суть едва ли не всей эстетики самурайского взгляда на мир: быть непобедимым, мужественным и гордым, покорить много княжеств и всё же уйти бесследно в небытие – ничто не удержит даже самого великого воина в этом суетном мире.
Киэмори стал воплощеним самурайского идеала. Он воевал и наслаждался поэзией, был неудержим в битвах и непобедим в поединках, он испытал любовь сотен женщин и страдал от разлуки с любимой. Он сочетал в себе два на первый взгляд противоречивых начала – монаха и воина. Однажды он тяжело заболел и, желая получить божественное исцеление, постригся в монахи, оставаясь при этом фактическим правителем Японии и безжалостным воителем.
Киэмори умирал страшно – кажется, сами духи решили наказать его за дерзость и неудержимую гордыню. Этот отважный воин тяжко мучился от нестерпимого жара, его даже поливали холодной водой, но, как гласит предание, струи, попадая на тело, тотчас испарялись, а весь дворец наполнялся удушливым чёрным дымом.
Было бы преувеличением считать, что именно такая смерть – цель каждого самурая. Но тем не менее она содержит все компоненты идеального ухода воина из жизни. Какие последние слова произносит Киэмори. Просит прощения, раскаивается? Может быть, как буддийский монах вспоминает о Будде? Нет. Вот его завещание: «После моей смерти не надо никаких панихид! Не нужно ни храмов строить, ни часовен! Но сейчас же отправьте войска в Камакуру, отрежьте голову у Ёритомо и повесьте её на моей могиле! Таково моё желание!» Что ж, желание мало подходящее смиренному монаху, но вполне достойное самурая. Не случайно считалось, что самурай даже умирает непобеждённым. Именно эта черта – потенциальная непобедимость, воля к продолжению боя даже после смерти – как бы обожествляла персону самурая в глазах простых смертных, заставляя простить ему все грехи и злодеяния.
Уход Киэмори из жизни превратился в символ некоей вселенской катастрофы. После его смерти лидеры клана Тайра подожгли построенный Киэмори величественный дворец в Фукухаре с его роскошными покоями, десятками павильонов и прекрасными садами. Логика этого действия ясна: из жизни ушёл мистический лидер, никто больше не сравнится с ним, никто даже не имеет морального права жить в его дворце. Интересно, что дальнейший крах клана Тайра, поражения искусных воинов в битвах с Минамото мистически связываются именно с этим событием. Клан Тайра покинул не просто гениальный военачальник, но из него ушёл сам дух войны – не случайно Киэмори часто сравнивали с покровителем воинов божеством Хатиманом. Нарушилась связь с космосом, оборвались связующие нити с миром Будды и духов, которые держал в своих руках Киэмори. А без духов разве возможна победа на поле брани? Для японца в данном случае не существует огрехов в планировании битвы или тактике боя – просто духи отвернулись от некогда славного рода.
Поэтому флот Тайра проиграл морское сражение против Минамото, а восьмилетний наследник-император, как то предписывал ритуал, покончил жизнь самоубийством, бросившись в бушующие морские волны. Род Тайра сходит с подмостков истории, чтобы навсегда остаться в умах самураев символом мимолётности славы и величия в этом мире.
Первые испытания самурайского духа
Новые правители Японии были истинными воинами, людьми, вся жизнь которых прошла либо в сражениях, либо в подготовке к ним, что и предопределило развитие страны на ближайшие полтораста лет, которые стали именоваться периодом Камакура (1185–1333 гг.).
Теперь развитие культуры и социальной жизни проходило под знаком самурайства. Новые военные правители Японии перенесли столицу в Камакуру – в то время небольшой провинциальный город на востоке Японии. Отсюда правил страной Минамото Ёритомо, всячески стремясь оградить своих воинов от разлагающей обстановки императорской столицы Киото.
Минамото создал такую систему, что благосостояние самурая находилось в прямой зависимости от уровня его воинской подготовки. Каждый умелый воин мог рассчитывать на получение земельного надела, причём надел был тем больше, чем выше мастерство воина.
Военное дело постепенно превращалось в профессию; появилось осознание того, что каждый удачный взмах мечом или бросок копья может принести небольшие, но стабильные деньги, а точнее – несколько мер риса в год. Положение самураев Минамото было ещё выгоднее – они имели земельные наделы и готовы были идти за своим господином в огонь и в воду.
Со времени прихода к власти сёгуна Минамото Ёритомо Японией стали управлять наследственные сёгунские династии. Правда, абсолютного наследования никогда не получалось: самурайские кланы постоянно враждовали между собой, и нередко титул сёгуна получали не по наследству, а в результате войн или коварных убийств, совершённых лазутчиками – ниндзя. Их искусство «тайного поединка» как нельзя лучше вписалось в эпоху.
Хотя Минамото Ёритомо и объявил себя верховным военным правителем Японии, в то время он ещё не обладал всей полнотой власти в стране – власть принадлежала правящему императорскому дому. Значительно позже император станет лишь формальным лидером страны. Пока же сёгун был просто «первым из равных» – наиболее авторитетным воином и военачальником, не более того. Вокруг сёгуна формировался его штаб, который впоследствии стал выполнять функции правительства, – бакуфу. Личное мастерство в бою здесь нередко играло едва ли не решающую роль. Первоначально понятие «бакуфу» означало всего лишь временную полевую ставку сёгуна, где находились его полководцы и советники. Но чем более усиливалась роль самураев в жизни страны, тем больше функции бакуфу начинали напоминать функции правительства.
Земли побеждённых противников Минамото были розданы его самураям, что в одночасье сделало простых воинов довольно состоятельными людьми. Однако далеко не все они умели обращаться с землёй, десятилетия сражений и походов уже отучили их от повседневной крестьянской работы, а зачастую они вообще считали её «низменным занятием». В этом состояла одна из причин будущего разорения бесстрашных воинов. В конце концов система кормления самураев с земли потерпела крах. Им стали назначать содержание, измеряемое в особых мерах риса (коку) в год. Такая система «самурайских дотаций» просуществовала вплоть до начала ХХ в.
Минамото Ёритомо (1147–1199), крупный военный лидер, разбивший клан Тайра, стал основоположником института сёгунов в Японии. Именно ему первому император присвоил титул «эйтан сёгун» – «Великий военачальник, что грозит варварам». (2-я пол. XIII в.)
После смерти Ёритомо реальная власть отнюдь не возвратилась к императору, а продолжала оставаться в руках клана Ходзё, родственного императрице. В 1205 г. был основан институт регентства, в соответствии с которым император оставался не более чем номинальным правителем Японии, подчинённым самурайскому клану. Эти события позволили ряду исследователей заметить, что сформировался особый, непрямой, скрытый тип правления, оказавшийся весьма характерным для Японии, например, когда император, уходя в монахи, продолжал активно управлять страной [144].
Воинскому мастерству нового объединённого самурайства и его боевому духу, как никогда сильному в период Камакура, суждено было подвергнуться серьёзному испытанию, которое японские воины с честью выдержали. Этим испытанием стали в 1281 г. походы монголов, которые после успешного завоевания Китая и воцарения там монгольской династии Юань решили захватить и Японские острова. На операцию были брошены силы двух армий. Первая в составе почти 50 тыс. монгольских и корейских воинов должна была переправиться из Кореи, другая в 100 тыс. китайцев двинулась с территории Южного Китая. Таким образом Япония должна была оказаться в клещах. Сначала операции сопутствовал успех, армии удачно высадились в заливе Хаката на острове Кюсю, без труда сломив не очень упорное сопротивление японцев. Но дальше положение удивительным образом начало меняться.
Используя лазутчиков-синоби (т. е. ниндзя), японские войска оказались в курсе практически всех планов захватчиков. К тому же на помощь японцам пришла сама природа – сильный шторм разметал монгольский флот, посеяв панику. Самураи же, не дав нападавшим возможности оправиться от нежданного удара, ринулись в наступление. В течение пятидесяти дней японцы очистили свою территорию, причём потери противника были чудовищны: по некоторым сведениям, они составили почти 4/5 монголо-корейско-китайских сил, хотя это может быть и преувеличением. Так или иначе, могучий отпор со стороны самураев остался в памяти народов сопредельных с Японией стран. Больше на самостоятельность Японских островов не покушался никто.
Хотя самураи происходили из неаристократической среды, уже в ранний период своего правления они стали уделять внимание искусству. Сам Минамото Ёритомо тратил немалые суммы на реставрацию храмов и синтоистских кумирен, разрушенных во время грандиозных сражений конца периода Хэйан. И всё же приход самураев к власти был значительным шагом назад в области культуры (ср. периоды Нара и Хэйан).
Самурайская иерархия
Самураями назывались совершенно разные люди: богатые и бедные, благородные воины и наёмные убийцы, люди, которые привыкли лишь командовать, и те, кто мог лишь подчиняться. Объединяло их одно – все они так или иначе были связаны с военным делом. Единство внутри «военного начала» (бу), на первых порах противостоявшего в их сознании «гражданскому началу» (бун), было скорее символическим, нежели реальным, – слишком разными были эти люди по своему достатку и статусу. Но уже сама приобщённость к чему-то, что недоступно обычному человеку, сформировала у самураев особые психологию и стиль жизни, которые они сохранили даже после того, как в результате реформ Мэйдзи в конце ХIХ в. все привилегии у самураев были отобраны.
Начиная с ХVI в. не было такой области жизни, которой бы не коснулась самурайская культура, хотя сама каста воинов составляла в Японии к ХVII в. немногим более 10 % от всего населения – приблизительно 2 млн. человек, включая членов семей [27]. Для сравнения укажем, что крестьяне во времена токугавского сёгуната (XVII в.) составляли 80–87 % [4]. Именно эти 10 % и сформировали всю средневековую цивилизацию Японии.
Самурайство никогда не было единым. И тем не менее все самураи по своему общественному положению стояли выше любого горожанина и тем более крестьянина. Долгими веками формировалась сложная самурайская иерархия, пока не достигла своего завершения к ХVII в., когда к власти в Японии пришёл сёгунский дом Токугава.
На высшей ступени самурайской иерархической лестницы находился сам сёгун со своей семьёй. По сути он был богатейшим землевладельцем и командующим крупнейшей армией, хотя под началом других высших самураев также находились немалые вооружённые отряды. Сёгуны рода Токугава с ХVII в. владели от 13 до 28 % всего дохода страны, и никто не мог соперничать с ними в богатстве. Только благодаря колоссальному состоянию и можно было поставить под своё начало большое количество воинов.
Сёгун принадлежал к высшему самурайскому слою, который назывался даймё – дословно «большие имена». Считается, что понятие «имя» (мё) в этом слове происходит от понятия мёдэн – «именные поля», т. е. наследственные владения.
Сам высший слой даймё никогда не был однороден. Наибольшей властью располагали три ветви фамилии Токугава – госанкэ, или санкэ, которые именовались по их владениям: Кии, Овари и Мито.
Именно из этих трёх кланов мог быть выбран сёгун, если прежний не оставил прямых наследников. Эти три фамилии имели свои замки, большие земельные наделы, вооружённые отряды, являясь фактически удельными князьями. Остальные же категории даймё таких возможностей были лишены. Например, представителям трёх других ветвей семьи Токугава – Таясу, Хитоцубаси и Симидзу – приходилось постоянно жить в столице сёгуната Эдо и нести службу в государственных структурах.
Ещё ниже стояли представители фудай-даймё (16 чел.) и, наконец, тодзама-даймё (86 чел.). Слой даймё, как видно, был замкнутым, количество его представителей поддерживалось практически на одном и том же уровне, что ещё больше укрепляло иерархическую структуру бакуфу. Лишь из числа даймё могли назначаться генералы и командиры воинских частей, именно им давались наиболее ответственные поручения. Правда, они же, располагая деньгами и влиянием, в ХVI в. чаще всего выступали против сёгуната, пока Токугава весьма жёсткими методами не объяснил всем категориям самураев, какое место они занимают на иерархической лестнице сёгуната. Таким образом он на несколько сотен лет успокоил страну.
Именно этой категории самураев – даймё – суждено было сыграть основную роль в истории формирования боевых искусств и воинской культуры Японии. Именно они содержали в своих замках школы боевых искусств, финансировали школы ниндзя, посылали в далёкие районы страны гонцов, чтобы разыскать наиболее искушённых инструкторов боя на мечах кэн-дзюцу.
Всего в истории Японии принято выделять четыре основные категории даймё. Первая – это сюго даймё, которую представляли провинциальные правители, первоначально назначаемые сёгуном. Но во время войн Онин (1467–1477 гг.), которые вели за власть сёгуны рода Асикага, многие сюго без особых угрызений совести изменили своему долгу и обрели известную самостоятельность. Именно эта категория даймё оказалась особенно активной в конце ХIV – ХV вв.
Другая категория представляла собой несколько меньшую, но значительно лучше организованную группу даймё так называемых «Годов Войны» (Сэнгоку-дзидай, 1450–1615 гг.). И, наконец, две последние категории – «секио» даймё периода Момояма (1573–1615 гг.) и «секио» дайме периода Эдо (1615–1867 гг.) [94].
Мелкопоместные самураи относились к более низкой категории – семё («малые имена»). За ними шли самураи, обычно не имевшие земельных владений, но подчинявшиеся непосредственно сёгуну, – хатамото и гокэнины.
Представителей даймё и семё было немного, основную же массу составляли обычные самураи, которые жили довольно бедно. Большая часть их находилась в услужении даймё, а несколько десятков тысяч – в личном подчинении сёгуна. В любом случае «независимый» самурай считался скорее нечастым исключением, нежели правилом. Все самураи, которые имели господина, получали жалованье, измеряемое в особых мерах риса – коку. Кстати, именно рисом самураи расплачивались, если нанимали ниндзя, на него же приобретали себе снаряжение, вооружение, кормили семью.
Каждый самурай был ориентирован на служение господину и выполнение по отношению к нему сложного комплекса правил поведения (гири), в частности, «долга преданности» (он). При всей своей горделивости внутренне эти воины никогда не были самостоятельными, они находились в плену сложной ритуальной действительности, которая ставила самураев именно в отношения соподчинения. Лишь имея господина, самурай обретал психологический комфорт и равновесие и испытывал страшное потрясение, когда терял его. Он становился ронином – самураем, утратившим своего господина.
Положение ронина было довольно плачевным. Своего земельного надела ронины не имели, жалованье им никто не выплачивал. При этом самураи считали ниже своего достоинства заниматься какой-либо работой и хранили себя лишь для ратных подвигов. Без войны, не имея господина, ронины жили в нищете. Не случайно, заслышав звуки боевых труб в любом княжестве, они с радостью бросались туда предлагать свои услуги. Только война давала им возможность для существования. Даймё нанимали этих умелых воинов фактически за бесценок, иногда менее чем за 30 коку риса в год, в то время как «постоянные служащие» получали от 150 до 600 коку. Но другого выхода у ронинов не было.
Несколько лучше было положение самураев, которые находились в личном подчинении сёгу-на. В основном это были люди смелые и умелые в бою, именно благодаря им сёгуны Токугава и держали в страхе многие княжества. Гвардию сё-гуна составляли хатамото; их было немного, около 5 тыс., но обучены они были значительно лучше, чем обычные самураи. Да и жалованье у них было приличным – от 500 до 10 тыс. коку риса в год, что позволяло хатамото к концу жизни скопить неплохое состояние и даже перейти в разряд семё. Когда войны в Японии стали редкостью, сёгуны не решились расстаться со своей преданной гвардией, и хатамото стали выполнять чисто административные функции.
Чуть ниже на иерархической лестнице находились гокэнины, которые также подчинялись лично сёгуну. Их насчитывалось около 15 тыс., а жалованье составляло менее 500 коку риса, что тоже считалось вполне достаточным.
Ронин – бродячий самурай, потерявший своего хозяина. Вооружён двумя мечами – тати и катаной, в правой руке – алебарда-нагината в походном положении. Небогатый наряд и отсутствие полных доспехов говорят о его крайней бедности. (Утагава Куниёси, серия «Зерцало преданных вассалов», 1857 г. Государственный Эрмитаж, Петербург)
Соподчинение в самурайской среде было жёстким, и нарушать его никому не позволялось. Если конфликт между двумя равными самураями заканчивался поединком, в результате которого один из них погибал, то в случае, если простой самурай оскорблял даймё, он сам должен был сделать себе харакири. Правда, даймё редко непосредственно общались с рядовыми воинами. Всем руководили каро – «старейшины», которые передавали воинам волю господина, планировали операции, управляли землями даймё.
На что мог рассчитывать обычный самурай, не принадлежащий ни к даймё, ни к семё, не принятый в сёгунскую гвардию? Мало кому удавалось к концу жизни накопить нечто большее, чем многочисленные шрамы и долги. Лишь некоторые счастливчики получали в подарок от даймё небольшой надел земли, который обеспечивал им спокойную старость.
Система набора в армию сёгуна в случае начала боевых действий была проста. За основу брался средний годовой доход риса. С каждой тысячи коку риса в армию сёгуна, в разряд хата-мото, шли пять человек. Воины постепенно начинали чувствовать свою исключительность, презирая нравы и тот образ жизни, который вела наследственная аристократия.
Главное, что отличало сословие воинов (букэ) от потомственных аристократов (кугэ), был сам их образ жизни, ориентированный на занятия боевыми искусствами (будзюцу). Без знания будзюцу самурай просто не мыслился; более того, воинские тренировки по сути становились его единственным занятием в жизни. Самурай мог ничего не знать и не уметь, кроме владения оружием. Не случайно гражданские занятия считались для воинов чем-то низким, недостойным. Даже когда самурайское сословие начало стремительно разоряться (а в отсутствие постоянных сражений и, потеряв своего господина, самурай лишался стабильного рисового пайка), эти люди предпочитали идти в бандиты, нежели заниматься гражданскими делами, например, торговлей. Самураи были неплохими администраторами. Многие даймё и семё выполняли различные обязанности в государственном аппарате и при дворе сёгуна. Несложно понять, что дисциплина и порядок в стране держались не столько на «мудром правлении», сколько на отлично организованных военных мерах подавления. Воины могли править лишь по-военному, и это накладывало особые черты на всю культуру традиционной Японии.
Иэмото – воплощённый идеал традиции
В каждой культуре есть люди, которые являются живым воплощением её традиции и передают эту традицию из поколения в поколение. В Японии таких людей называли иэмото – «мастер». И хотя их было крайне мало, сам по себе институт «мастеров» оказал огромное влияние на формирование всех граней традиции боевых искусств.
Мастера-иэмото не были исключительной принадлежностью бу-дзюцу. Как раз в боевых искусствах понятие «иэмото» появилось сравнительно поздно; сначала оно существовало в религиозной среде, потом стало употребляться в искусстве каллиграфии, музыке, традиционной поэзии (вака), в гадании (бокусэн), игре в го, традиционной игре в мяч (кэмари), соколиной охоте (такадзё) [4]. Впоследствии «иэмото» стали называть классного специалиста в любой сфере человеческой деятельности: в архитектуре, педагогике, кулинарном искусстве, фехтовании на мечах и дзю-дзюцу. Они воплощали всю полноту того дела, которым занимались, знали его секреты и традицию; мы бы назвали их «мастерами», но само их мастерство имело чисто духовный, сокровенный смысл.
Иэмото может стать лишь носитель традиции, который сам обучался у такого же мастера. Авторитет иэмото непререкаем. Считалось, что настоящие иэмото не берут денег с учеников, а довольствуются лишь тем, что ученики приносят им в качестве бескорыстного дара. Действительно, нередко случалось, что иэмото, например, в театре или в старых школах боевых искусств вообще не получали никакого вознаграждения, так как обучали лишь бедных учеников. К тому же иэмото иногда сами содержали своих последователей, кормили и одевали их, видя свою основную задачу в передаче духовной сути мастерства. Насколько изменились нравы в современных боевых искусствах: коммерческий аспект становится нередко едва ли не решающим, практически уже никто не преподаёт бесплатно.
Понятие «иэмото» часто неверно толкуется на Западе. Например, некоторые мастера боевых искусств утверждают, что носят «высший воинский титул иэмото». Однако «иэмото» – не титул, не степень мастерства и не звание. Не существует формального присуждения «степени иэмото» – это прежде всего дань уважения по отношению к носителю традиции, признание его заслуг. Первоначально в самурайской среде так именовался руководитель главной ветви самурайской семьи (хон-кэ), которая наследовала прежде всех остальных имущество и воинские звания. Для других членов семьи иэмото олицетворял как бы всё родовое древо и мудрость всех предыдущих поколений. Именно он должен был решать важнейшие вопросы деятельности клана. В отличие от понятий «даймё» или «семё», которые свидетельствовали о статусе в иерархии всего самурайского корпуса, понятие «иэмото» имело психологическое свойство. Оно отражало не столько место в социальной иерархии, сколько место в духовной традиции, ведь иэмото по своей сути – важнейшая веха в цепи «преем-ствования-передачи» мистического знания.
Эти представления о роли иэмото как носителя высшего Знания восходят к религиозной сфере, где «иэмото» называли лидера буддийской или синтоистской школы, руководителя группы монастырей или храмового комплекса [63].
В практике японского буддизма мы можем встретить выражение, которое наилучшим образом характеризует передачу знания учителями-иэмото: исин дэнсин, т. е. «от сердца к сердцу». Не случайно подчёркивается исключительно индивидуальная, потаённая форма обучения, которая именовалась в японской традиции миккё – «тайное», или «эзотерическое» учение. В то время как большинство людей познаёт лишь внешнюю оболочку мира, его обиходный и обыденный характер (конгё – «явленное учение»), иэмото способен передать непосредственно истину, а не набор информации или навыков.
В применении к боевым искусствам «иэмото» именовался лидер школы или даже целого направления. В частности, Миямото Мусаси считался иэмото в школе боя на двух мечах. Параллельно с ним Бокудэн Цукахара возглавлял школу фехтования на одном мече. Патриарх каратэ Фунакоси Гитин был иэмото для стиля Сётокан. При этом шли постоянные споры между его сторонниками и противниками; последние обвиняли Фунакоси в том, что он не является абсолютным носителем традиции окинавского боевого искусства (именно под этим названием сначала выступало каратэ), а, следовательно, и не может считаться иэмото.
Постепенно в Японии сложилась строгая иерархическая система передачи мастерства, во главе которой стоял сам иэмото; она называется иэмото сэйдо. Эта иерархия основывалась на степени приближённости ученика лично к иэмото. В сущности это воспроизводило древнюю систему приближённости самурая к руководителю клана или самому сёгуну. Выше всех стояли непосредственные ученики иэмото – дзики-дэси, что для боевых искусств равносильно старшим инструкторам, которые после смерти самого иэмото по наследству возглавляли школу. Следующая ступень – маго-дэси, ученики, получившие знания у дзики-дэси. Далее шли ученики учеников в третьем поколении – мата маго-дэси.
Поскольку иерархия большинства школ возникла из структуры самурайских кланов, школы имели свои «генеалогические книги», где воспроизводилась цепь «учителей-учеников», а поэтому принадлежность человека к той или иной «истинной традиции», скажем, боевых искусств, можно было без труда проверить. В сущности эта система оценивала не техническое мастерство людей, а их приближённость к духовному центру школы – к иэмото. Первоначально она применялась и в каратэ, и в дзюдо, но затем была оттеснена чисто формальной системой оценки мастерства, при которой после прохождения технического экзамена присваиваются пояса и степени (даны и кю).
Для традиционной Японии иэмото всегда были той осью, вокруг которой формировалась вся культура боевых искусств с её характерным духовным климатом, особыми взаимоотношениями мастера и ученика и методами передачи воинской традиции. А поэтому практически все герои нашего повествования – это иэмото в том или ином направлении боевых искусств.
Самураи – воины дзэн?
Меч служит внешней борьбе, но во имя духа, и потому, пока в человеке живет духовность, призвание меча будет состоять в том, чтобы его борьба была религиозно осмыслена и духовно чиста.
Иван Ильин. О сопротивлении злу силою
Во многих книгах, посвященных боевым искусствам, встречается однозначное утверждение, что все японские воины были исключительно дзэн-буддистами. На самом деле это очень далеко от реальности. Идеология большинства воинов представляла собой переплетение по крайней мере четырех учений: синтоизма, буддизма, даосизма и конфуцианства. Три из них пришли из Китая, и лишь одно – синтоизм – можно считать исконно японским. При этом все четыре учения никогда не существовали в чистом виде, что видно на примере различных самурайских уложений, объединенных под названием «Бусидо» («Путь воина»). Здесь и отголоски буддийского учения об иллюзорности жизни, о воздаянии после смерти, и заметное влияние конфуцианских этических идей о почитании своего господина и выполнении долга, и даосско-синтоистские верования в духов-покровителей.
Зеркало и меч синтоизма
Зеркало и меч испокон веков считались синтоистскими святынями. Во всех ранних магических культах зеркало связывалось с миром духов – если дух отражался в зеркале, он не мог уже принести вреда человеку. Меч символизировал мистическую силу, которую духи даровали тем, кто знал способы общения с ними. Синтоизм повлиял на формирование комплекса боевых искусств значительно больше, чем буддизм. Именно синтоизм стал для них истинной духовной основой. Первые упоминания о буддизме в Японии относятся к довольно позднему времени – к VI веку. В 522 году в Японию из Китая прибыл проповедник Сиба Датто, который построил первую буддийскую молельню. Тогда же десятки буддистов из Китая и корейского государства Пэкчэ приносят на Японские острова учение о Дхарме. Но лишь к VIII веку буддизм стал влиятельной религией.
Примечательно, что и многие мастера боевых искусств современности были синтоистами, а не буддистами. Например, основатель айкидо Уэсиба Морихэи являлся крупным религиозным деятелем синтоизма. Он прошел полный курс обучения в секте Омото-кё и даже совершил миссионерское путешествие в Маньчжурию, стремясь распространить синтоизм среди варваров. Создатель стиля Годзю рю каратэ Ямагути Гогэн два раза в день совершал синтоистские церемонии и в то же время занимался дзэн-буддийской медитацией. Именно в одном из заброшенных храмов синто его посетило откровение, схожее с просветлением-сатори в буддизме. Синтоистской доктрины придерживался и «отец каратэ» Фуна-коси Гитин. Одним словом, большинство персон из мира боевых искусств Японии оказываются последователями синтоизма – «пути духов».
Постоянного, стабильного содержания у синтоизма не было, равно как не существовало строгого канона и догматов. Термином синто первоначально обозначались различные, не связанные между собой верования нескольких родоплеменных и этнических объединений, которые жили на территории Японии. Поэтому система синто была всегда открытой – божества могли добавляться в нее, их роль или статус менялись.
Практически все духи (ками) соотносились либо с родовыми покровителями, либо с явлениями природы, например, духи – хранители реки или леса, божества горы или равнины. В синтоизме особую роль занимает культ предков; каждый род возводил себя к определенному прародителю (удзигами), персона которого считалась священной. Умирая, человек переходил в мир духов. Духи предков так или иначе влияли на земную жизнь, поэтому их надо было почитать и задабривать. В синтоистском пантеоне сохранились лишь божества – покровители наиболее могущественных и влиятельных родов.
Мифологические существа тэнгу обучают сёгуна Минамото Ёсицуне магическому искусству и бою с мечом. (Работа Куниеси, 1850 г., частная коллекция)
Многие известные воители и самураи считали, что им покровительствуют «внуки небесных божеств», и именно этим духам регулярно возносили молитвы, даже соперничали за принадлежность к тем или иным духам – каждому хотелось оказаться под защитой могущественного ками. Разворачивались и споры о том, потомков каких божеств можно допускать к управлению государством: ведь могущество этих божеств, равно как и их хитрость, в полной мере переходят на тех, кто им поклоняется. Характер духов подробно изучался синтоистскими служителями, которые затем и выносили решение. Впрочем, на переход власти из одних рук в другие оно не влияло. Большую роль здесь играл меч, нежели зеркало.
Война двух противоборствующих группировок всегда понималась как война между духами. Например, в самурайских поединках побеждал не тот, кто лучше владел мечом, а тот, за которого заступался более могущественный дух. Но тогда возникает закономерный вопрос: а стоит ли вообще учиться владению мечом и алебардой, ведь все решается на уровне «невидимого мира»? На это у самураев был четкий ответ: именно духи даруют мастерство за упорство в тренировках, и именно своим терпением воин доказывает преданность духу-хранителю. Никогда самураи не выступали в поход, предварительно не совершив ритуал поклонения божествам-хранителям и не призвав на помощь духов тех великих воинов, которые ушли в мир иной.
Заветы Конфуция в самурайской жизни
Однако не только синтоизм влиял на формирование взглядов японских воинов; не меньшую роль играло и конфуцианство, пришедшее сюда из Китая. Китайское и японское конфуцианство, хотя и имеет общий исток, со временем превратилось в два различных направления. Обратим внимание на одну интересную особенность – в Китае общий корпус боевых искусств складывался под воздействием народных культов и верований, в то время как в Японии все основные моральные категории пришли в бу-дзюцу именно из конфуцианства.
Конфуцианство, в отличие от буддизма, проникло в Японию незаметно. Своего расцвета японское конфуцианство (точнее, разновидность неоконфуцианства) достигло только в период правления сегунов Токугава (XVII–XIX вв.), а его влияние на японскую культуру стало сказываться значительно раньше.
Для средневековой Японии Китай олицетворял некий благой исток культуры (бун). Из Китая (в меньшей степени из Кореи) приходили новые культурные, философские, литературные веяния, книги и каноны. Как упоминается в хрониках Нихон Сёки, основные конфуцианские тексты, включая записи изречений самого Конфуция «Лунь юй», принесли в Японию в V веке корейские книжники из царства Пэкчэ («Беседы и суждения»). Но все же большую роль в распространении конфуцианства сыграли, безусловно, китайцы.
Вскоре его основные постулаты входят в лексикон правителей Японии. Принц Сётоку (573–621) составляет свод из семидесяти статей, где первой строкой записывает цитату из самого Конфуция: «Гармония – вот что ценится превыше всего». Здесь же устанавливалась четкая система соподчинения господ и слуг, которая воспроизводила сакральный космический порядок и позже прочно вошла в сознание самураев: «Господин – это Небо, вассал – это Земля. Небо все покрывает сверху, а Земля – подчиняется». Именно этим принципом и руководствовались самураи, готовые (хотя бы теоретически) без рассуждений отдать жизнь за своего господина. Таким образом, одна из основных заповедей «Бусидо» – подчинение и поклонение своему господину – имела чисто конфуцианский исток. Такое четкое соподчинение вело в конечном счете к установлению на земле священной гармонии (ва), когда все находилось на своих местах [184].
Асикага Ёосимасу (1436–1490), прославившийся своим умением вести бой на мечах
Сёгун Тоётоми Хидэёси (1537–1598), осаждая в 1590 г. под стенами замка Одавара одного из своих главных противников Ходзё Удзимасу (1538–1590), написал письмо своей матери в «неформальном стиле» иероглифов (сосё): «Пожалуйста, не волнуйся обо мне… Теперь же, когда я надежно осадил Одавара, я контролирую восемьдесят процентов того, что творится в провинциях»
Итак, людей надо не просто воспитывать, но порой и силой ставить на «Путь гармонии» (кстати, это дословный перевод названия одного из стилей каратэ – Вадорю, – «Школа Пути гармонии»). Такой подход вполне отвечал стереотипу поведения воинов, проповедовавших «гармонию и умиротворение» в основном с помощью меча.
Ряд аспектов учения Конфуция идеально подходил для нарождающегося сословия профессиональных воинов, которые прибирали к рукам не только всю власть в Японии, но и диктовали свои условия в формировании культуры. Прежде всего речь шла о регулировании отношений между правителем и вассалом, которые призваны были воспроизвести отношения между мужем и женой, отцом и сыном, старшим и младшим. Конфуцианство также уделяло немало внимания образованию, что давало возможность воинам сравняться по интеллектуальному потенциалу с наследственной аристократией. К тому же, в отличие от многочисленных буддийских монахов-воинов (сохэи), конфуцианские ученые были народом мирным и угрозы для государства не представляли. В конфуцианстве никогда не существовало ни монастырской практики, ни монашества вообще, а поклонения проходили в небольших кумирнях или храмах, поэтому какие-то особые «конфуцианские войска», подобно маленьким буддийским армиям, сформировать было невозможно. В политической культуре конфуцианство выступало как некая мирорегулирующая сила, этико-политическое учение, а не религия и даже не философия, что делало его идеальным инструментом для сёгунской власти.
Существует мнение, будто бы с детства юные самураи воспитывались в буддийском духе. На самом деле значительно большее внимание уделялось именно конфуцианским наукам и изучению китайских текстов. По всей Японии открывались специальные конфуцианские школы для самурайского сословия – дайгакурё, которые содержались за счет государства. В некоторых провинциях даймё открывали частные конфуцианские учебные заведения для детей (сидзюку), чтобы с ранних лет будущие воины приобщались к конфуцианской морали. Число таких школ было колоссальным: к 1872 году из 1400 учебных заведений 600 было выдержано в строгом конфуцианском духе. Большинство предметов вел один и тот же преподаватель. Он учил молодых буси грамоте и наукам именно по китайским конфуцианским канонам. Живя при замке и нередко являясь первым советником даймё и даже самого сёгуна, учитель конфуцианских наук (дзюса) с начала XVII века становится неизменной фигурой любого самурайского клана.
В деле распространения и популяризации конфуцианства, как ни странно, немалую роль сыграл именно дзэн-буддизм. Дзэнские монахи оказались в числе самых активных проповедников конфуцианства в Японии. Проходя стажировку в Китае и возвращаясь на родину, они часто привозили с собой конфуцианские тексты. Ими был выдвинут лозунг о «единстве дзэн и конфуцианства», а из Китая заимствована идея о том, что «три учения (конфуцианство, буддизм, даосизм) сливаются воедино». В буддийских монастырях регулярно переписывались конфуцианские тексты, а конфуцианские политические идеи высоко ценились буддистами. Дзэнские монахи рассматривали конфуцианство как вполне приемлемый путь для морального совершенствования самураев, а Конфуция, основоположника даосизма Лао-цзы и Будду называли «Тремя мудрецами тигровой долины». Таким образом, приверженность самураев тем или иным духовным концепциям никоим образом не входила в противоречие – воины поклонялись всем сразу. Принципы конфуцианской этики появляются в самурайских кодексах. При составлении свода законов для самурайства «Букэ сёхатто» сёгун Токугава Иэясу приглашает не дзэн-буддистов, а конфуцианцев, в частности, известного ученого мужа Хаяси Радзана. Конфуцианцы вводят в новый кодекс положения, которые являлись ключевыми для конфуцианства, – о ритуале и человеколюбии. Буси стали активнее вовлекаться в систему интеллектуального образования. В период Эдо (1615–1867) среди них резко возрастает количество специалистов в «китайских науках» (кангакуса) – искусстве, философии, литературе, военной стратегии.
Вскоре официальным идеологическим течением бакуфу стала считаться неоконфуцианская школа, которая пыталась сочетать конфуцианские принципы с буддийским учением о карме и синтоистскими верованиями, что в большей степени подходило самурайству того времени. Идейным патриархом этой школы был Фудзивара, но прославил ее блестящий ученый и выходец из самурайской среды Хаяси Радзан. Он стал личным наставником сёгуна Токугавы Иэясу.
И все же от китайского влияния уйти не удалось: японцы по-прежнему оперировали понятиями, которые были созданы Конфуцием, Чжу Си, другими великими китайцами. В идеологии Токугавского сёгуната возник весьма продуктивный китайско-японский синтез, который даже стали называть системой баку-хань [191]. Это выражение родилось из слияния двух слов: «бакуфу» как символа самурайской Японии и «хань» – традиционного названия населения Китая.
Конфуцианские идеалы, которые находили все больший отклик в душах и повседневной жизни самураев, были призваны поддержать могущество режима Токугавы. С одной стороны, в сознании воинов жили чисто конфуцианские понятия «долга» и «уважения к старшим», а, с другой, – воины теперь больше тяготели к книжному учению. Резко увеличилось количество специальных наставников, а также письменных пособий по проблемам церемониалов и этических норм, выдержанных в строго конфуцианском духе. Буддизм, который, как всегда считалось, составлял костяк самурайской идеологии, внезапно оказался на задворках культуры, замкнувшись в стенах монастырей.
Конфуцианство стало заметно влиять на трансформацию традиционных воинских ценностей. Например, в древности преданность своему господину ценилась самураями куда выше, чем лояльность по отношению к собственной семье. Но конфуцианство превыше всего ставило именно семейные отношения, что в конечном счете могло привести к серьезному конфликту. Кого ценить выше – отца или правителя? Ситуация разрешалась всегда в соответствии с духом времени. Например, в эпоху грандиозных битв XIII–XVI веках самураи выше ставили своего господина, нежели отца, поскольку преданность правителю всегда возвращалась в виде покровительства и различных пожалований. Но как только с XVII века столь явная необходимость в военном покровительстве отпала и речь зашла о наследовании (по семейной линии) богатств, накопленных в период войн, то возобладало уважение именно к отцу [145]. Так что мужественные самураи всегда были прагматиками и реалистами. Известный японский конфуцианец, выходец из самурайской элиты, Хаяси Радзан в XVII веке поставил сыновью преданность к отцу несколько выше лояльности по отношению к своему господину – и это не вызвало возражений ни с чьей стороны, хотя столетие назад за такое утверждение он мог бы поплатиться жизнью.
Буддийские идеи в боевых искусствах
Будучи по сути явлением чуждым, не японским, буддизм так плотно и органично вплелся в местную духовную и социальную ткань, что его «пришлый» характер оказался абсолютно незаметным. В религиозных кругах Японии даже господствовала теория рёбу-синто, согласно которой синтоистские божества представляли собой лишь проявления буддийских божеств на местной японской почве. В буддийских сектах Тэндай и особенно Сингон, к которой принадлежало большинство ниндзя, вообще утверждалось, что хотя буддизм и синтоизм и «составляют два, но не двойственны» (дзини фуни).
Сознанию самураев, которые в подавляющем большинстве были далеки от религиозных споров и вряд ли могли с уверенностью отличить одну буддийскую секту от другой, такое единство подходило как нельзя лучше. Они поклонялись практически всем божествам одновременно, хотя были среди них и наиболее ценимые воинами, например, божества войны, защитник Хатиман, Фудо Миё и др.
Мы здесь намеренно абстрагируемся от чисто религиозных проблем буддийских школ Японии [3]. Остановимся лишь кратко на постулатах тех направлений, которые явно повлияли на миросозерцание самураев, ниндзя, на формирование идеологии японских боевых искусств. В сущности речь идет о трех крупнейших китайских школах: Дзэн, Тэндай и Сингон. Традиционно считается, что именно дзэн-буддизм стал настоящей идеологией японских воинов, но на их ритуалы и культы значительно большее влияние оказали две другие школы – Тэндай и Сингон. В частности, ниндзя активно использовали методы Сингон для тренировки сознания, а целая каста монахов-воинов (сохэи) формально принадлежала именно к секте Тэндай. На стыке Тэндай и Сингон возникло направление Сюгэндо, последователями которого являлись знаменитые горные отшельники или «горные воины» – ямабуси.
Все три течения принадлежали к буддизму махаяны, т. е. «большой колесницы». Школа Сингон, правда, многое вобрала из тантрического буддизма, или ваджраяны. Это учение гарантировало спасение и обретение состояния Будды всем своим последователям, а не только монахам, поскольку всякий человек уже изначально обладает «природой Будды» (буссё), которая до поры находится в скрытом, непроявленном состоянии. Таким образом, следовало лишь пробудить в себе эту «природу Будды», обнаружить вечное и просветленное в человеческом и смертном. Общей чертой и Дзэн, и Тэндай, и Сингон было отсутствие принципиальной разницы между сансарой, нашим бренным миром, и нирваной – миром Будды и бодхисаттв. А это означало, что просветления можно достичь «здесь и сейчас», при настоящей жизни, без дополнительных перерождений, в акте интуитивного откровения. Тем не менее расхождения были. Последователи Дзэн, например, говорили о внезапности такого просветления: «будто блеск яркого луча солнца, вышедшего из-за туч, или внезапная вспышка молнии в безлунную ночь». Другие считали, что просветление приходит постепенно, на протяжении долгих лет. Но так или иначе можно, не уходя в нирвану и живя среди людей, стать «окончательно просветленным».
Учения Тэндай («Небесного престола») и Сингон («Истинных слов») лежат в общем русле японского эзотерического буддизма, т. е. того направления, которое искало просветления через оккультную практику, было наполнено символизмом, аскетическим подвижничеством, мыслью об интуитивном познании высшей мудрости (праджни).
Школа Сингон – трансформированный вариант тантрического буддизма, который появляется в Индии приблизительно в VII веке, а затем быстро перемещается в Китай (по-китайски он назывался «мицзун» – «тайная школа»). Именно из Китая принес его идеи в Японию первый патриарх школы Сингон, талантливый проповедник и комментатор, выходец из аристократической семьи японец Кукай (774–835). О последнем ходило немало легенд не только среди последователей Сингон, но и среди ниндзя. Например, рассказывали, будто бы он после смерти продолжает странствовать по земле в образе бессмертного старца (сэннина), даруя мудрость тем, кто исправно выполняет все ритуалы его учения.
Школа Сингон практически сразу же приобрела характер «тайного», или «эзотерического», учения (миккё), противопоставив себя всему «открытому», или «явленному» (конгё). Речь шла не о каких-то конкретных секретах (хотя и они встречались), но прежде всего о том, что истинное, высшее знание представляет собой высочайшую тайну, постижимую лишь путем долгой и упорной духовной практики.
Фудо Миё – один из хранителей буддийской мудрости, божество войны, считался покровителем воинов
В процессе посвящения учитель Сингон сообщал новообращенному тайную формулу (мантру), произнесение которой могло обеспечить достижение состояния Будды. Эта формула называлась «сингон», или «истинное слово», откуда и произошло название самой секты. Вместе с этим адепта Сингон посвящали в секрет особой фигуры из переплетенных пальцев (санскр. – «мудра», япон. – «ингэй»), которая позволяла замыкать определенным образом энергию внутри тела и символизировала приобщение адепта к пути Будды. Именно эти методы активно использовали японские ниндзя, регулируя при помощи мантр и мудр состояние своего сознания и духовный настрой. Последователи Сингон активно использовали в своей практике магические изображения священного круга – мандалы, символизировавшего развертывание Вселенной, причем трактовку мандалы целиком знали лишь высшие посвященные. Все эти аспекты пришлись по нраву многим школам ниндзя, в частности Игарю. Конечно, всех глубинных трактовок мандалы представители кланов ниндзя не знали, но произнесение мантр и создание изображений колеса-мандалы быстро превратились в традицию среди тайных лазутчиков и наемников.
Мандала – это не столько рисунок, сколько визуальное выражение тела Будды. В мистическом плане мандала – это живое тело Будды, данное как рождение, развитие и уход в вечность. Следовательно, и человек, приобщенный к «тайнописи» мандалы, может пробудить в себе «природу Будды». Особенно высоко почиталась огромная мандала – Махамандала, представлявшая собой символ изначального тела Будды Махавайрочаны, которое и есть вся Вселенная.
Сам мир состоит из шести базовых элементов, а точнее, состояний (махаб-хута), которые, перемежаясь, дают его разнообразие: земля, вода, огонь, ветер, пустота (или небо) и сознание. Обратим внимание, что пять первых элементов принадлежат к материальному миру, а шестой – совокупность духовного. Эта достаточно сложная теория получила интересное применение в практике монахов-воинов и ниндзя, которые каждому пальцу руки приписывали одно из пяти материальных начал. Вместилищем шестого являлась, естественно, голова. Как считали ниндзя, переплетая определенным образом пальцы, т. е. оперируя взаимопревращением пяти начал, можно пробудить сознание, настроить его на тот или иной лад и даже победить соперника, не вступая с ним в поединок.
Вообще ниндзя всю свою оккультную практику переняли из учения Сингон. Например, из Сингон пришло написание магических знаков, по которым тайные воины опознавали друг друга. Эти знаки, в свою очередь, пришли из санскрита, в буддизме они представляют собой магическое обозначение Закона, или Дхармы, т. е. буддийского учения.
Другая крупнейшая школа – Тэндай возникла в VI веке. Ее главным идеологом и фактическим основателем был монах Чжии. Поскольку свою проповедь последователи Чжии вели на горе Тяньтай (в японском чтении – «Тэндай»), что означает «Небесный престол», то отсюда и пошло название школы.
Последователи Тэндай считали, что все буддийские учения в равной степени ведут к просветлению, и человек должен следовать по пути той школы, к которой его приобщили обстоятельства. К какому бы течению ни принадлежал адепт, при строгом подвижничестве он обязательно достигнет «состояния Будды». Эта концепция называлась «достижением просветления посредством единой колесницы», объединявшей пути «трех колесниц», т. е. всех трех буддийских школ. Естественно, что такой либерализм во взглядах снискал Тэндай много последователей, в том числе и среди мирян. Фактически Тэндай как бы исключала ошибку человека в выборе буддийской школы.
Тэндай, в отличие от других школ, претендовала на наибольшую комплексность осмысления учения Будды. Считается, что в проповеди Будды было пять этапов. На первых четырех он выступал лишь как обычный проповедник, учивший людей при помощи тех слов, которые они могли понять. Эти четыре этапа, представленные в разных буддийских школах, являются выражением «относительной истины». И лишь на пятом этапе Будда раскрывал всю полноту «абсолютной истины» своего Закона, объяснив его «сокровенный смысл» (гэнги) всего лишь за сутки до своего ухода в нирвану. Именно эту абсолютную истину Закона и стремятся постичь адепты Тэндай, предварительно проходя все четыре этапа осмысления буддийского Закона (Дхармы). Вообще в процессе духовной практики человек должен пройти «десять миров Дхармы», или десять последовательных ступеней совершенствования: от «мира ада» через «мир человека» до «мира Будды». По сути, речь идет о десяти состояниях, которые переживает человек на пути к окончательному просветлению. Для преодоления «низших миров» Тэн-дай рекомендовала долгие сеансы медитации – «недвижимого взирания внутрь себя».
Многие адепты школы Тэндай в силу ряда исторических обстоятельств оказались очень боевитыми и даже агрессивными. Если Сингон прославилась своим влиянием на культовую практику ниндзя, то Тэндай породила прежде всего такое явление, как монахи-бойцы (сохэи). Об их истории мы расскажем позже. Правда, существовали сохэи, которые и не принадлежали к школе Тэндай, но народная молва связывала этих бритоголовых воинов, нередко становившихся просто бандитами, именно с тэндайской традицией.
Дзэн-буддизм: «внезапное пробуждение»
Существует много легенд и историй о том, как самураи, посвященные в дзэнскую мудрость, достигали совершенного мастерства в боевых искусствах. В западной литературе принято утверждать, что все боевые искусства Японии базируются на дзэн-буддизме.
Именно в дзэн-буддизме берут свои истоки многие знаменитые японские искусства, возникшие в период господства самураев, например, чайная церемония (тя-ною – «путь чая») или сайдо, монохромная живопись (суми-э), икебана, или «путь цветка» (кадо), каллиграфия, разбивка миниатюрных садов и многое другое; причем все они носили ярко выраженный этический характер. Эта направленность проявилась под воздействием дзэн-буддизма и в боевых искусствах.
Дзэн-буддизм учит, что в своем высшем проявлении природа Будды абсолютно пустотна, она стоит вне каких-то конкретных феноменов нашего мира и логическому мышлению неподвластна. Ее можно познать лишь в момент просветления, внезапного и интуитивного озарения. «Пустота и есть Будда. Будда и есть ты сам», – гласит известное дзэнское изречение.
Таким образом, речь идет о пробуждении, которое дается как внезапная вспышка сознания, когда человек осознает себя и Пустотой, и Буддой одновременно. Он в вечности, для него существует лишь одно «вечно длящееся настоящее», без Вчера и Завтра. При этом он пребывает в состоянии «отсутствия мыслей» (мунэн), его разум не замутнен ни одной идеей, более того – он сам как бы отсутствует, растворяется в общей ткани Вселенной.
Это состояние, которое должно быть присуще не только дзэнскому подвижнику, но и истинному воину, именуется «муга» – «не я» (санскр. – «анат-ман», кит. – «у во»). Рушатся границы между внешним и внутренним, между человеком и окружающим его миром, между субъектом и объектом. Все говорит со всем, и все находится во всем. Это созвучие всего со всем обозначается знаменитой фразой «нет ни меня, ни другого» (досл. «не-я, не-он»). Именно в таком состоянии китайские мастера советовали заниматься ушу, рассматривая его и как метод, и как конечную цель совершенствования. То же мы встречаем и в практике самураев: знаменитый фехтовальщик Мусаси Миямото учил, что «истинный удар мечом исходит из Пустоты», а высшее боевое мастерство приходит лишь тогда, «когда обретешь состояние самозабытия и самоотсутствия».
«Очищенное сознание» становится «отполированно-гладким», не случайно такой непоколебимый покой духа дзэн-буддисты сравнивали с чистым зеркалом и стоячей водой. Именно отсюда в самурайские боевые искусства, а затем в каратэ пришли знаменитые принципы «разум, как поверхность озера» (мицу-но кокоро) и «разум, как ровный свет луны, [что равномерно освещает все предметы вокруг, не задерживаясь ни на чем]» (цуки-но кокоро). Лишь в этом состоянии человек может увидеть истинный мир, т. е. такой, какой он есть на самом деле – не искаженный и не замутненный субъективными ощущениями и мыслями. А это и означало проникновение в сущность мира (кэнсё). Внешняя и внутренняя стороны мира – одно и то же, между ними не существует никакой разницы, равно как священное и обыденное слиты воедино. Такое видение мира на самом деле именуется «нёдзэ», и к нему должен стремиться как дзэнский монах, так и всякий истинный воин.
Первые идеи дзэн-буддизма пришли в Японию из Китая уже в VIII–IX веках, а с XII века начинается бурное проникновение на Японские острова дзэнских школ. Проповедник Эйсай (1140–1215) приносит в Японию учение Риндзай (кит. – Линь-цзи), Догэн (1200–1253) – учение Сото (кит. – Цаодун), ставшие первыми, а затем и самыми крупными дзэнскими школами в Японии.
Прежде всего учение Дзэн провозглашало теорию «сокусин дзёбуцу» – «стать Буддой в этом теле», т. е. еще при жизни человека, без дополнительных перерождений. Эту идею мы можем встретить и в Сингон. Стать Буддой можно, «взирая на собственную изначальную природу». Это означает, что основной упор делался на медитативную практику, хотя существовали многие другие способы, ведущие к «пробуждению сознания».
Дзэнская секта Риндзай, известная своими монахами-бойцами, выработала особые методы «пробуждения» сознания монахов. Монахам давались для обдумывания вопросы, которые не имели логического ответа. Это могли быть либо парадоксальные вопросы (кит. – «гунъань», япон. – «коан») типа «Где ты был до своего рождения?», либо спонтанные диалоги с учителем, требующие естественных ответов без раздумий («В чем суть буддизма? Когда ты поел, помой за собой миску!»), либо даже резкие удары, которыми наставник заставлял ученика «пробудиться» (естественно, на определенном этапе развития сознания ученика). Все это должно было разрушить логические условности мира, показать потенциальную неразличимость возможного и невозможного, внешнего и внутреннего.
Секта Сото в основу своей практики положила «беспредметную», или «пустотную», медитацию (сикан тадза), считая ее основным методом развития сознания и достижения «пробуждения». В этом смысле Сото противостояла секте Риндзай с ее многочисленными «коанами» – словесными загадками и другими экстремальными методами обучения. В медитационных залах (дзэндо) секты Риндзай монахи сидят лицом друг к другу, а в секте Сото – спинами, чтобы не отвлекаться. Часто сеансы самопогружения могут длиться часами; например, в периоды так называемого «великого сэссиина», в мае – августе и ноябре – феврале, раз в месяц сидячая медитация (дзадзэн) практикуется с раннего утра (с 3.30, фактически с ночи), заканчиваясь в 9.30–10 часов вечера.
В ряде дзэнских школ, например, Сёицу-ха и Хатто-ха, активно использовали сложные эзотерические методы, известные как миккё – «тайное учение». Они включали произнесение сакральных формул и звуков (мантр и дхарани), медитацию на изображении мандалы, что в китайском варианте и большинстве классических дзэнских школ отсутствует.
После прочтения многих популярных книг нередко может сложиться впечатление, что дзэн-буддизм представляет собой некую крайне либеральную форму буддизма, где нет ни строгой доктрины, ни жесткой дисциплины, где лишь утверждается: «Хочешь есть – ешь, хочешь спать – спи». На самом деле, предоставляя своим последователям простор для интуитивного духовного поиска, дзэн-буддизм является едва ли не самой строгой буддийской сектой со сложнейшими методами духовной практики и подвижничества.
Маэда Тосихару, один из родоначальников клана Маэда, контролировавшего провинцию Кога. Не будучи буддистом, здесь изображен в дзэн-буддийских одеждах в момент духовного откровения. Под левой рукой у него меч-катана – символ воинских доблестей и готовности к бою, в правой руке он держит веер. Взгляд направлен на облако, где находится, по преданию, Будда Амида, который однажды примет душу Маэды. Здесь сочетаются духовное подвижничество, воинское мастерство и полная готовность к смерти
Самым большим помещением дзэнских монастырей является зал для медитаций, или «зал размышлений» (кит. – «чаньтан», япон. – «дзэн-до»), хотя сама медитация в разных монашеских обителях может заметно различаться. В дзэндо царит дух покоя, какой-то особой внешней медлительности, подчиненной духовному поиску. Обычно монахи восседают на небольшой платформе (тан), приподнятой на несколько сантиметров над уровнем пола.
В дзэндо сеансы медитации порой продолжаются по нескольку часов, а чтобы сознание «не засыпало» и находилось в вечно бодрствующем, чистом состоянии, вся группа монахов время от времени встает и неторопливо совершает небольшой круг по залу, после чего опять погружается «в созерцание своей внутренней природы и Пустоты». Обычно по залу ходит старший монах с небольшой палочкой или метелочкой от мух, которой он иногда резко бьет по плечам медитирующих монахов, «пробуждая» их.
Помимо практики сидячей медитации (дзадзэн) в дзэнских монастырях одним из основных способов «пробуждения сознания» являются беседы со старшим наставником, или роси (дословно – «старый учитель»). Эти беседы именуются тэйсё или кодза. Сидячая медитация обязательно должна подкрепляться практикой сандзэн – личными наставлениями мастера один на один с учеником, обычно раз-два в день. Монах и сам может прийти к наставнику, если у него есть ответ на тот вопрос или тему, которые ему дал мастер. Такой добровольный сандзэн называется докусан. В конце каждого дня монахи обязательно приходят к своему непосредственному наставнику, сообщают о своих достижениях в этот день и о планах на завтра.
Распорядок дня и сам ритм жизни в китайских и японских монастырях могут быть различны, но так или иначе они подчинены классическим правилам «жизнь в смирении», «жизнь в труде», «жизнь в служении».
Каждый дзэнский монах помимо общей буддийской практики выполняет четко закрепленные за ним хозяйственные и ритуальные обязанности – это и есть «жизнь в служении».
Дзэнские монахи регулярно участвовали в хозяйственных работах, что означало реализацию принципа «жизнь в труде». Знаменитой стала поговорка китайского чаньского патриарха Байчжана (720–814): «День без работы – день без еды». Рассказывают, как однажды монахи, обеспокоенные тем, что уже старый Байчжан ежедневно изнуряет себя работой, спрятали его сельскохозяйственные инструменты. После этого Байчжан заперся у себя в келье и перестал принимать пищу. Инструменты пришлось вернуть.
Понятие «жизнь в смирении» означает то основное состояние духа, которое должен иметь всякий монах. И новички, и старшие монахи должны быть скромны, смиренны и нестяжательны.
Сколько бы ни считали самураев воплощением духа дзэн-буддизма, все же было в дзэнской традиции правило, которого воины никак не хотели придерживаться. Речь идет о нестяжании материальных благ. Доктрина предельной скромности в жизни зародилась еще в Китае, а японские дзэнские монахи довели эту скромность до нищеты. В определенные дни группы дзэнских монахов выходили на улицы города с криками «Хо!» и пением сутр. Каждый из них нес в руках специальную чашу для подаяний (натру), куда прохожие клали мелкие монетки или рис. Все монахи надевали на голову глубокие шапки, которые позволяли смотреть лишь под ноги. Тот, кто давал монаху милостыню, не мог видеть его лица, равно как и монах не мог разглядеть лица подающего. Все это исключало какие-либо личные взаимоотношения, милостыня подавалась не монаху, а даровалась буддийскому делу вообще [188]. Монах же по-прежнему оставался нищим, сколько бы подаяния он ни получил.
Этот «дух нищеты» нередко считался вообще первейшей отличительной чертой дзэнского монаха. Несложно догадаться, что столь суровые требования, которые предъявлялись к последователям дзэн-буддизма, вряд ли были выполнимы для самураев. Таким образом, хотя дзэн и повлиял на всю самурайскую культуру, влияние его на боевые искусства не было прямым.
Большинство дзэнских школ проповедовали внезапное просветление, которое весьма характерно именовалось «мгновенным пробуждением» – сатори (кит. – «дунь у»). Человек избавляется от своего незнания, замутненности сознания (клёша) как от сна, вступая в мир чистых и непосредственно воспринимаемых образов. Высочайшая же мудрость, которая достигается в этом «пробуждении», – не просто какая-то новая информация, не познание в буквальном смысле слова, а полное слияние со всем миром.
В таком состоянии «спокойного и чистого сознания» человек реагирует на мир непосредственно и естественно. Он не продумывает свои действия, не размышляет над ними, но лишь как эхо откликается на происходящее. Сохранилось уникальное письмо знаменитого учителя боя на мечах и яркого дзэнского последователя Такуана (XVII в.), где он показывает, как дзэнское сознание проявляется в боевом искусстве: «Самым важным элементом в искусстве боя на мечах, равно как и в самом дзэн, является то, что можно назвать «невмешательством сознания». Если между двумя действиями остается щель толщиной хотя бы в волосок – это уже задержка. Когда хлопаешь в ладоши, звук раздается без задержки. Он не ждет и не размышляет, прежде чем возникнуть… Если ты волнуешься или раздумываешь, что делать, когда противник готов напасть на тебя, ты предоставляешь в его распоряжение время, т. е. удобную возможность нанести удар. Пусть твоя защита следует за его нападением без малейшего разрыва – тогда не будет двух отдельных действий, известных как «защита» и «нападение»… В дзэн, как и в бою на мечах, выше всего ценится сознание, свободное от колебаний и от остановок, сознание, которое постигает мир без посредников… Здесь самое главное – приобрести состояние, называемое «недвижимая мудрость». Внутри вас есть нечто неподвижное, и оно спонтанно перемещается вместе с предметами, появляющимися перед ним. Зеркало мудрости мгновенно отражает эти предметы по мере их появления, но само остается незамутненным и недвижимым [203]. Эта непосредственная реакция сознания нередко именуется интуицией, и именно на ней основаны все боевые искусства, начиная от боя на мечах и заканчивая каратэ. Частично эти принципы сохранились в теории современного каратэ, куда они пришли из самурайской практики боя на мечах. Например, в каратэ рассматриваются три принципиальные типа атаки. Первый тип – это инициативная атака (сэн), когда боец первым начинает нападение. Она эффективна своей неожиданностью, но если противник психологически готов к нападению, чревата очень серьезными последствиями для нападающего. Второй тип – контратака (го-но сэн или ато-но сэн), которую желательно проводить не после атаки соперника, а одновременно с ней. И, наконец, третий, высший тип, соответствующий дзэнскому принципу спонтанности и «внемыслия», называется сэн-но-сэн. Атака должна начаться в тот момент, когда противник лишь задумал свой удар. Фактически боец перехватывает мысль противника, а не его движение, поскольку сознание бойца, находясь в незамутненном и спокойном состоянии, адекватно отражает все явления мира. Это еще называется «посмотреть на противника его же глазами».
Здесь следует оговориться, что такое состояние сознания вовсе не означает познания дзэнской истины – ведь интуицию и спонтанность реагирования можно просто выработать путем длительных тренировок. Проще говоря, мы должны отличать полноценную духовную практику дзэн от некоторых отдельных методов, которые сами по себе не ведут к духовному совершенству. История знает много случаев, когда прекрасные бойцы, обладающие действительно интуитивным чувствованием мира, были при этом личностями весьма бездуховными, а порой и просто безнравственными. Не случайно великий воин Мусаси Миямото (XVI–XVII вв.), действовавший в бою всегда спонтанно, отличался довольно грубым и разгульным нравом, но в конце жизни многое переосмыслил и лишь тогда достиг просветления. Нам важно понять то, что самураи могли выработать реакцию, подобную той, которой обладали истинные дзэн-буддисты, но не идентичную ей. Самураи использовали внешние методы, породившие дзэнское мышление, – например, тренировку сознания в стрельбе из лука и в бою на мечах, занятия каллиграфией и разбивку «сухих садов», но «внезапное просветление» никогда не было конечной целью жизни большинства самураев.
Западный проповедник дзэн Алан Уотс, который долгое время изучал дзэн-буддизм у его носителей, а затем стал деканом Американской академии азиатских исследований, пишет в своей книге «Путь дзэн», явившейся настоящей Библией для поклонников дзэн-буддизма: «По исторической случайности военный класс самураев принял именно эту разновидность буддизма, которая крайне импонировала ему как своим практическим, земным характером, так и прямотой, и простотой своих методов. В результате родился особый образ жизни, известный под названием Бусидо – «Путь воина», который, в сущности, представляет собой дзэн в приложении к искусству войны. Каким образом миролюбивое учение Будды можно связать с боевым искусством – всегда оставалось загадкой для буддистов других направлений. По видимости, это означает полный отрыв просветления от нравственности» [204].
Трудно согласиться с утверждением Алана Уотса о «полном отрыве просветления от нравственности» у самураев: просто нравственность, благородство и милосердие в японской культуре понимались весьма своеобразно и отличались от европейских аналогов. А вот то, что дзэнское учение о просветлении и «освобождении» сознания было отделено от реальной жизни и способов мышления самураев, – это бесспорно.
Таким образом, самураи не были по своей сути и идеологии дзэн-буддистами, они лишь переняли те культурные формы, которые породил дзэн-буддизм.
Буддизм всегда мимикрировал под ту социальную и историческую среду, в которой он находился, а поэтому многие заветы буддизма, в том числе и ключевой принцип «непричинения вреда живому» (ахимса), хотя и почитались, но соблюдались далеко не всеми. Известны случаи, когда и китайские, и японские монахи высших степеней посвящения участвовали в разработке боевых операций и были военными советниками. Здесь мы никак не уйдем от классического примера шаолиньских монахов-бойцов, а также чаньских монастырей в Китае, где смиренные послушники выработали уникальные методы боя.
Но обратим внимание – изучение боевого искусства еще не влечет за собой его обязательное применение. В частности, сегодня шаолиньские учителя строго ориентируют монахов на «ненападение»; существует даже свято соблюдаемое уложение о том, когда и как можно применять боевое искусство. Ведь хорошо известно, что человек, действительно постигший тайны боевых искусств, практически никогда не вступает в сражение.
«Облака и воды» дзэн
«Облака и воды» – так образно называли дзэнских монахов, намекая на их вечные странствия, особую легкость восприятия мира и непривязанность сознания к этому миру. Именно такого чистого и яркого состояния сознания стремились достичь не только сами смиренные последователи Будды, но и многие воители-самураи.
Некоторые самураи были столь увлечены сутью буддийского учения, что уходили в монахи. Правда, путь в служители Будды у всех был разный, и в этом смысле показателен пример известного буддийского реформатора Хонэна. Он считается одним из патриархов японской ветви сшидаизма – оригинальной школы, утверждавшей необходимость безраздельной личной веры в Будду Амитабху (япон. – Амида).
Антейра Тайсё (Священный генерал Антэйра), один из двенадцати священных генералов (Дзюни Синсё), защитников Якуси – врачующего Будды. Каждый из генералов соответствует своему циклическому знаку, Антэйра – мыши. Он молится за все человечество, поэтому для самураев он стал символом сочетания войны и милосердия
Свидетель грандиозных сражений, развернувшихся на территории Японии, он счел, что наступает «конец Закона» и вот-вот должна решиться судьба мира. В такое время следовало постоянно повторять священную формулу, обращаясь к Будде Амиде и взывая к его безграничному милосердию. Только это могло бы привести к посмертному возрождению человека в буддийском раю – «западной земле». Несложную формулу «Наму Амида буцу» («Слава Будде Амиде!»), называемую «нэмбуцу», амидаисты повторяли порой по нескольку десятков тысяч раз в день. Рассказывают, что последователь Хонэна, патриарх амидаизма Рюкан, повторял нэмбуцу ежедневно 84 тысячи раз!
Сам Хонэн пришел в буддизм необычно. Будучи выходцем из самурайского рода, он с детства учился боевым искусствам. Но отец его был смертельно ранен на поле сражения, а это означало, что сын должен отомстить убийцам. Однако перед тем как испустить дух, отец стал умолять юного Хонэна отбросить все мысли о мщении и стать буддистом. И вот тринадцатилетний Хонэн приходит в горы Хиэй, где тогда располагался центр школы Тэндай (Небесного престола), а еще через два года принимает монашеский постриг. Он оказался столь блестящим проповедником, что пользовался авторитетом практически среди всех буддистов, хотя его лаконичные послания ученикам встречали немало ненависти со стороны представителей сект Дзэн и Тэндай.
Сам Хонэн считал наш мир грязью, от которой следует отделиться, поэтому полувоенная секта Дзёдо, которую он основал, запрещала своим последователям участвовать в управлении государством и вообще иметь какие-либо дела с государственной администрацией. Это, естественно, вызывало немалое недовольство со стороны властей [3].
К воинской культуре средневековой Японии были приобщены люди, которые самураями не являлись, но в то же время были доблестными воинами. Например, некоторые монахи-бойцы (сохэи). Монашеский дух строгого послушания, помноженный на суровые воинские ритуалы, делал святость этих людей весьма своеобразной. Бритая голова и желтая ряса спокойно соседствовали с отточенным до блеска мечом за спиной. Обычно сохэи первоначально воспитывались в семьях самураев, а затем принимали монашеский постриг.
Как дзэн-буддийский монах-воин прославился, например, Инатаба Иттэцу (1516–1588) – младший сын Инатабы Митинори, военного лидера провинции Мино (сегодня – часть префектуры Гифу). Сначала Иттэцу стал монахом буддийской обители Софокудзи. Но в 1525 году могучий клан Асаи из провинции Оми вторгся в Мино, и практически вся семья Инатаба была вырезана. Тогда смиренный монах, официально не слагая с себя буддийских обетов, решил временно возвратиться в мир и отомстить за отца и братьев. Он взял себе новое имя, под которым впоследствии и вошел в историю, – Иттэцу что значит «Единое железо» (т. е. «единый клинок меча»). Иттэцу объявил себя новым главой разоренного клана и стал сражаться в качестве наемника, сменив за свою жизнь четырех хозяев. Он считался жестоким и яростным бойцом. Таков был реальный облик «смиренного» дзэн-буддиста эпохи расцвета самурайской культуры. Весьма показателен стих на портрете Иттэцу, написанном сразу же после его смерти в родовом замке Симидзу в Мино:
«Он был мужественным воином в мире боевых искусств, преданным слугой семье и государству. В нем сосуществовали боевое и священное начала. В его образе сополагались духовное и мирское, причем эти две реальности не смешивались одна с другой».
Здесь мы находим объяснения самой сути «боевого» начала в мирном дзэн-буддизме. Две реальности – духовная и мирская – «не проникают друг в друга», монашеская святость остается не запятнанной убийствами. Обратим внимание – не дзэн-буддизму присущ боевой дух, а сама японская традиция допускает сосуществование боевого и мирского со святым и не замутненным «мирской пылью». Рассказы о знаменитых монахах-бойцах как бы постоянно подчеркивают эту мысль. Кстати, обратим внимание, чем заканчиваются истории жизни многих знаменитых самураев – они достигают просветления и фактически уравниваются со святыми. Один из самых показательных примеров – уже известный нам «бог меча» Мусаси Миямото.
Монахи нередко становились проводниками китайских боевых искусств в Японии, причем среди них встречались и весьма именитые. Например, в 1299 году в Японию из Китая прибыл чаньский монах Ишань Инин (1247–1317), принадлежавший к секте Линьцзи (япон. – Риндзай). В Японии он стал известен под именем Иссан Кокуси. Он привез дипломатическое письмо от китайского императора Чжэн-цзуна и быстро вошел в доверие ко многим видным японским деятелям, в том числе и к самому Ходзё Садатоки – регенту сёгуна. Правда, Ишаня подозревали в шпионаже в пользу Китая, где в то время правила монгольская династия Юань (что скорее всего было недалеко от истины), но даже это не могло поколебать его авторитет. Ишань, человек блестяще образованный, вскоре стал настоятелем нескольких монастырей, в том числе знаменитой дзэнской обители Кэнсёдзи. Он проповедовал не только буддийские истины, но и учение китайского неоконфуцианца Чжу Си. В конце концов его пригласил к себе в Киото отошедший от дел император Го-Уда, сделал своим духовником и присудил высокий титул «кокуси». Именно этот просвещенный человек стал обучать своих последователей методам китайской школы боя с прямым обоюдоострым мечом (цзянь). Послушники тех дзэнских монастырей, где он был настоятелем, регулярно сражались друг с другом на бамбуковых мечах. Сам Ишань считал, что это позволяет выработать дзэнский покой сознания, «который нельзя разрушить даже ударом меча».
Идеалы зарождающейся самурайской культуры подчиняли себе эстетические и религиозные каноны того времени. Например, уже с X–XI веков появляются скульптурные изображения буддийских божеств в воинственных позах с оружием в руках. Конечно, традиция грозных буддийских стражей существовала еще в Индии, ее можно встретить и в Китае, но лишь в Японии она была возведена в ранг канона. «Воинский» характер японского буддизма стал проявляться даже в местных вариантах традиционных рассказов о жизни буддийских святых: они якобы крушили своих врагов буквально десятками.
Японский буддизм, особенно в периоды Муромати (1333–1392) и Эдо, приобретает все более и более либеральный, почти светский характер. Например, многие самураи, считая себя буддистами, весьма приблизительно разбирались в его доктрине, никогда не открывали буддийских сутр, но при этом регулярно совершали поклонения перед статуями Будды, чтобы тот помог им одержать победу в бою. Впрочем, возжигание благовоний перед буддийским алтарем ничуть не мешало им столь же систематично выполнять все синтоистские ритуалы.
Сакума Сёгэн (1570–1642), считался одним из самых выдающихся воинов и знатоков чайной церемонии. Здесь он изображен в китайских одеждах с мальчиком-слугой. (Работа Кано Танью, XVII в.)
С другой стороны, по дорогам Японии странствовало множество сохэев – монахов-воинов. Большинство из них имели одного-двух учеников, которые одинаково прилежно изучали воинские искусства и буддийские истины. Такие монахи не сторонились жестоких поединков, они не считали зазорным интимные контакты со своими юными учениками, а изнасилование бродячим монахом-воином случайно встреченной красавицы стало частым сюжетом изображений художественного жанра укиё-э. Парадоксальность ситуации состояла в том, что не было ни одной школы буддизма, формально отвергавшей принцип «непричинения вреда живому» (ахимса), который запрещал не только убивать людей, но даже причинять вред любым живым существам.
Но в Японии, равно как и в Китае, буддизм, не имевший постоянной формы, проявил поразительную пластичность. В Японии, где в силу исторических причин все было пронизано пафосом сражений, буддизм становится важнейшей частью воинской практики, как бы «освящая» все поступки воинов-буси. Если мы пристально вглядимся в скульптуры некоторых «буддийских стражей», то без труда узнаем в их позах ряд позиций из кэн-дзюцу (фехтования на мечах) и других разделов воинской практики. Некоторые буддийские божества вообще начинают выступать только в виде яростных и могучих воинов, хотя могут символизировать при этом и милосердие. Например, духи – последователи Якуси (Будды врачевания), начиная с XIII века изображались исключительно как вооруженные воины – двенадцать священных воителей (цзюни синее). Фактически происходил своеобразный «перенос святости» с буддийских божеств на самураев, а от последних воинский характер переходил на бодхисаттв. Самурайская культура, таким образом, делала буддизм ближе и понятнее себе.
Итак, буддизм в Японии приобретает парадоксальный характер «боевого учения». Самураи просто «подстраивают» его под свою идеологию и потребности. Например, многие идеи дзэн-буддизма давали самураям абсолютное презрение к смерти, а порой и подчеркнутое стремление к гибели. Поскольку никаких различий между сансарой и нирваной нет, равно как в мире Пустоты не существует принципиальной разницы между жизнью и смертью, то, умирая, самурай просто переходит в вечный покой нирваны.
Этому влиянию оказался подвержен даже ряд крупнейших монашеских общин. Вообще, воинственность японских монахов была удивительной. Если китайские монахи-бойцы обычно относились лояльно к своему государству и воевали лишь с иностранцами (например, в XVIII веке шаолиньские монахи воевали с монголами, в XVI веке – с японцами в южных провинциях Фуцзянь и Гуандун, в XVII–XVIII веках – с маньчжурами), то японцы нередко готовы были сражаться против своих же собратьев. Так, последователи секты Тэн-дай не раз громили монастыри, в сущности, мирных амидаистов, пока их самих не разбил Ода Но-бунага. В середине XV века по Японии прокатилась волна монашеских восстаний – «икко икки», участники которых хотя и были отменными знатоками боевых искусств, но все же проиграли регулярным войскам.
В Японии монахом-бойцом (сохэй) называли по сути любого монаха, который решился взять в руки оружие, тем более члена особых монашеских армий, создаваемых не только для символической защиты своей обители, но и для вполне конкретного отражения нападений войск сёгуна.
В любом случае японские монахи-бойцы не получали какого-то особого посвящения, титулом «сохэй» их награждала скорее народная молва. А поэтому их боевой уровень, равно как и духовное состояние, могли быть абсолютно различными; дело доходило до откровенного бандитизма и профанации учения. В противоположность этому, например, шаолиньский монах-боец «усэн» – это особое звание, которое получают после определенного посвящения. Монаху вручается и особое удостоверение, куда вписывается не только его имя, но и имя его учителя, который несет за него личную ответственность.
Эти меры позволяли поддерживать в Китае в течение многих веков чистоту боевой монашеской традиции. А вот относительный либерализм японских сект Тэндай и Дзэн, откуда и выходили сохэй, в конце концов привел монахов-бойцов к духовному обнищанию.
Воинская подготовка: к тайнам вселенской пустоты
Простой трезвый взгляд на натуру человека показывает, что ему так же свойственно драться, как хищным зверям кусаться, рогатым животным бодаться. Человек – «дерущееся животное». Но поистине жестоко внушать нации или какому-нибудь классу, что полученный удар – ужасное несчастье, за которое следует отплачивать убийством.
Артур Шопенгауэр
«Познать пути всех профессий»
Воинская подготовка самураев была, пожалуй, наиболее разработанной частью жизни воинов. Огромное внимание обращалось не только на то, что делается, но на то, как делается, – с каким внутренним состоянием самурай пускает стрелу из лука или наносит удар мечом. А это значит, что здесь наряду с прикладной ценностью боевого искусства царили ритуал и символический жест.
Сегодня уже стало привычным называть самурайское фехтование на мечах «кэндо», стрельбу из лука – «кюдо», а весь комплекс японских боевых искусств – «будо». При этом авторы многих специальных работ не раз обращали внимание на то, что в этих терминах присутствует иероглиф «до» – «путь», а отсюда делался вывод о некоем мистическом смысле воинских искусств. Значительно менее известно, что термин «до», или в другом чтении «мити», стал использоваться для обозначения самурайских боевых искусств достаточно поздно – не ранее XVIII в. Вместо него практически на всём протяжении самурайской истории использовался иероглиф «дзюцу» – «искусство». До середины ХIХ в. весь комплекс боевых искусств Японии назывался «бу-дзюцу», что дословно и означает «боевые искусства» (по-китайски – «ушу»). Лишь затем под воздействием, с одной стороны, дзэнской эстетики и философии, с другой, – благодаря приданию боевым искусствам духовного содержания стал использоваться термин «будо» – «боевой путь», или «путь воина».