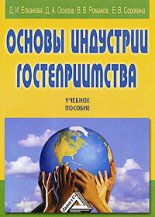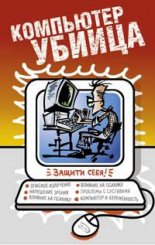Особый ребенок. Исследования и опыт помощи. Вып. 5 Сборник статей

© Авторы, 2018
© Т. Атнашев, М. Велижев, А. Зорин, составление, 2018
© К. Гусарова, Е. Заболотская, А. Потемкин, перевод, 2018
© OOO «Новое литературное обозрение», 2018
Светлой памяти Бориса Владимировича Дубина и Виктора Марковича Живова
«Особый путь»: от идеологии к методу
Тимур Атнашев, Михаил Велижев
Представление об «особом пути» развития России традиционно считается одной из самых «коренных» черт отечественного исторического самосознания. В настоящем сборнике мы предпримем попытку не только развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и недолгую общеевропейскую судьбу метафоры, но и показать возможности ее продуктивного использования как матрицы одной из современных историографических методологий. Мы продолжаем разработку тематики «Sonderweg», предложенную в сборнике под редакцией Э. А. Паина, в котором проводится сравнение немецкого и российского опыта [Паин 2010]. Более того, мы предлагаем пойти несколько дальше. Для нас значимы не только прямые аналогии и различия между общественной ролью метафоры «особого пути» в России и Германии XX века, но и научная дискуссия в Западной Европе и США, развернувшаяся вокруг развития историографических теорий «Sonderweg» как одних из наиболее адекватных способов осмысления более широкой проблематики модерности и траекторий модернизации западных и незападных обществ[1].
Концепт «особый путь» интересен сложной структурой собственного исторического генезиса. Само понятие «Sonderweg», «особый путь», артикулировалось в немецком политическом языке достаточно поздно – во второй половине XIX века – и первоначально заключало в себе прежде всего положительные коннотации[2]. После объединения Германии в 1870 году стало возможно рассуждать о цельном историческом сценарии развития прежде многочисленных немецких государств и к тому же в весьма выгодном для немцев свете. Во-первых, граждане новой «большой» Германии, подобно русским ощущавшие себя жителями значимой, но периферийной европейской империи, нашли формулу для выражения собственной исключительности. Так, немцы отличались от западных соседей тем, что обладали особенной интеллектуальной культурой (Kultur, Bildung) и четко выстроенной университетской системой, отдавали предпочтение ценностям «умственным» в противовес «материализму» более развитых в техническом отношении государств Западной Европы (Zivilisation) [Fisch 1992]. Оппозиция «культуры» и «цивилизации» сформировалась еще на рубеже XVIII–XIX веков, а во второй половине XIX столетия – в контексте идеологической программы О. фон Бисмарка – к культурной составляющей немецкого «Sonderweg» прибавилась управленческая: в этой интерпретации Германии оказался присущ особый тип государственности, предусматривавший доминанту монархической власти, опиравшейся на сильный и развитый бюрократический аппарат и армию, – опять-таки в оппозиции к традициям западного парламентаризма и практикам публичных общественных дискуссий. Разумеется, речь шла о чистой мифологии, однако мифологии чрезвычайно влиятельной.
Само появление концепции «Sonderweg» стало результатом интеллектуального переворота рубежа XVIII–XIX столетий, сделавшего возможным интерпретацию европейской политики как соперничества наций, каждая из которых имела собственный, ни с чем не сопоставимый путь развития. В идейном смысле рассматриваемая здесь теория национальной идентичности была впервые сформулирована в 1780е годы, прежде всего в многотомном труде И. Г. Гердера «Идеи к философии истории человечества» [Гердер 1977]. Гердер обосновал точку зрения, согласно которой не существует по определению «варварских» и «образованных» народов, каждая нация имеет свой «особый» путь, предопределенный божественным провиденциальным сценарием. Более того, нации развиваются с разной скоростью: если в настоящем некий народ располагается на относительно низкой ступени развития, то такое положение не является приговором и свидетельствует скорее о небольшом возрасте этого народа. Наоборот, в будущем «молодую» нацию ожидают расцвет и «зрелость», в то время как народы, находящиеся ныне на высшей стадии, затем будут лишь «стареть». Кроме того, для иллюстрации собственной теории Гердер активно использовал чрезвычайно эффективную риторическую стратегию: рассуждая о судьбе народов, он постоянно прибегал к органицистским метафорам, заложившим основу нового политического словаря, которому была суждена долгая жизнь[3]. Таким образом, набор интеллектуальных и языковых ходов, которые предложил Гердер, был призван решить проблему символического «исключения» Германии из семьи прогрессивных народов – благодаря радикальному пересмотру общей историософской линии эпохи Просвещения, внутри которой дистанция между варварскими и цивилизованными нациями зачастую виделась непреодолимой и едва ли не онтологической[4].
Сопоставление национальной жизни с траекторией органического роста оказалось продуктивным по нескольким причинам. Прежде всего, оно общедоступным образом истолковывало (в первую очередь в религиозном ключе) базовую идею национализма: народы, подобно растениям, проходят несколько фиксированных стадий роста: рождение, юность, зрелость, старость и смерть. Фазы развития различных народов не совпадают во времени, так что история каждой нации уникальна подобно жизненной траектории отдельного организма. Кроме того, органицистские метафоры несли в себе мощный заряд легитимации: история народов уподоблялась природным явлениям, имеющим универсальный и «вечный» характер. Важно, что очерченная идеологическая линия не потеряла силы в ходе кризиса религиозной концепции мироздания середины XIX века: в рамках естественно-научной структуры знания значение органицистских метафор ничуть не снижалось – национальное бытие, прежде трактовавшееся в терминах божественной воли, теперь оказывалось подчинено не менее «железной» логике биологического развития.
В политическом отношении языковая инновация утвердилась благодаря наполеоновским войнам. Невиданное по масштабам унижение европейских монархий ускорило кристаллизацию националистической теории. В 1806 году по вине Бонапарта распалась почти тысячелетняя Священная Римская империя германской нации, а в 1812м иностранная армия впервые за двести лет заняла Москву. Столь масштабные потрясения потребовали новых адаптационных схем – немецкие, а затем и русские идеологи того времени должны были, по сути, решить одну, но крайне значимую проблему: осмыслить, «изобрести» нацию в обход конкретных условий функционирования государственной системы. Именно в этом контексте оказалась актуальной предложенная Гердером и развитая И. Г. Фихте и братьями Шлегелями концепция [Зорин 2001: 352–359]: исключительность и самобытность немцев базировалась на особой культуре, которую нельзя завоевать мечом. Плачевное состояние германских княжеств в таком случае не являлось фатальным. В России быстро восприняли разработанные в немецком политическом языке концепты: благо уникальные успехи русской и союзной армий в 1812–1815 годах давали возможность успешно выстроить новую национальную идентичность, в том числе и на старых имперских основаниях, предусматривавших акцент на чисто военном доминировании. Настоящими «варварами» оказались французы, а русские и немцы, напротив, продемонстрировали «стойкость духа», основанную на культивировании собственного языка и традиции, что обеспечило им итоговую победу. Концепция «особого пути» прекрасно вписывалась в разные идеологические «сценарии власти»: консервативный, поскольку представления об «особости» основывались на идее эстафетности прогресса и на тщательной заботе о традиционных ценностях, и реформистский, так как «запаздывающее развитие» периферийных европейских наций предусматривало резкий взлет в будущем и быстрое преодоление дистанции между «восточными» и «западными» нардами – в том числе и в результате особых «трансформационных рывков».
Таким образом, история «Sonderweg» состоит из двух этапов: во-первых, появления на рубеже XVIII–XIX веков целого набора представлений о национальной самобытности и, во-вторых, возникновения в конце XIX столетия концепта «особого пути», который в историографии второй половины XX века становится основой компаративного метода. Наконец, следует сказать, что понятие «особый путь» актуализировало метафору, история которой насчитывает более двух тысячелетий. Интерпретация человеческой жизни и, шире, исторического континуума в терминах «пути» имеет библейское происхождение. Гердеровская концепция коренилась в христианской картине мира, что расширяло границы ее применимости – каждая из трех христианских конфессий могла адаптировать схему согласно своим представлениям. Привычка размышлять об истории (народа или человеческой души) в категориях начала пути, его развития, логики и окончания возникла задолго до появления на европейской политической сцене национальных государств и формирования соответствующих идеологий. Таким образом, классическая идиома «пути» имеет свою особенную историю, сыгравшую немаловажную роль в популяризации и распространении концепта «Sonderweg» в XIX столетии.
Статьи первой части нашего сборника иллюстрируют историю понятия «особый путь» на российском материале. Работа В. М. Живова посвящена раннему этапу функционирования концептуальной модели, связанной с представлениями о «пути», – в данном случае сценария индивидуального спасения, важнейшего для человека Средневековья и раннего Нового времени. Перспектива спасения формировала восприятие христианином собственной жизни как «пути», ее этапов и итогов, а базовой практикой, регулировавшей взаимоотношения человека с Богом, служила исповедь. Между тем специфика исповедальных и покаянных практик в православной России XVII–XVIII веков заключалась в их крайне слабой институционализации и, в общем, в необязательном характере их исполнения, что предопределило особенный взгляд русского человека на спасение души. Спасение, отмечает исследователь, осмыслялось в России не столько в терминах «западной» интериоризации социальных запретов, описанных Н. Элиасом, или с помощью разработанного индивидуального исповедального нарратива, сколько в духе коллективной ответственности за совершенные грехи и глубинного сочувствия к грешникам. Слабо структурированный тип личности, присущий притом людям разных социальных страт, в XIX веке заложил основу огромной (местами даже нелогичной в свете реформаторских усилий русского правительства и образованного меньшинства) популярности общинных форм землевладения и общинной идеологии. С точки зрения Живова, относительно недавнее по времени формирование теории русского национализма (в том числе в романах и публицистике Ф. М. Достоевского с его идеей «всеобщего греха») оказывается непосредственно связанным с формированием индивидуального сознания в раннее Новое время. Специфический «путь» православного спасения служит базой для дальнейшего идеологического конструирования национальной идентичности, а логика избранничества русского народа подпитывается принципиальным неразличением частного и общественного, восходящим к религиозным практикам того времени, когда границы категории «русский» очерчивались иначе, чем в XIX веке.
Статья М. Б. Велижева посвящена истории представлений об «особом пути» в 1830е годы, в период формирования официальной национальной идеологии. В центре исследовательского фокуса находятся концепции исторического развития России, сформулированные во второй половине 1836 года, когда в печати появляется первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Само словосочетание «особый путь» участниками дискуссии не употреблялось, однако концепция «особого пути» или метафорика «пути» в дебатах явно присутствовала. Отметим, что речь идет о специфической полемике – не публичном споре интеллектуалов, а о скрытом, но яростном столкновении между идеологами николаевского царствования – митрополитом Московским и Коломенским Филаретом (Дроздовым), министром народного просвещения С. С. Уваровым и начальником III отделения А. Х. Бенкендорфом. В юбилейный для правления Николая I год каждый из идеологов сформулировал свою версию истории России, фактически развив одну из составляющих уваровской триады – «православие – самодержавие – народность», которая, таким образом, обнаружила внутренний полемический потенциал. Именно в этом контексте и публикуется первое «Философическое письмо» Чаадаева – текст, ставший классическим и радикальным выражением концепции «особого пути» и послуживший начальным пунктом длительной дискуссии, актуальной и по сей день.
Следующий материал сборника – статья Ш. Видеркера – суммирует отдельные влиятельные концепции русского «особого пути», сформулированные на протяжении XIX и в начале XX века уже вне связи с конкретными историческими кейсами. Речь идет о четырех системах мысли: славянофильстве, панславизме, аграрном социализме (народничестве) и евразийстве. Работа Видеркера ясно показывает, что базовым для формирования представлений об «особом пути» России оказывается концепт «самобытности», своего рода «пустое», «полое» понятие, которое каждое из этих интеллектуальных движений стремится обосновать и наполнить собственным содержанием.
Т. Эммонс анализирует дебаты вокруг «особого пути» России в ту самую эпоху, когда в Германии окончательно кристаллизуется представление о немецком «Sonderweg». Он рассматривает научные труды П. Н. Милюкова, посвященные России и «своеобразию» ее исторического развития. Сам по себе случай Милюкова (1859–1943) чрезвычайно любопытен. Он прожил долгую жизнь; как следствие, он участвовал в полемиках, которые мы привыкли относить к совершенно разным временам и контекстам. Биография Милюкова разделена надвое событиями 1917 года. В дореволюционный период он приобрел репутацию одного из самых ярких русских историков и политиков, будучи лидером Конституционно-демократической партии и министром иностранных дел во Временном правительстве. И если в конце XIX века он вел дискуссию со славянофилами и социалистами, выступая с позиции убежденного западника-либерала, то после 1917 года, уже в вынужденной эмиграции, оппонентами Милюкова становятся советские идеологи и евразийцы.
Интерпретация «особого пути» России в работах Милюкова интересна именно тем, что, подобно многим немецким историкам XX века, ее автор пережил и осмыслил историческую катастрофу, существенно скорректировавшую его первоначально оптимистические взгляды на русскую национальную исключительность. После Первой мировой войны и прихода к власти большевиков традиционная схема исторического развития России как страны, последовательно идущей к европейскому типу правления с системой парламентаризма и активным общественным мнением, а равным образом и как государства, бережно хранящего консервативную утопию общинности, оказалась демонтирована. Милюков столкнулся с новыми вызовами, которые проблематизировали прежнюю убежденность в российской уникальности. В новых условиях осмысление функций советской власти в русской истории вновь выявило поливалентность концепта «особый путь». Так, многие евразийцы были убеждены в том, что действия большевиков логично вписываются в модернизационный проект, инициированный и начатый Петром I. Милюков, в свою очередь, считал, что прежняя «европоцентричная» концепция русского исторического пути не выглядит более релевантной, и пытался преодолеть возникшее противоречие с помощью старых формул «своеобразия», на сей раз заключавшегося в особой восточно-европейской форме российской идентичности.
По всей видимости, именно здесь мы и сталкиваемся с различием в восприятии концепта «Sonderweg» в России и Германии. Немецкое общество и германские гуманитарии после Второй мировой войны сумели переосмыслить исторический опыт и создали, как мы увидим, состоятельную с научной точки зрения историографию «Sonderweg», основанную на идее методически последовательного сравнения истории Германии и соседних европейских государств. В России же восприятие собственного прошлого как «самобытнго» и «особого» в исключительно позитивном или исключительно негативном смысле до сих пор остается чрезвычайно устойчивым, несмотря на масштабные изменения, затронувшие в XX и XXI веках почти все слои российского общества.
Концепция «Sonderweg» в России интересна тем, что до сих пор служит влиятельным политическим брендом. Последние два материала первой части сборника (статьи Т. М. Атнашева и Б. В. Дубина) интерпретируют недавнюю историю понятия «особый путь» – в контексте перестройки и постсоветской истории России. В этих исследованиях данный концепт уже функционирует в своей окончательной форме – как сложившийся элемент политического языка, который к тому же взаимодействует с более широким понятийным рядом, состоящим из идиом, обыгрывающих представление о современной истории как пути. После 1987 года Советский Союз пережил короткий период невиданного в XX столетии расцвета политического языка, когда цензура оказалась радикально ослабленной и широкая общественность после многих десятилетий идеологических репрессий получила возможность открыто обсуждать собственное будущее. Атнашев показывает, как политическая публицистика в ведущих журналах разрабатывала метафорику «особого пути» в специфическом контексте перестройки. Политический язык этого периода актуализовал идиомы «исторического выбора» и «исторической альтернативы», которые в то время мыслились как возможность выбраться из «исторического тупика», где оказался советский социализм во второй половине 1980х.
Характерна концептуальная рамка, сквозь которую большинство перестроечных авторов смотрят на развитие страны в конце XX века: несмотря на футурологичность общего вектора, популярными становятся метафоры, связанные с «развилкой» или «перепутьем». «Развилка», в частности, предполагала возвращение к истокам исторического отклонения, к тому моменту, когда государство пошло «неправильным» путем. Поиски «правильного» социалистического пути всецело занимали умы современников М. С. Горбачева в 1987–1988 годах – и этой чертой ранняя перестроечная риторика вписывалась в традиционный советский политический язык. Дальнейшая эволюция публичной дискуссии и политическая борьба значительно расширили спектр обсуждаемых вариантов общественного устройства в будущем, все еще понимаемых как упущенные возможности прошлого. В конце перестройки «особый путь» представлялся скорее как негативный образ отклонения от «нормального европейского пути». К идиоме «выбора пути» добавилось представление о том, что естественно-историческая эволюция почти безболезненно ведет народы, не совершающие своевольного насилия над историей, к прогрессу. Это идеализированное представление с неожиданной легкостью игнорировало столетия европейских революций, жесткой политической борьбы, межнациональных и гражданских войн и катастрофы первой половины XX века, предшествовавшие мирной консолидации «большой» Европы.
Если статья Атнашева свидетельствует о продуктивном методологическом вкладе истории политических языков кембриджского типа [Атнашев 2015] в историю концепта «особый путь», то в работе Дубина мы имеем дело с социологическим взглядом на понятие «национальной исключительности». Анализируя результаты социологических опросов, Дубин показывает, что в России рубежа XX–XXI веков вновь обрели популярность элементы концепции «Sonderweg», актуальные для довоенной Германии: во-первых, четкое различение между («правильными») традиционными российскими и («чуждыми») западными ценностями; во-вторых, доминирование государства, а не общественных институтов в повседневной жизни российского населения; в-третьих, «массовидный характер социума», в котором коллективное «мы» более значимо, чем индивидуальное «я». Восприятие истории в рамках подобного рода представлений носит фатальный характер: не мы владеем историей, но история владеет нами, мы – жертвы истории, неспособные ничего изменить в своей стране, поскольку Россия «всегда» управлялась авторитарным образом, с помощью «сильной руки». На смену перестроечному «выбору путей» приходят «особость» и исключительность «нашего» пути, а основным денотатом, или носителем «особости», ныне выступает советское державное прошлое. При этом ориентация на прошлое устраняет реформистский потенциал метафоры, поскольку, как считает Дубин, в России концепт «особый путь» функционирует как отчетливо консервативное понятие, как «системный ограничитель модернизации».
Современная история словосочетания «особый путь» демонстрирует, что в России идеология исторического «запаздывания» служит, пользуясь выражением Дубина, «базовым механизмом самоидентификации», а не «исторической фазой». В этом отношении немецкая версия «Sonderweg» свидетельствовала о претензии на собственное видение модерности и на превосходство в соревновании моделей. Советский Союз демонстрировал сходную претензию. В 2000е годы официальная российская риторика также в целом находилась в этой рамке. Однако в последние годы в России метафора «особого пути» используется как обоснование отказа от задач модернизации, от необходимости социального и экономического соперничества с более сильными агентами, оставляя только задачу отражения военных угроз. Переход от соревнования с передовыми образцами к отрицанию самой задачи исторического развития представляется новым для российской исторической эволюции последних трехсот лет.
Три первые статьи второй части сборника дают представление об одном из ключевых эпизодов истории послевоенной немецкой историографии, когда критическое и рефлексивное использование метафоры «особый путь» задало продуктивную исследовательскую повестку, связанную с особым типом сравнительной методологии. Одновременно компаративный подход позволил историкам оказать целенаправленное влияние на общественно-политическую дискуссию, в значительной мере сохранив необходимую дистанцию и автономию научного суждения.
Компаративная перспектива, центральная для немецкой историографии второй половины XX века, недостаточно хорошо знакома в России, несмотря на ее сходство с дискуссиями о советском прошлом в период перестройки. В статье классика немецкой послевоенной историографии Ю. Коки предлагается последовательная академическая апология обновленного варианта теории «особого пути». Авторы, которых Кока относит к адептам этой теории, включая и его самого, искали ответ на вопрос о причинах краха Веймарской республики и нацистской катастрофы в Германии в сравнительной перспективе, указывая на национальные особенности, которые привели страну к нацизму. В дальнейшем исследователи перешли от исходной гипотезы об уникальности негативных черт общественного развития Германии к полноценному анализу общих с западноевропейскими странами аспектов и особенных элементов немецкой истории. Кока отмечает амбивалентность понятия «Sonderweg», которое после войны чаще употреблялось противниками этого историографического направления в полемических целях, при том что значительное количество ученых, отвечавших на вопрос о причинах прихода нацистов к власти, сами этот концепт не использовали.
Автор приводит образцы академической критики сравнительного направления в историографии, связанного с анализом немецкого прошлого в свете западноевропейской нормы: 1) неочевидность самой исторической «нормы» (был ли «единый» путь у Франции и Англии?); 2) фактическое опровержение предполагаемых аспектов немецкой особости (слабость буржуазии, сила земельной аристократии); 3) указание на общеевропейские факторы и тенденции, которые привели к власти фашистские режимы. Однако по совокупности факторов Кока высказывается в пользу эвристической продуктивности и состоятельности критического варианта теории «особого пути». В его интерпретации эмпирически наиболее значимым оказывается совпадение социально-политических кризисов, связанных с одновременностью формирования национального государства, перехода к современной политической системе и социальных последствий индустриализации. Историк также обращает внимание на связь этого критического подхода с личным «жизненным опытом» и политической рефлексией двух поколений исследователей, что подтверждает структурное значение вопроса опричинах катастрофы. В конце Кока показывает методологическую значимость и границы сравнительной перспективы в рамках критической теории «особого пути». В своем поиске историки, как правило, склонны к асимметричному сравнению, когда собственная страна превалирует над эскизным и идеализированным «Западом». Максимально возможное симметричное сравнение поможет создать более точную и менее идеологизированную историю «особых путей». Вывод Коки указывает, в частности, на воздействие работ британских ученых, получивших широкий отклик в Германии в начале 1980х годов.
Предисловие ко второму, немецкому, изданию книги британских исследователей Д. Блэкборна и Дж. Эли «Особенности немецкой истории» дает представление об одной из наиболее острых полемических фаз не только академической, но и общественной дискуссии, связанной с пересмотром критического варианта теории «особого пути» в немецкой и европейской историографии. Авторы анализируют сформировавшиеся в ФРГ устойчивые представления о значении прусской бюрократии и армии или о роли «немецкого ума» при создании нацистского режима, которые препятствуют ведению современного и методологически ответственного исторического исследования. Первым пунктом их повестки является тезис о невозможности четко сформулировать историческую «норму», от которой якобы отклонилась немецкая траектория. Каждая национальная история при ближайшем рассмотрении оказывается во многом уникальной, что, впрочем, не делает сравнение невозможным. В Великобритании, которую в большинстве западноевропейских стран воспринимают как образец и универсальную норму, идет своя интенсивная общественная и академическая дискуссия о «характерных особенностях» англичан. Во-вторых, исключительно критическая направленность таких сравнений представляется Блэкборну и Эли чрезмерной. Они прямо называют ошибочным «взгляд, беспрестанно пытающийся выявить ущербность некой национальной истории по сравнению с идеализированными историями других стран». При этом, показывая чрезмерную автоматизацию мышления многих историков и критикуя «новую ортодоксию» в немецкой науке о прошлом, авторы говорят скорее о необходимости более точной расстановки акцентов, чем о смене вектора.
Утверждая исторические сравнения как историографический метод, Блэкборн и Эли подробно разбирают и релятивизируют вывод об «особенности» немецкого пути – представление об относительной слабости немецкой буржуазии в XIX и начале XX века. Британские историки отдают отчет в политических и идеологических последствиях своей позиции, которую часть немецких авторов восприняла как своего рода индульгенцию за преступления нацизма (раз нацизм – это исключение из в целом «нормальной» европейской истории Германии, то Германии не следует ставить «вину» в центр собственной идентичности). Они подчеркивают, что их политические взгляды скорее совпадают с позицией историков, чьи труды они критикуют методологически, в частности Коки и Х. – У. Велера. То обстоятельство, что немецкий путь, приведший к нацизму, не так сильно отличался от пути «нормальных» стран Запада, не означает косвенной апологии нацизма и не снимает морально-политическую ответственность с немецкого общества. 1933–1945 годы не были ни полной случайностью, ни роковой закономерностью, а стали конкретной и трагической констелляцией факторов и действий исторических акторов. Этот вывод приводит исследователей к необходимости сочетать методы понимающей герменевтики действий отдельных субъектов и анализа безличных социальных структур.
Третья статья «западного блока» сборника представляет еще одного ключевого участника дискуссии послевоенного периода об «особом пути» Германии – Велера. Он прямо отвечает на книгу двух британских историков. Он разводит позиции соавторов, резко критикуя макронарратив Эли и в целом соглашаясь с анализом Блэкборна, основанным, по его мнению, на взвешенном и последовательном сравнении. По Велеру, Эли смотрит на немецкую историю в контексте Запада сквозь призму своей собственной постмарксистской догмы о губительности «внутренней логики монополистического капитализма». Напротив, использование Блэкборном более симметрического и критического сравнительного метода позволяет развеять мифы как о немецких «особенностях», так и о британской «норме» в том, что касается социально-экономического статуса и политической роли буржуазии в Новое время. Во второй части статьи Велер дает собственный обзор ключевых примеров, убеждающих в большей продуктивности фокуса на особенности немецкой эволюции. Новым здесь оказывается внимание как к положительным, так и к отрицательным аспектам этих исторических особенностей.
Велер указывает, в частности, на уникальный опыт создания немецких университетов и на раннее и устойчивое развитие эффективной современной бюрократии, которое одновременно создало основу как для «опережения» Германией США в обеспечении социальных прав трудящихся, так и для политической готовности бюрократии поддержать нацизм. В методологическом выводе Велер близок к предыдущим трем авторам: «Только результаты, способные выдержать пытку сравнением как единственной непревзойденной заменой естественно-научного эксперимента, дают надежные сведения о транснациональном или национальном характере проблем». Пользуясь веберовской терминологией, Велер принимает разные ценностные установки (желание изучать уникальность национального опыта, его универсальность или связь с более общими факторами), но указывает на условие научной значимости выводов – императивную необходимость эмпирического сравнения.
Статья Б. Штольберг-Рилингер дает прекрасную иллюстрацию послевоенной немецкой дискуссии о степени уникальности национальной исторической траектории на примере частного случая, связанного с поздним периодом существования Священной Римской империи. Для Штольберг-Рилингер исходной методологической посылкой оказывается представление об истории Европы как о «собрании примеров особых путей развития», при которой исследователь, разумеется, сосредоточен на уникальных аспектах, уже без вмененной немцам необходимости быть «вечным обидным исключением». Автор указывает на то, что нынешний историографический мейнстрим представляет Священную Римскую империю как своеобразный прототип современного федерального государства, основанного на единстве закона и широкой автономии отдельных его частей. Ключевой тезис Штольберг-Рилингер основан на анализе обрядово-церемониального характера империи в поздний период, позволявшего компенсировать отсутствие военной, политической и экономической мощи централизованного государства. Автор рассматривает обряд и обычай как более раннюю форму обеспечения социального порядка и уважения к закону. Уникальным здесь представляется именно длительная по историческим меркам чувствительность к церемониям, подчеркивавшим власть и функции императора, особенно в то время, когда остальные инструменты этой власти постепенно исчезали. Как подчеркивает исследователь, ключевая функция имперского полухимерического государства заключалась в наделении легитимностью документов на права владения немецкими княжествами, в частности в процессе соответствующего церемониала. В германском историческом наследии Штольберг-Рилингер видит оригинальную практику достижения согласия и даже коллективного действия, основанную на доюридических формах церемонии.
К. Йордаки открывает российскому читателю интеллектуальную историю румынского фашистского движения «Легион Архангела Михаила» в широком сравнительном контексте. Он подробно рассматривает особое место этой идеологической ветви в «семье» европейского фашизма и вслед за Р. Гриффином характеризует ее как «палингенетическую форму популистского ультранационализма» [Griffin 1991: 26]. Идеология движения была разработана Корнелиу Кодряну, студентом первого выпуска элитного военно-религиозного училища в монастыре Дялу. Само училище, основанное в 1912 году и финансировавшееся государством, выражало особый характер формирующегося румынского национального самосознания, сочетавшего почитание предков, культ армии и православие. В дальнейшем румынская православная церковь оказалась в сложных отношениях с движением и его хаизматическим лидером, претендовавшим на новое героическое и мистическое прочтение христианства. При этом Йордаки показывает, что училище и движение Кодряну было основано на передовых для того времени идеях и практических формах «новой педагогики», заимствованных у британских и французских авторов. Основная задача движения заключалась в формировании «нового человека» – легионера, способного к самопожертвованию и нацеленного на возрождение нации и человечества через повторение или воспроизведение подвига Христа, понимаемого как готовность к смерти. Фактически речь шла о необычной форме политического движения, сочетавшего в себе признаки партии, религиозной секты, террористической организации и университета.
В идеологическом смысле Кодряну также произвел уникальный синтез религиозных православных традиций, романтической европейской идеи палингенезии (духовного и физического возрождения народов и человечества через подражание Христу), историософии циклов упадка и прогресса Дж. Б. Вико, героики недавно сформированного румынского пантеона (Михай и Архангел Михаил) и, наконец, языческих мотивов, восходящих к культуре древних даков. Одновременно Кодряну открыто противопоставлял свой проект большевизму, понимаемому в терминах еврейского заговора против христианской европейской традиции. В более поздних интерпретациях движение предстает залогом исполнения Румынией великой экуменической миссии спасения и возрождения человечества, которое через подвиг легионеров обретет единство. Тень этого мрачного и величественного проекта, сакрализующего политику, указывает на возможные драматические альтернативы языческому фашизму в Германии и Италии. Йордаки дает чрезвычайно богатую и сложную картину складывания румынского национализма и особой формы румынского фашизма, методологически фундированную широкой сравнительной перспективой и историей транснациональных влияний и заимствований.
Как читатель сможет заметить, в настоящем сборнике мы стремимся представить три разных подхода к исследованию проблематики «особого пути». Во-первых, в ряде статей «особый путь» рассматривается как объект исследования и как часть идеологического дискурса в ряде европейских стран, прежде всего – в Германии и России. В определенные исторические периоды идеология особости позволяла национальным элитам занять более активную позицию в политическом поле. По сути, обращение к идеологии исключительности становилось ответом на конкуренцию нормативных и институциональных моделей, имевших репутацию более передовых и успешных. Ключевой посыл «Sonderweg» заключался в обосновании амбиции Германии, претендовавшей на собственный путь к модерности, во многом превосходящий «нормальный» путь Англии, Франции и США как с точки зрения институтов, так и с точки зрения ценностей.
В современной России при идеологическом использовании метафоры «особого пути» реакция на предъявляемые внешние нормы более успешных стран оборачивается отказом от желания превзойти «соперников» или скорректировать представления о характеристиках правильного направления развития. Речь идет скорее об отказе от исторического соревнования, поскольку «передовые» страны на самом деле не опережают Россию, но сами сбились с пути. Впрочем, конкретные причины исторической деградации Запада никем не анализируются, а особенности собственного пути не фигурируют в качестве новой нормы. Предполагается, что развитие ведет не к прогрессу, а к порче и катастрофе. В этом смысле более точным описанием современной российской идеологии могло бы служить противопоставление героической консервации ценностей (удержание нации в неподвижности) движению исторического распада. Классический немецкий «Sonderweg» начала XX века, в период, предшествовавший нацистской катастрофе, в глазах его адептов был лучшим путем к модерности, альтернативным западному (для Германии речь тогда шла прежде всего о Франции и Великобритании). Напротив, современные российские трактовки «особого пути» обосновывают необходимость ухода от магистральной колеи истории, ведущей Запад к краху. России следует переждать кризис не столько на «особом», сколько на «запасном» «пути». Эти две крайности, разумеется, не исчерпывают исторического репертуара значений русского «Sonderweg», но показывают идеологическую продуктивность и востребованность метафоры в общественной дискуссии. Сомнения в своей европейской идентичности, отождествление с Востоком и противопоставление собственной богатой национальной культуры материализму коммерческих обществ оказываются общими для ранних фаз освоения современных капиталистических отношений в Германии, Румынии и России.
Во-вторых, в сборнике представлены работы, в которых метафора «особого пути» становится основой историографической методологии. При переходе от идеологии к методологии исторических исследований мы, как правило, видим своеобразное переворачивание нормативных полюсов, которое в немецкой и российской ситуациях основано на критическом переосмыслении историками устойчивых общественных идеологем. В рамках компаративного исследовательского подхода «особенность» понимается как «отсталость» или, в немецком и отчасти в позднесоветском случаях, как «катастрофа», требующая анализа исторической траектории развития страны. Тогда становится необходимо выявить факторы, приведшие к упадку, часто по контрасту с историей других государств, переживших более успешную историческую эволюцию. Последовательное и внимательное сравнение направлено на идентификацию ключевых факторов отличия, которые могут помочь объяснить расхождение между «нормальными» сценариями и катастрофическим (или особым) путем. В Германии компаративная перспектива создала почву для интенсивной и продуктивной историографической дискуссии на высоком интеллектуальном и методологическом уровне, сыгравшей важную роль в коллективной работе над осмыслением опыта нацистской катастрофы.
В современной России еще рано говорить о начале дебатов, по значимости сопоставимых с немецким обсуждением итогов и предпосылок Второй мировой войны. Дискуссии эпохи перестройки, во многом наивные, не стали основой для последовательной реализации типологически схожей исследовательской программы, которая бы позволила подвергнуть критической ревизии основания государственной политики прошлого. Статьи отечественных историков и социологов в настоящем сборнике тем не менее демонстрируют новые возможности для использования перспективы «особого пути» как основы критического историографического метода. Так, последовательно развернутая сравнительная перспектива позволила перейти от телеологической гипотезы о коренном зле национальной немецкой истории к продуктивной дискуссии о влиянии конкретных социальных институтов, факторов и политических решений на трансформацию Германии в Третий рейх. Ретроспективно путь к радикальному злу оказался не столь исключительным и не столь предопределенным национальным характером. Вывод о банальности зла не означает его апологии; он показывает, что источники нацизма более глубоки и универсальны, чем это представлялось в негативной версии «Sonderweg», прямо выводящей нацизм из «недостатков» немецких социальных институтов.
Использование метафоры «особого пути» как предпосылки для сравнительной историографии национал-социализма в Германии в конечном счете привело к появлению нового, третьего, подхода, предполагающего множественность исторических траекторий развития, а также важность трансферов и фактов взаимных влияний. Новая сравнительная методология предполагает частичное размагничивание и снятие жестких нормативных оппозиций («Запад – Восток», «модерность – архаика», «прогресс – регресс», «норма – отклонение», «случайность – предначертанность»). Речь, однако, не идет ни о признании принципиальной несопоставимости и уникальности каждой национальной траектории, ни о невозможности сопоставления. Наиболее адекватным инструментом для такого анализа служит, с нашей точки зрения, конструирование исторической нормы модерности в терминах «семейного сходства» Л. Витгенштейна[5], а не определение «сущности» явления в классической интерпретации Платона. В этой логике речь идет не об одном или двух критериях, жестко определяющих современность (например, «всеобщая грамотность» или «независимый суд»), а о большом количестве характеристик, ни одна из которых не является решающей, но комбинация которых задает большее или меньшее портретное сходство. Так, мы можем определять модерность как набор из десятка различных черт. Всякая национальная траектория перехода к модерности содержит только часть общего набора свойств, а конкретная комбинация этих черт в каждом конкретном случае окажется уникальной. Например, конкурентная многопартийная система в Японии возникает существенно позже, чем урбанизация и индустриализация, но вряд ли на этом основании можно утверждать, что Япония в 1990 году была домодерным обществом. Важно, что «семейное сходство» может определяться комбинацией как позитивных, так и негативных характеристик.
Итак, первая версия немецкого «Sonderweg» выражала претензию Германии на первенство над Западом. Вторая, негативная интерпретация «особого пути» возникла в ранней немецкой послевоенной историографии, которая искала причины катастрофы национал-социализма в уникальных особенностях немецких институтов и в идеологии XIX века. Третья версия «Sonderweg», основанная на систематическом сравнительном подходе, утверждает уникальность каждой национальной истории[6]. Третий подход в целом отличается более высоким уровнем рефлексии над методологией сравнительных исследований и акцентом на полинациональном характере исторического процесса. Речь идет о ныне популярной транснациональной истории: transnational history превратилась в бренд, подобный, например, intellectual history. Транснациональная история обычно понимается в двух разных смыслах: во-первых, как типовое название для трудов по глобальной, или мировой, истории, во-вторых, как самостоятельная исследовательская парадигма, предполагающая особое видение историографического объекта.
В 1980–1990е годы традиционная компаративистика подверглась критике со стороны ученых, которые занимались не long-term-процессами социальной истории, но фактами более динамичной и «краткой» истории культурной. Самым известным из них стал М. Эспань, предложивший теорию трансферов – культурных, политических, экономических и др. Он утверждает, что прежние сравнительно-исторические исследования строились по ложной методологической схеме. Во-первых, они лишь внешне преодолевали замкнутость национальных традиций, поскольку единицами сравнения в рамках компаративной модели по-прежнему оставались национальные кейсы. Сопоставление нескольких отдельно взятых и изолированных случаев на деле не приводило к преодолению национальных границ в историографии. Во-вторых, подобная методологическая программа носила излишне конструктивистский характер – рука исследователя, искусственно создававшего объект своего анализа, оказывалась здесь слишком заметной. Вместо статичных национальных кейсов, по мнению Эспаня, необходимо исследовать процессы культурной коммуникации – прежде всего стихийно возникавшие трансферы, обмены информацией, идеями, человеческими ресурсами, знаниями, в которых фигурировали конкретные агенты, адаптировавшие практики одного культурного пространства в другом [Espagne 1989] (см. также: [Дмитриева 2011]).
В 1990–2000е годы наряду с теорией трансферов возникает transnational history, histoire croise или entangled history [Werner, Zimmerman 2006; Вернер, Циммерман 2007]. Сторонники нового подхода утверждают, что теории трансферов все же не удалось избавиться от «грехов» ее предшественницы – компаративной истории. Трансферы по-прежнему подразумевают национальный уровень, на котором проходит коммуникация. Транснациональный подход сделал следующий шаг – историки, например М. Вернер, говоря прежде всего о Европе, показывают, что национальные границы в принципе – понятие проблематичное. На смену национальным сообществам приходит концепт «networks», «сетей», внутри которых происходит коммуникация и границы которых не знают предписанного государственной географией деления. Европейское культурное пространство предстает в виде перекрещивающихся коммуникативных «сетей», в которых «национальное» на концептуальном уровне, конечно, не исчезает, но интегрируется в новую сложную структуру обмена информацией и практиками. В новой концепции понятие «Sonderweg» становится анахроничным и относительным, поскольку здесь никакого изолированного «особого» пути развития по определению быть не может. История «Sonderweg» становится историей «Sonderwege», «путей», которые конструируются с оглядкой на концепции «особости» в других культурных контекстах: так, например, история русского «особого пути» немыслима вне ее немецкого первоисточника. Возникает новая перспектива – изучения того, как циркулировавшие в Европе «сети» предопределили трансляцию идеи национальной исключительности из одного культурного и политического пространства в другое. Как известно, нет ничего более транснационального, чем национальная история.
Histoire croise, что существенно, вовсе не отменяет достижений прежних подходов. Так, Кока подчеркивает в своих работах, что сравнение имеет ряд достоинств и недостатков. Историческое сопоставление, по его словам, всегда будет асимметричным: мы чаще всего обращаемся к другому контексту не ради него самого, но чтобы лучше понять собственный «национальный» феномен. Впрочем, полностью «симметричное» сравнение едва ли возможно – оно потребует колоссального объема знаний об иной культуре, который часто недоступен одному-единственному человеку. Из этого затруднения, однако, не следует, что мы должны отказаться от компаративной идеи как таковой: используя сравнение, мы должны отдавать себе отчет в его границах[7].
Основу настоящей публикации составили материалы двух научных семинаров, один из которых прошел в РАНХиГС в 2011 году, второй – в Оксфордском университете в 2012м. К огромному сожалению, двое из авторов сборника – Борис Владимирович Дубин и Виктор Маркович Живов – не дожили до его выхода в печать. Их светлой памяти мы и посвящаем нашу книгу.
[Атнашев 2015] – Атнашев Т. Реформаторы в поисках языка: Книга Егора Гайдара «Государство и эволюция» // Новое литературное обозрение. 2015. № 135. С. 119–139.
[Вернер, Циммерман 2007] – Вернер М., Циммерман Б. После компаратива: Histoire croise и вызов рефлективности / Пер. с англ. М. Могильнер // Ab Imperio. 2007. № 2. С. 59–90.
[Витгенштейн 1994] – Витгенштейн Л. Философские работы: В 2 т. / Пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. М., 1994.
[Гердер 1977] – Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / Пер. с нем. А. В. Михайлова. М., 1977.
[Дмитриева 2011] – Дмитриева Е. Е. Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных исследованиях: Оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы. 2011. № 4. С. 302–313.
[Дэвид-Фокс 2016] – Дэвид-Фокс М. Модерность в России и СССР: Отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? / Пер. с англ. Т. Пирусской // Новое литературное обозрение. 2016. № 140. С. 19–44.
[Зорин 2001] – Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла…: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой четверти XIX века. М., 2001.
[Паин 2010] – Идеология «особого пути» в России и Германии: Истоки, содержание, последствия / Под ред. Э. А. Паина. М., 2010.
[Espagne 1989] – Espagne M. Les transferts culturelles franco-allemands. Paris, 1989.
[Fisch 1992] – Fisch J. Zivilisation, Kultur // Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / Hg. von O. Brunner, W. Conze und R. Koselleck. Bd. 7. Stuttgart, 1992. S. 679–774.
[Griffin 1991] – Griffin R. The Nature of Fascism. New York, 1991.
[Haupt, Kocka 2009] – Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives / Ed. byH. – G. Haupt and J. Kocka. New York; Oxford, 2009.
[Pnisson 1992] – Pnisson P. Johann Gottfried Herder: La raison dans les peuples. Paris, 1992.
[Werner, Zimmerman 2006] – Werner M., Zimmerman B. Beyond Comparison: Histoire Croise and the Challenge of Reflexivity // History and Theory. 2006. Vol. 45. № 1. P. 30–50.
«Особый путь России» – идея трансформационного прорыва в русской культуре[8]
Андрей Зорин
Дискурс романтического национализма, основанный на эссенциалистских категориях вроде «национального характера», «народной души» или исторической миссии того или иного народа, выглядит в сегодняшней исторической науке шокирующе архаично. Серьезные исследователи давно рассматривают эти концепты как формы конструкции культурных идентичностей, возникающих на том или ином этапе исторического развития обществ и государств.
В то же время идеологии, основанные на интеллектуальном наследии романтического национализма, сохраняют силу и привлекательность в современной России, заново пересматривающей свое имперское прошлое и пытающейся построить национальное государство на основаниях по-прежнему не ясных ни большинству населения, ни политическим и интеллектуальным элитам. Разговоры об «исторической судьбе» России, ее «месте в мире», «уникальной духовности» и сравнительных достоинствах и недостатках ее «отсталости» по сравнению с «Западом», начавшиеся в 1830е годы во время злополучной полемики западников и славянофилов, не только не прекратились в XXI веке, но и приобрели особую популярность.
В предваряющей настоящий сборник статье Т. Атнашева и М. Велижева, а также во включенных в него работах немецких исследователей отмечено, что идеология романтического национализма возникла в конце XVIII века в Германии в качестве основы для воссоединения страны. Идея существования немецкого народа как единого целого была сначала сформулирована в культурной области, а потом перенесена в политическую. Гердер, впервые эксплицировавший мысль о нации как о коллективной личности, особо подчеркивал роль фольклора, языка и словесности как выражения души народа и объединяющей силы, свидетельствующей о немецком единстве вопреки политической и религиозной фрагментации Германии. В рамках этой идеологии была сформулирована и концепция национального поэта как выразителя сокровенных чаяний народного духа. В Германии на роль такого поэта постепенно выдвинулся Гёте, несмотря на то что сам он неизменно критически относился к националистическим упованиям и так называемому «языковому патриотизму» («Schprachpatriotismus») своих почитателей. Представление о народе как об органическом единстве было нацелено на то, чтобы подорвать французскую культурную гегемонию, характерную для культуры европейского Просвещения.
Очевидно, что политическая и культурная ситуация в России была совершенно иной. В отличие от разделенной Германии она была централизованной полиэтнической империей, достигшей в первые десятилетия XIX века небывалого могущества, по крайней мере в военной сфере. Тем не менее целый ряд политических, социальных и культурных предпосылок сделал Россию и прежде всего ее интеллектуальную элиту особенно восприимчивыми к модной идеологии, возникшей в Германии и стремительно покорявшей всю Европу.
В последних исследованиях В. М. Живова, в том числе в его статье, которая публикуется в этом сборнике, подчеркивается резкое отличие русской и, шире, восточнохристианской сотериологии, то есть учения о спасении, от представлений, распространенных в западном христианстве. Если в католичестве было принято тщательно подсчитывать и взвешивать совершенные человеком грехи и по возможности искупать их покаянием, молитвой, исполнением наложенных епитимий, добрыми делами и пр., то в православной традиции такого рода бухгалтерский учет совершенного добра и зла оказывается более или менее бессмысленным – перед лицом Божьего промысла любые надежды заслужить спасение собственными силами представляют собой наивную самонадеянность, если не грех гордыни, а уповать можно только на безграничность Господнего милосердия и святых заступников. Как пишет Живов, православный человек возлагал надежды не на систематические усилия, позволяющие искупить совершенные грехи и в какой-то мере уберечься от несовершенных, но на единичный акт покаяния, мистическое преображение, которому суждено случиться перед смертью. В то же время своего рода прообраз грядущего блаженства можно было увидеть в монастыре, где немногие избранные уже при жизни обретали своего рода подобие земного рая и преддверие небесного. Контраст между небесной красотой обители и убожеством окружающего ее мира служил зримым воплощением грядущей трансформации.
Петровский модернизационный проект придал этому образу мистического преображения секулярное и государственное измерение. Предполагалось, что подвергнуться радикальной трансформации должны были не отдельные люди, но страна в целом, и что произойти такая трансформация должна не в загробном мире, а в посюстороннем историческом времени. В «Слове на погребение Петра Великого» его ближайший сподвижник Феофан Прокопович назвал императора «виновником бесчисленных благополучий наших и радостей, воскресившим аки от мертвых Россию и воздвигшим в толикую силу и славу». Одушевлявший реформы дух творения ex nihilo, созидания бытия из небытия единым актом преобразовательной воли государя более чем знакм русскому читателю по вступлению к «Медному всаднику».
Кратко выделим лишь два аспекта петровских преобразований, существенных для данной темы. Во-первых, это создание особого, утопического пространства, новой столицы, что сам император в очевидном противоречии чудовищному климату избранной им местности называл «Парадизом». Прокопович восхвалял Петра за то, что «древяную он обрете Россию, а сотвори златую», между тем петровские указы запрещали каменное строительство за пределами Петербурга, делая остальную страну еще более «деревянной», чем она была прежде. В мистической реальности, формируемой царем-преобразователем и его идеологами, подлинно значимым был только главный город, будущий или даже нынешний Парадиз.
Точно так же решался вопрос создания нового человека, который должен был населить этот рай. Социальную элиту переодели, побрили и под страхом свирепейших наказаний заставили завести европейские бытовые привычки. Само собой разумеется, более 90 % населения выглядели по-старому и жили традиционной жизнью, но именно на их фоне европеизированное петербургское дворянство, готовое войти в новый мир, смотрелось особенно выразительно.
Эта идеологическая модель сохраняла силу на протяжении примерно века. Проблема положения и статуса России по отношению к Западу неизменно беспокоила ее элиту, однако первоначальная трактовка этой проблемы была относительно спокойной. Предполагалось, что Россия существенно отстает от Запада, но, будучи «молодой страной», она может рассчитывать на историю как на союзника и стремительно сокращает накопившийся разрыв. Над рабским подражанием западной моде и обыкновениям было принято смеяться, но сама по себе необходимость учиться у более передовых государств выглядела очевидной и никем не оспаривалась, по крайней мере до Французской революции, а в основном, если оставить за скобками пылкую галлофобию Шишкова и его последователей, и после нее. Только после наполеоновских войн, когда пути российского государства и русского образованного общества начали стремительно расходиться, этот оптимистический и в целом общепринятый подход уступает месту набору различных и взаимоконфликтных идеологий.
Принято считать, что дискуссия об особом пути России была начата публикацией первого «Философического письма» Петра Чаадаева в 1836 году. Согласно Чаадаеву, Россия изза ошибочного выбора восточного христианства в качестве государственной религии оказалась отрезана и от католического Запада, и от исламского Востока и не сумела стать органической частью ни одной из великих мировых цивилизаций.
Чаадаев настаивал на том, что ни у народа, ни у гсударства в России вообще не было истории. Еще более эксцентрическим выглядело его утверждение, что Запад даже после реформации и Французской революции обладает духовным единством, основанным на католицизме. Сугубая серьезность, с которой власть и общество восприняли этот странный и исполненный кричащих противоречий текст, находилась в явном и очевидном противоречии с его вызывающе провокационным характером.
Как известно, провокация удалась сверх всяких чаяний: чаадаевское письмо стимулировало беспрецедентный всплеск рефлексии о пути России и ее исторической уникальности. Как показывает на страницах этой книги М. Велижев, публикация первого «Философического письма» совпала по времени с распространением новой официальной идеологии российской империи – идеологии «православие – самодержавие – народность», сформулированной министром народного просвещения Сергеем Уваровым. Уваров определял русскую «народность» субъективно-психологически: ее проявлением оказывалась вера в догмы господствующей церкви и приверженность принципам политического порядка, спасшего Россию от деградации, которую переживал современный Запад.
Эти две исходно конфликтные доктрины были дополнены идеологиями славянофильства и западничества, окончательно оформившимися в ходе салонных дискуссий вокруг чаадаевского письма, выразительно описанных в «Былом и думах». С точки зрения западников, только завершив процесс вестернизации, Россия могла надеяться на то, чтобы успешно конкурировать с европейскими соседями не только в военном, но и в политическом, экономическом и культурном отношении. Напротив того, славянофилы верили в «особый путь» России, основанный на ее допетровском наследии, православной духовности и общинном духе.
Таким образом, спектр идеологических позиций по поводу миссии России и ее места в мире может быть систематизирован на основании ответов, которые давали приверженцы той или иной идеологии на два базовых вопроса: 1) сравнима ли в принципе Россия с Западом, или у нее есть свой особый путь развития и уникальная миссия; 2) уступают ли российские традиции и обычаи западным или превосходят их?
Представленный набор идеологических альтернатив до сих пор определяет тональность политических дискуссий в России, хотя со времен романтического национализма существенно изменилось понимание самой категории «Запад». Если в 1830–1840е годы это слово было более или менее синонимично понятию «Европа», то теперь оно по преимуществу обозначает США, заменившие в русском общественном сознании Францию в качестве идеального воплощения «западных» ценностей и мировосприятия. Другим важным изменением стало возникновение евразийства – движения, рассматривающего Россию не как часть Европы и не как особую культурную монаду, но как центр более широкого сообщества восточных народов. Однако эта идеологическая модель осталась скорее достоянием интеллектуалов и пока не нашла широкого отклика в общественном сознании, несмотря на усиливающийся в последние годы интерес к ней со стороны государственной власти.
Само собой разумеется, режим дискуссии был «асимметричным». Приверженцы официальной идеологии не только имели в своем распоряжении все каналы для ее распространения, но и обладали возможностью контролировать выражение иных позиций через цензуру и прямые полицейские репрессии. Напротив того, их оппонентам приходилось довольствоваться беседами в закрытых салонах и кружках, рукописями, а также намеками и аллюзиями в сочинениях, предназначенных для публикации. Решающая роль здесь принадлежала литературе и ее критическим интерпретациям.
В течение двух столетий основополагающие произведения русской литературы были закреплены в сознании поколений благодаря школьной программе. Практика школьного преподавания родной словесности также возникла в 1830е годы и была тесно связана с возникающим культом поэзии как воплощением национального духа. Если идеология романтического национализма поставила канон литературной классики в центр русской культуры, то сам этот канон обеспечил породившей его идеологической парадигме столь завидное долголетие.
Именно литературные критики становятся главными фигурами в первой публичной полемике о миссии и исторической судьбе России, развернувшейся вокруг «Мертвых душ» (1842). Как это всегда бывает с великими книгами, поэма Гоголя давала основание для различных и даже противоположных прочтений, и приверженцы разных идеологических доктрин поторопились зачислить писателя в свои сторонники. Споры развернулись, в частности, о том, представляет ли собой гоголевское творение свирепое обличение или же безудержный апофеоз России. Во всяком случае, предложенная Гоголем модель русской исключительности сохранила значение до сегодняшнего дня поверх любых идеологических барьеров и водоразделов.
Изображенной в поэме стране «мертвых душ» предстояло, по Гоголю, мистическое возрождение, причем ослепительный прорыв к будущему величию был уготован России не столько несмотря на ее нынешнюю грховность, сколько именно благодаря ей. Религиозные корни этой идеи вполне очевидны – мысль о том, что последним суждено стать первыми, имеет евангельское происхождение. И все же Гоголь интерпретировал эту мысль в русле романтического национализма и применил не к отдельному человеку, но к народу как органическому целому.
Полет птицы-тройки в конце первой части «Мертвых душ» только намекал на грядущее преображение Российской империи в идеальную общину, а ее обитателей – в достойных граждан земного Эдема. Гоголь намеревался в деталях изобразить это превращение во второй и третьей частях. Исследователи давно установили, что план поэмы был ориентирован на композицию «Божественной комедии» Данте, однако тот, отправляя свое литературное alter ego путешествовать по всему загробному миру, никогда не представлял себе, что ад может в результате мистической трансформации преобразиться в рай.
Окончательного воплощения замыслы Гоголя не получили. Из-за недовольства собой и сдержанной реакции первых слушателей писатель дважды сжигал вторую часть поэмы и умер, так и не приступив к написанию третьей. В любом случае современная ему критика, занятая текущими проблемами и журнальными баталиями, едва ли была бы в состоянии оценить этот грандиозный замысел. И все же в своем видении прошлого, настоящего и будущего России Гоголь был не одинок. Интересней всего то, что примерно в том же направлении развивалась и мысль Чаадаева.
В 1837 году, через год после роковой публикации «Философического письма», Чаадаев написал «Апологию безумного», где перешел от негативного мессианизма своего предшествующего опыта к позитивному. Мы уже никогда достоверно не узнаем, какие мотивы стояли за этой сменой вех. Возможно, Чаадаев хотел оправдать себя в глазах общества, а потом, возможно, и властей, он мог искренне изменить собственные взгляды, а мог и рассматривать свою новую точку зрения как естественный вывод из предшествующей. Известно лишь, что «Апология…» не внесла в его статус никаких изменений, она осталась неопубликованной, и цензурный запрет с имени автора так и не был снят.
В любом случае Чаадаев в «Апологии…» не стал отказываться от прежних диатриб в адрес России. Подобной автополемике он предпочел гораздо более эксцентрический ход – утверждение, что дальнейшие размышления над волновавшим его предметом привели его к выводу, что будущее России более прекрасно, чем это можно себе вообразить:
Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия. <…> у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества.
Стоит заметить, что в финале «Апологии безумного» содержится резкая критика Гоголя. Чаадаев сравнил всеобщее осуждение его письма с восторженным приемом, оказанным монархом и обществом «Ревизору», комедии, в которой пороки российского общества оказались подвержены столь же уничтожающей критике. Вероятно, Чаадаев видел в Гоголе своего основного и более удачливого соперника в дискуссии об исторической судьбе России и ее грядущем назначении.
Таким образом, в конце 1830х – начале 1840х годов Чаадаев и Гоголь независимо друг от друга сформулировали фундаментальную идею, согласно которой главное преимущество России состояло в ее отсталости, и предсказали своей стране трансформационный прорыв, который однажды поможет ей возглавить всемирное содружество держав. Эта идея оказалась необычайно привлекательна для мыслителей, писателей и политиков, во всех остальных отношениях совершенно несхожих друг с другом и даже занимавших противоположные позиции. Большинство из них ожидали, что такой трансформационный прорыв совершится в самом ближайшем будущем, и рассчитывали стать его свидетелями.
В 1854 году, во время Крымской войны, окончившейся для России унизительным поражением, из-под пера одного из главных идеологов славянофильства – Алексея Хомякова вышло страстное обличение собственной страны, на первый взгляд плохо согласующееся с его патриотическими упованиями:
- В судах черна неправдой черной
- И игом рабства клеймена;
- Безбожной лести, лжи тлетворной,
- И лени мертвой и позорной,
- И всякой мерзости полна!
Однако эта пылкая инвектива завершалась совершенно естественным для автора выводом: «О, недостойная избранья, / Ты избран!»
Если Гоголь верил, что птица-тройка унесет Чичикова из ада в рай, но не смог найти художественные средства, чтобы изобразить это путешествие, то Достоевский посвятил бльшую часть творчества описанию маятниковых движений человеческой души между добром и злом. В его первом большом романе «Преступление и наказание» убийца становится мучеником, а по пути духовного возрождения его ведет святая проститутка. Герой «Братьев Карамазовых» поражался тому, как в человеческой душе «идеал Мадонны» сочетается с «идеалом содомским».
Знаменитые слова Дмитрия Карамазова: «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил» – очень часто (десятки тысяч примеров такого рода можно отыскать в сети) цитируются как «широк русский человек». Таким образом, предпринятый Достоевским анализ человеческой природы оказывается характеристикой «русской души». Впрочем, эти два истолкования не противоречат друг другу, поскольку писатель воспринимал русскую душу как идеальное воплощение человеческой природы. С точки зрения Достоевского, русский человек достаточно широк, чтобы принимать и примирять в себе все национальные психеи.
Эта идея получила наиболее полное выражение в так называемой «Пушкинской речи» Достоевского, произнесенной в Москве в июне 1880 года на открытии памятника Пушкину за полгода до смерти Достоевского и ставшей его завещанием. К тому времени статус Пушкина как национального поэта был уже полностью закреплен в общественном сознании, и в соответствии с традициями романтического национализма Достоевскому надо было вывести свои умозаключения о судьбе и миссии России из произведений ее величайшего творца.
Представить самого космополитичного из русских поэтов в качестве эмблемы «русской особости» было нелегкой задачей. Но Достоевскому удалось найти сильное и элегантное решение. Он увидел особый характер Пушкина, а следственно, и России во «всецело русской, национальной способности» понимать другие народы лучше, чем те способны понимать себя сами, – способности, составляющей «великое утешение для нас в нашем будущем, великую и, может быть, величайшую надежду нашу, светящую нам впереди».
Понятно, что в этом анализе есть и отчетливое политическое измерение: народ, способный понять душу любого другого народа, является естественным лидером всемирной системы государств. Прославление отзывчивости пушкинского гения оказывается едва прикрытой легитимацией империалистических устремлений. Достоевский вполне сознавал, что Россия по европейским меркам представляет собой бедную и отсталую страну, и в обозримом будущем он не ожидал для нее благополучия и процветания. Чтобы обосновать мысль о величии России, он предпочел подтвердить свой анализ поэзии Пушкина цитатой из другого великого русского поэта и воинствующего империалиста, Федора Тютчева: «Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю „в рабском виде исходил благословляя“ Христос. Почему же нам не вместить последнего слова его?»
Парадоксальным образом эту позицию разделяли мыслители, находившиеся на противоположном фланге русской общественной мысли. Такой, казалось бы, далекий от религиозного мистицизма автор, как Чернышевский, был убежден, что революционный дух русского крестьянства неизбежно принесет его стране избавление, и в финале написанного в тюремной камере романа «Что делать?» изобразил победоносную революцию, которая должна была произойи в России уже через два года.
Другой русский радикал, Александр Герцен, под конец жизни глубоко разочаровавшийся в буржуазном Западе, возлагал последние надежды на русскую крестьянскую общину, в которой видел прообраз грядущего социалистического общества. В конце XIX века подобные воззрения отличали взгляды так называемых «народников», но и такой убежденный критик народничества, как Ленин, полагал, что прорыв цепи капиталистических государств произойдет в слабейшем звене и что в силу своей отсталости Россия может дать толчок всемирной социалистической революции. Как образованный марксист-догматик, Ленин не мог не видеть, в какой мере его мысль противоречит духу и букве экономического детерминизма, но обаяние идеи трансформационного прорыва было для него сильней, чем логика марксистской ортодоксии.
Представления идеологических оппонентов о природе и характере трансформационного прорыва могли быть совершенно противоположными, но большинство из них соглашались с тем, что такой прорыв, во-первых, возможен, а во-вторых, желателен, и были заворожены его величием и размахом.
Еще в начале XIX века господствующим «мифом основания» русской истории становятся не петровские преобразования, выступавшие в этом качестве на протяжении ста предшествующих лет, но эпоха Смутного времени, польское пленение Москвы, изгнание поляков ополчением Минина и Пожарского и начало династии Романовых. Катастрофа Смуты и крушение российской государственности сменяются, согласно этой идеологической модели, воцарением избранной Богом династии, а в долгосрочной исторической перспективе – расцветом России, покорившей некогда господствовавшую над ней Польшу. К 1830м годам в сознании большинства образованных русских сформировалась устойчивая параллель между событиями начала XVII века и наполеоновскими войнами начала XIX столетия, когда Москва вновь была захвачена вражеской армией, а потом, пережив пожар, воскресла, и русская армия закончила свою кампанию в Париже.
В свою очередь, война 1812 года, образ которой был закреплен в национальном сознании великим романом Толстого, стала мифологическим прототипом другой, еще более великой победы 1945 года. Сами официальные обозначения обеих войн как «Отечественной» и «Великой Отечественной» связали их в единый нарратив, причем параллель с тщательно спланированным отступлением 1812 года придавала страшным поражениям 1941 года провиденциальный облик. Однако в обоих случаях неизменной оставалась основная сюжетная структура – величайшая победа вырастала из катастрофы, поставившей страну на грань гибели.
Монументальному превращению разбитого, оккупированного государства в державу-победительницу предшествовала не менее впечатляющая трансформация, запущенная социалистической революцией, которая должна была, по замыслу ее лидеров, преобразовать отсталую аграрную страну в авангардное коммунистическое государство будущего. Само собой разумеется, коммунистическая идеология не была российским изобретением, но ее грандиозный успех на русской почве был во многом связан с утопическим обещанием сделать последних первыми – превратить угнетенные классы в полновластных хозяев жизни.
Исходно прорыв цепи капиталистических государств в слабейшем звене должен был стать началом мировой революции, но постепенно эта цель стала отодвигаться в неопределенное будущее, а обещанный рай стал сжиматься и локализовываться в масштабах «одной отдельно взятой страны», а потом в пределах административных границ закрытых городов или Московской кольцевой автодороги. Знаменитый лозунг брежневских времен о превращении Москвы в образцовый коммунистический город был анекдотическим выражением этой логики.
Райскому миру должен был соответствовать человек, достойный жить в этом будущем. Идеологема «формирование нового человека» была одной из центральных в коммунистической мифологии, и в конечном счете этот «новый человек» оказался представителем отстраиваемой элиты – государственно-партийной номенклатуры, заселявшей элитные дома, поселки и районы, а также инженерно-технической интеллигенции, которая жила и работала в закрытых городах на оборону страны. Свирепый конфликт между этими двумя частями советской элиты и привел к крушению коммунистического строя в СССР.
Антикоммунистическая революция 1989–1991 годов проходила под лозунгами превращения России в «нормальную страну» и присоединения ко всему «цивилизованному миру» и осмыслялась ее сторонниками и идеологами как безусловная антитеза революции 1917 года с ее милленаристскими фантазиями и несбыточными обещаниями. Однако модель молниеносного трансформационного прорыва из темного прошлого в светлое будущее сохранила привлекательность. Приведем лишь один пример. В своем последнем «Обращении к гражданам России» 31 декабря 1999 года первый президент РФ Б. Н. Ельцин, объявляя об отставке, в частности сказал:
Прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом, одним знаком сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, одним рывком – и все одолеем. Одним рывком не получилось. В чем-то я оказался слишком наивным.
Разумеется, Ельцин, лидер, одержавший победы практически во всех политических битвах, сумевший переиграть всех своих оппонентов, провести страну через неслыханные потрясения и сдать ее избранному им преемнику, менее всего может быть заподозрен в наивности. Но и невозможно подозревать его в неискренности – просто слишком сильны были господствовавшие в культуре идеологемы, позволявшие надеяться шагнуть в будущее «одним рывком, одним махом, одним знаком». Судя по масштабам наступившего разочарования, надежды президента разделяла и значительная, если не подавляющая часть его соотечественников.
Особенно любопытны слова «одним знаком», прозвучавшие в первой трансляции обращения и вырезанные из последующих. Возможно, Ельцин просто оговорился, и все же представляется, что эти слова в любом случае показательны. Прыжок из «тоталитарного прошлого» в «цивилизованное будущее» определяется символическим актом смены идеологических ориентиров.
Влияние идеологии трансформационного рывка отражается и в нынешних дискуссиях, где едва ли не все непримиримые оппоненты объединены чувством надвигающейся катастрофы, хотя совершенно по-разному видят ее причины и способы предотвращения. Как показано в публикуемой здесь статье Б. В. Дубина, концепция «особого пути», ставшая сегодня практически государственной идеологией, пользуется широкой общественной поддержкой. Неудача попытки стать «нормальной страной» привела к новому расцвету идеи возврата к национальным, религиозным и нравственным ценностям.
Ее оппоненты нередко указывают на мифологизированный характер этих ценностей, их слабую укорененность как в современном российском государственном быту и повседневной жизни, так и в национальной истории. Однако ссылки на официальную статистику или на исторические документы никого не убеждают. Воинствующие традиционалисты, которые по не вполне ясной причине сегодня любят называть себя консерваторами, не хуже остальных осведомлены о положении вещей, а нередко и оценивают его еще более резко. Истинная Россия, которую они взыскуют, находится не в эмпирической реальности, их окружающей, и даже не в мифологизированном прошлом, которым они не слишком интересуются, но в мистическом пространстве последнего преображения. Чем ужасней и беспросветней сегодняшний день, чем сильней и коварней враги, тем удивительней и наглядней станет полет птицы-тройки.
Часть I
«Особый путь»: российский контекст
Особый путь и пути спасения в России
Виктор Живов© В. М. Живов, наследники
Памяти моих берклийских коллег Мартина Малии и Николая Валентиновича Рязановского, беседы с которыми будили ум и бередили душу.
Особый путь. Спасение на Западе и на Востоке. Когда именно и кто именно выходит наособый путь – это коварный вопрос, поскольку он сразу вводит в игру несколько больших общеисторических проблем, не имеющих простого решения. По особому пути шествуют обычно нации, а нации, как мы сейчас думаем, появляются на исторической арене весьма поздно, когда «народ» становится исходным понятием в легитимации власти (см. классическую книгу Бенедикта Андерсона: [Anderson 1991]). Это случается где-то в окрестностях Великой французской революции, хотя хор наций выходит на сцену не сразу, а с перерывами: один выход может отстоять от другого на несколько десятилетий (о России в этом процессе см.: [Martin 1997; Живов 2008 а]). Конечно, мы говорим сейчас о «цивилизованном мире» и игнорируем, забыв о политической корректности, различные постколониальные нации и тем самым пользуемся – эксплицитно или имплицитно – еще одним проблематичным понятием.
Разные историки интерпретируют «цивилизованный мир» по-разному, и большинство – в силу тенденциозной расплывчатости этого концепта – предпочитает вовсе не иметь с ним дело. Оно бы и хорошо, но особый путь имеет в пресуппозиции неособый путь, а неособый путь – это и есть главный путь «цивилизованного мира», магистральная дорога, по которой движется человечество. Если рассуждать в терминах культурно-политического градиента – понятия фундаментального для исторического видения Мартина Малии[9], – как «Sonderweg», так и «Особый путь» располагаются на восточных склонах этого градиента, там, где цивилизация приближается к варварству, а практическая политическая деятельность теснится эстетикой этатистской утопии. В этом контексте «Особый путь» – это дискурсивная манипуляция, призванная трансформировать отсталость из недостатка в достоинство. Она закономерным образом появляется в контексте романтического национализма и располагается на платформе, созданной такими понятиями, как Volksgeist, русская душа и русский бог.
Таким образом, мы можем ответить на вопрос, кто и когда выходит на особый путь, но этот ответ в определенном смысле формалистичен, ограничен в своем содержании. Потому что и «Sonderweg», и «Особый путь» – это не только манипуляция смыслами актуального политического дискурса, но и конструирование прошлого. И этот конструкт, надо полагать, составлен не только из слов, имевших хождение в момент его появления, но и из реальных элементов прошлого, имеющих независимое бытие, а в процессе конструирования лишь переосмысленных и приспособленных к актуальной дискурсивной задаче. С этими концептами дело обстоит так же, как и с самим понятием нации. Национальная идентичность не выскакивает, как Джек из коробки, а перетасовывает (перетасовка и составляет новизну) в новой комбинации элементы предшествующих идентичностей; в этом отношении у национальной идентичности есть историческое прошлое и реальное историческое содержание [Armstrong 1982] (ср. также: [Riasanovsky 2005]). То же самое и с особым путем. Каким бы манипулятивным ни было его конструирование, оно, по крайней мере отчасти, основано на реальных исторических элементах, на содержательных особенностях тех обществ, которые ставятся в преемственную связь с идущей особым путем нацией.
Некоторые из этих исторических элементов и станут предметом настоящей работы. Конечно, отнюдь не все из них могут быть определены как «русские», как особенности культуры русского этноса в разные периоды его существования. Картина сложнее. Особенности разных социумов наслаиваются друг на друга и образуют своеобразный конгломерат, и их соотнесенность с русской нацией обусловлена множественной идентичностью того общества, которое в XIX веке осознало себя в этом новом «национальном» качестве. Его «русскость» образуется несколькими составляющими. Я прослежу образование одного такого конгломерата, на мой взгляд, обладающего кардинальным значением для формирования «особого пути» России. Этот конгломерат образуется представлениями о спасении и оказывается достаточно многослойным.
Его первый слой – восточнохристианский, он достается русским вместе с православием и как элемент православной идентичности оказывается одной из составляющих формирующейся позднее русской национальной идентичности. Православие на Руси с самого начала оказывается не таким православием, как в Византии или на славянском Юге, и поэтому на специфику восточного христианства накладывается специфика его восточнославянской рецепции, так что к «греческой» вере добавляется «русская» вера; и она тоже продуцирует отдельную идентичность (весьма заметную, например, когда русские авторы ставят под подозрение чистоту греческого православия), также оказывающуюся составляющей занимающего нас конгломерата. Поверх этих двух слоев располагается по крайней мере еще один, определяющийся государственной политикой России в XVII–XVIII веках, когда государственные институты пытаются, ориентируясь на Запад, взять под контроль социальные и религиозные практики православного населения. Реализация этой политики создает особые отношения между обществом и властью, между индивидуальной духовностью и институциональной религией. И эти особенности, появляющиеся уже в Новое время, включаются в формирующуюся национальную идентичность. Она собирается как бы в виде конуса; фрагменты исторической реальности, из которых составляется особый путь, располагаются в своего рода сужающемся фокусе, двигающемся по хронологической шкале и захватывающем все более узкий сектор человечества.
Поскольку ранние слои той исторической реальности, которая захватывается конструированием русского особого пути, относятся к поздней Античности и Средневековью, то есть оформляются за много веков до секуляризационных процессов Нового времени[10], они принадлежат к тому периоду, когда ничего важнее спасения у людей не было, так что сотериологические представления были основой жизни, ядром, от которого зависели едва ли не все прочие аспекты религиозно (или культурно) мотивируемого поведения. И эти же представления в той или иной переработке определяли и экзистенциальные стратегии тех «цивилизованных» обществ, которые формировались в Новое время, – тезис, сделавшийся тривиальным после фундаментальных работ Макса Вебера [Weber 1980; Вебер 1990] (как бы ни относиться к частностям веберовских построений). Люди жили в преддверии вечной жизни, в преддверии Страшного суда, на котором решались не проблемы быстротекущего существования, а обстоятельства вечного пребывания души: краткие миги земного прозябания детерминировали немыслимые долготы потустороннего бытия. Земная жизнь была подготовкой к вечной.
В чем состоит эта подготовка, хорошо известно из Св. Писания и патристической литературы – сколь бы спорными ни были отдельные детали. Путь в рай пролегает через аскетические подвиги или по крайней мере через веру, благочестивую жизнь, добрые дела и сокрушение сердечное. Разные христианские традиции различаются тем, на какую из составляющих спасения обращается больше внимания. В рай входят через тесные врата, хотя и в данном случае теснота этих врат видится по-разному христианам разных деноминаций, разных эпох и разного религиозного статуса. О том, в какой пропорции разделятся христиане на стоящих одесную овец и на стоящих ошуюю козлищ (Мф. 25: 32–33), существуют разные мнения, и эти представления крайне важны для характеристики религиозной культуры. Религиозные наставники, понятным образом, склонны изображать эти врата достаточно тесными, чтобы их паства знала, что с ними будет, если они не одумаются и не станут вести себя благочестиво; реакция паствы менее однообразна.
О том, что спастись удастся немногим, пишут разные христианские авторы и в католической, и в православной, и в протестантской традициях. Фома Аквинский даже аргументирует соответствие такой ситуации замыслу божественного творения: «Состояние вечного блаженства, заключающееся в созерцании Бога, превышает природное, особенно в силу того, что порча первородного греха приносит безблагодатность; поэтому лишь немногие спасутся». Поскольку это сразу же ставит вопрос о милосердии Божием, Фома продолжает: «А милосердие Божие более всего очевидно в том, что многиеиз тех, кого Он предназначил к спасению, не дотягивают до Него по природному движению и склонностям» (Summa theologiae, pars 1, quest. 23, art. 7 [Thomas Aquinas 1967: 136]). Трактовка осужденных на адские муки как большинства человечества особенно присуща апокалиптической литературе [Bauckham 1990: 188–190]. По понятным соображениям тема малочисленности спасающихся становится особенно популярной в период Контрреформации. У русских, конечно, не находится богословской аргументации, подобной рассуждениям Фомы, но устрашающие сведения о ничтожном количестве удостаивающихся спасения встречаются и в восточнохристианской традиции. Так, в «Вопросах апостола Варфоломея» (Евангелии Варфоломея), раннем апокрифическом тексте, фрагменты которого известны и в славянском переводе [Quasten 1983: 127], содержится следующий диалог между Христом и Варфоломеем:
I реч Валъфромi: «Гси, колико дшь из мира сего исходит на днь?» I реч Iссъ: «7000». <…> I реч Валъфромi: «Гси, аще 7000 точью исходтъ з мира сего, колико дшь тхъ праведных бртаетс». I реч Iссъ: «два 8» [Кушелев-Безбородко 1862: 110].
Традиция таких текстов, пугающих верующего человека и заставляющих его со страхом думать о загробной судьбе, хотя и периферийна для православия, однако прослеживается на протяжении веков[11].
Такое понимание спасения (предполагающее его малодоступность) отнюдь не было универсальным. Оно неплохо документировано, поскольку производители текстов, разъясняющих пути спасения, в основном принадлежали к активной части духовенства и монашества, и именно они были заинтересованы в устрашении своих подопечных. Насколько их страх и трепет передавался их пастве, труднее оценить: слышание куда хуже запечатлевается в источниках, чем говорение. Ясно, что в разных местах и в разные эпохи ситуация была различной, и это зависело от многих факторов: от разработанности механизмов воздействия на паству, от духа того времени, когда звучала подобная проповедь, от личности проповедника. Как мы увидим ниже, православная Россия отличалась в этом отношении от Запада (как до Реформации, так и после нее). Как бы то ни было, в большинстве христианских традиций говорится и о милосердии Божием, без которого невозможно спастись и которое позволяет попасть в рай не только праведнику, но и грешнику, особенно в случае искреннего покаяния. Образцы такого спасения имеются в Св. Писании; наиболее важный из них – благоразумный разбойник, грешивший всю жизнь, но покаявшийся на кресте, сказавший Христу: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии си» и получивший от Бога Слова обетование: «Днесь со мною будеши в раи» (Лк. 23: 42–43)[12].
В разных христианских традициях это внеинституциональное спасение, опирающееся на чудо, заступничество святых, действие священных предметов и т. д., играет разную роль. Спасение в разной степени институциализировано и в разной степени контролируемо. Эти различия, возникающие еще в поздней Античности, оказывают непосредственное воздействие на всю фактуру социальной жизни и, в частности, на занимающий нас феномен трансляции религиозного устрашения от наставников к наставляемым. Святость, праведность и спасение образуют на Востоке иную конфигурацию, чем на Западе [Zhivov 2010b]. Противополагая Западную и Восточную церковь в поздней Античности, Питер Браун писал о том, что на Западе святость была куда более институциализирована, чем на Востоке. По его мнению, уже в V веке
Восточная церковь вступила на путь, который для средневекового западного наблюдателя выглядел как «кризис перепроизводства» святости. Куда большее число людей воспринималось как носители или агенты сверхъестественного на земле и в куда большем разнообразии ситуаций, чем было приемлемо для Западной Европы [Brown 1982: 179].
На Западе
общество, которое было хорошо осведомлено о Симеоне Столпнике, не хотело ничего подобного для себя. Нашему Вульфиле (подвижнику, который хотел в VI веке, подражая Симеону, построить столп под Кёльном. – В. Ж.) было вполне определенно приказано убраться со своего столпа [Brown 1982: 185–186].
Эти различия в религиозном опыте отражались в сотериологических представлениях двух христианских общин. Спасение постепенно оказалось куда более институциализированным и регламентированным на Западе, нежели на Востоке. «Рождение чистилища» на Западе может рассматриваться как важнейший момент в этом расхождении, имеющий при этом символическую значимость.
Появление чистилища может датироваться по-разному (ср. позднюю датировку в известной книге Жака Ле Гоффа «Рождение чистилища» и возражения на эту концепцию в работе Мерелин Данн: [Le Goff 1999: 933 f.; Dunn 2003: 246]; см. подробнее: [Zhivov 2010b: 52–55]). Я полагаю, что чистилищная парадигма формировалась постепенно в течение столетий. Уже Григорий Великий в своих «Диалогах» в конце VI века описывал потусторонний мир с беспрецедентным вниманием и богатством деталей. Особенно важна была его идея пропорциональности суровости очистительных мучений и тяжести греха:
Гееннский огонь всегда один и тот же. Но он не одинаково воздействует на всех грешников. Потому что каждый в соответствии с мерой своих грехов получает свою меру мук (Диалоги IV, 45) [Grgoire le Grand 1978, III: 160–161].
Эта пропорциональная соотнесенность греха и наказания явно связана с религиозными практиками, развивавшимися в Западной церкви в VII и VIII столетиях; я имею в виду практику так называемого «тарифицированного» покаяния [Vogel 1994]. Фактура «чистилищной» калькуляции, по существу, сходна с исчислением наказания в пенитенциалах, которые стали распространяться из Ирландии по всему латинскому миру в VII веке: дни покаяния в этом мире соотносились с какими-то временными единицами искупительных наказаний в чистилище (о связи между посмертной пургацией и тарифицированным покаянием см.: [Dunn 2003: 186–190]). Более того, чистилищные муки могли восполнить недовыполненную епитимью, которую грешник не успел довершить при жизни.
Два основных источника чистилищной парадигмы – а именно относительно разработанное представление о том, что случается между индивидуальной кончиной и Страшным судом, в «Диалогах» Григория Великого и распространение тарифицированного покаяния – появляются почти одновременно. Оба эти явления свидетельствуют о радикальном сдвиге в религиозном сознании. Начиная с видения ирландского визионера Св. Фурсея (630е годы; публикацию и комментарии см.: [Carozzi 1994: 99–139, 677–692]), путешествие души к ее потустороннему пристанищу начинает представляться как мучительная борьба, в которой ангелы и демоны сражаются за душу усопшего. Демоны припоминают грехи, включая peccata levia, а ангелы указывают на покаяние и добрые дела. Это состязание сторон превращается в детальную калькуляцию, и человек должен готовиться к ней всю жизнь [Brown 1999; 2003: 260–262].
Это было основным стимулом в развитии покаянной дисциплины. Спасение стало рассматриваться как зависимое от регулярной исповеди (ни один грех не должен остаться забытым и нераскаянным), а грехи сделались предметом каждодневного анализа и покаяния, которое в результате превратилось в важнейшую технологию личности. На пути к благочестию этого типа было много вех. Необходимо упомянуть 21й канон Четвертого Латеранского собора (1215), знаменитый «Omnis utriusque sexus», предписывавший каждому христианину исповедать все свои грехи как минимум раз в году. Конечно, этот канон не принес немедленных радикальных результатов, но он интенсифицировал процесс институциализации спасения, достигший своего апогея в период после Тридентского собора (1545–1563).
Ряд основных компонентов этого процесса отсутствовал в Восточном христианстве и в особенности в русском христианстве. Чистилища не было, и поэтому отсутствовали специфические страхи и надежы, связанные с западными представлениями о потустороннем мире. На Востоке в целом большинство христиан не было так обеспокоено загробным существованием, как на Западе. Учение, определяющее судьбы душ после смерти и до Второго Пришествия, отсутствовало. Было много разноречивых мнений, но они были периферийны для византийской духовности. Как писал Николас Констас,
промежуточное состояние душ между смертью и воскресением было скорее неразберихой, чем тайной, но византийцы при этом как-то не торопились внести в эту область определенность. Поскольку византийская эсхатология была укоренена в литургическом символизме, погребальных практиках и в тайне Христа и святых, попытки систематического определения были не только тщетными, но и, возможно, нежелательными [Constas 2001: 94][13].
Св. Андрей Критский (ум. ок. 720), автор великого покаянного канона, писал:
Не изыскивайте, что будет с душой по ее расставании с телом, потому что ни мне и ни вам не достоит углубляться в это. Есть Другой, кто это знает. Нам не дано знать даже природу души ( ), как же мы можем ведать природу того места, где она обретает покой? (Oratio XXI: In vitam humanam et in defunctos [PG 1865: col. 1289C]).
Византийская покаянная дисциплина была вполне беспорядочной в соответствии с неопределенностью в представлениях о посмертном наказании. У мирян частная (тайная) исповедь (духовным отцам, которые могли и не иметь сана) стала практиковаться не ранее IX века [Barringer 1979: 152–158, 169–170, 193–195]. Миряне усваивали монашескую практику раскрытия души духовному отцу, который отнюдь не всегда был священником [Смирнов 1906; Taft 1988: 5]. Постепенно и, видимо, под западным влиянием эта практика сближалась с сакраментальным покаянием Западной церкви [Суворов 1901–1902; Пентковский 2002: 67–68]. Несомненно, однако же, что при всех этих обстоятельствах в Византии в течение долгого времени регулярная исповедь мирян не рассматривалась как необходимое условие спасения [Barringer 1979: 143, 153, 169, 202].
Русское спасение: Средние века. Нередко утверждается, что русское средневековое общество было более религиозным или более благочестивым, чем западное общество до Нового времени. Русь была «святой Русью» в противоположность более или менее профанной Европе. На это, по видимости, указывает лишь одно свидетельство – отсутствие секулярной культуры западного типа. Вплоть до XVII века в России не было ни трубадуров, ни куртуазной культуры, ни рыцарских романов, ни светской живописи, никаких иных следов рафинированной и веселой светской жизни. Это отсутствие высокой светской культуры контрастирует с разнообразием духовной литературы, живописи, музыки и иных форм религиозного искусства. Отношение русских авторов к западным светским обычаям было отрицательным. В Переяславском летописце читается следующее описание западных рыцарских обычаев:
По семь же латына бестудие въземше от худых римлянъ, а не от витязеи, начаша к женам къ чюждимъ на блуд мысль дръжати, и предстояти пред д(е)вами и женами, службы съдевающи, и знамя носити их, а своих не любити, и начашя пристроати собе кошюли, а не срачицы, и межиножие показывати, и кротополие носити [ПСРЛ 1995: 5–6].
Из этих обстоятельств историками русской культуры часто делается вывод, что в Средние века русские вельможи проводили время в молитве, тогда как их западные современники вели (хотя бы отчасти) более мирскую жизнь: когда русские постились, соседи на Западе танцевали, когда русские ходили крестным ходом, соседи ухаживали за своими дамами. В такой крайней формулировке данный тезис выглядит несколько абсурдно, однако в качестве негласной предпосылки он играет роль во множестве работ по средневековой русской культуре и литературе. В XIX веке рассуждения этого типа отразились, например, в славянофильском противопоставлении разложения западной цивилизации, постепенно утратившей свою религиозную основу, и здорового духа русского христианства, отдавшего предпочтение чистоте веры вместо мирской мудрости, рационализма и легализма латинского Запада. Особый путь России конструировался и из подобных сомнительных элементов, лишь самым косвенным образом соотносившихся с исторической реальностью.
Представления о средневековом русском благочестии сказываются и на трактовке покаянной дисциплины. Обычно развитие покаянных практик от Средних веков к Новому времени рассматривается как часть более общего процесса упадка религиозного чувства и утраты вероисповедной чистоты. Согласно этому представлению о Средних веках, наши предки всегда были готовы каяться и рассматривали различные природные и исторические катастрофы как наказание за их грехи; поскольку катастрофы были разнообразны и многочисленны, общество верующих пронизывал дух покаяния. У этого взгляда нет никакого фактического основания. Нужно заметить, однако, что однозначных фактических оснований для реконструкции различных феноменов средневековой духовной культуры обычно не находится, так что здесь много места для интерпретации и исследовательского произвола. У нас мало данных, большинство сведений, которыми мы располагаем, извлекаются из литературы монашеского происхождения, так что они не могут быть автоматически экстраполированы на все общество. Те данные, которые у нас есть, нуждаются в истолковании, обращающемся к общей картине средневекового русского благочестия. Я дам очень краткий обзор тех данных, которыми мы располагаем.
В Киевской Руси XI–XIII веков покаянная дисциплина была в своих главных элементах такой же, как и в Византии того же периода; из Византии большинство этих элементов и было заимствовано. Тайная исповедь была вполне утвердившейся практикой; и черное, и белое духовенство могло исповедать и давать отпущение грехов. Для этого периода отсутствуют ясные указания на то, что покаяние рассматривалось как одно из главных таинств (наряду с евхаристией и крещением); в отличие от Запада, но в согласии с Византией сакраментальный статус покаяния не был существенным моментом в богословских или канонических дискуссиях, а граница между таинствами и прочими обрядами определялась куда более расплывчато, чем в латинском мире. Отпустительная формула была оптативной («Господь да простит…»), то есть принимающий исповедь вместе с исповедником просил Бога о прощении грехов и выступал тем самым как помощник исповедника, а не как заместитель Бога. Современная индикативная формула («Я, недостойный иерей, прощаю и отпускаю…»), при которой отпущение грехов (absolutio) осуществляется священником благодаря особой власти (власти вязать и решить), данной ему Христом, была заимствована с Запада в XVII веке; она впервые появляется в украинских печатных требниках первой половины этого столетия, а во второй половине переносится и в Москву [Kraienhorst 2003; ср.: Алмазов 1894: 499; Erickson 1977: 44–45; Getcha 2007: 210–211]. Власть вязать и решить, так называемая власть ключей, была важнейшим инструментом контроля церкви над обществом, она отдавала в распоряжение духовенства загробную судьбу верующего, и в Западной церкви это имело многочисленные последствия, прежде всего в сфере религиозного дисциплинирования.
Славянские епитимийники, то есть списки грехов с предписанным для каждого греха наказанием, предназначенные для тайной исповеди, появились у славян уже в X веке, то есть ненамного позднее, чем аналогичные тексты в Византии. В Киеве XI–XII веков употреблялось несколько епитимийников (лучший обзор и публикацию см. в: [Смирнов 1912]), некоторые из них имели южнославянское происхождение (включая «Заповедь святых отец», церковнославянский перевод с латыни, сделанный не позднее X века), некоторые были составлены на месте, вероятно, с помощью греческих покаянных текстов. Некоторые из этих компиляций были созданы при участии архиереев Киевской Руси, хотя ряд епитимийников был составлен плохо образованными клириками и содержал апокрифический и сомнительный (с богословской и канонической точек зрения) материал (так называемые худые номокнунцы).
Для средневекового периода отсутствуют прямые описания покаянных практик, нет текстов, которые говорили бы о том, как они воспринимались верующими, нет богословских сочинений. Свидетельства, которые у нас имеются, носят косвенный характер. Несомненно, русская покаянная дисциплина имеет много общего с религиозными практиками латинского Запада, куда лучше документированными и изученными (тайная исповедь, пенитенциалы/епитимийники и т. д.). Тем не менее совокупность всех имеющихся косвенных свидетельств заставляет думать, что русские практики и их восприятие существенно отличались от моделей, которые устанавливаются для западного средневекового мира и которые могут рассматриваться как манифестации западных сотериологических представлений.
Можно думать, что русские, за немногими возможными исключениями, не калькулировали своих грехов с той методичностью, которая характерна для Запада. Они исповедовались редко, а некоторые откладывали исповедь до последнего часа, когда священник уже не мог входить в частности и назначать епитимью. С рядом оговорок можно принять ту реконструкцию покаянных практик, которую предложил В. Жмакин для первой половины XVI века на основании гомилий митрополита московского Даниила. Жмакин утверждал:
Весьма многие подолгу не обращались к таинству покаяния. Одни, выходя из понятия о бесконечной благости и милосердии Божием, успокоивали себя тем, что Бог всегда простит кающегося, и откладывали свое покаяние все далее и далее, желая пред смертью искренно раскаяться и получить прощение во грехах, сделанных в течение всей своей жизни. <…> Находились и такие, которые, понимая слишком формально значение покаяния, обращали его в средство для оправдания своей безнравственности: они всю свою жизнь вели распущенно и все-таки спокойно смотрели на свою загробную участь, надеясь на всеискупляющее действие последнего, предсмертного покаяния. <…> В простом народе господствовал своеобразный взгляд на исповедь, по которому он считал ее делом князей и обязанностию благородных и знатных людей по преимуществу, и на этом основании многие подолгу не обращались к таинству покаяния. Неправильный взгляд на значение таинства покаяния сопровождался в практической жизни анормальностями и выражался в том, что многие долгое время не исповедовались и не причащались по нескольку лет сряду, не считая это с своей стороны большим упущением. Особенно это развито было в низшей среде общества в массе народа. Даже люди набожные и те приступали к таинству покаяния однажды в год. Другие делали и того хуже: они являлись к духовнику на исповедь и утаивали пред ним свои грехи, а после даже хвастались этим, говоря с насмешкой: «что мы за дураки такие, что станем попу сознаваться»! [Жмакин 1881, 2: 639–640].
Эти особенности русской религиозной жизни были реконструированы преимущественно на основе обличительных и назидательных сочинений. Несмотря на это реконструкция Жмакина не выглядит преувеличением; она по крайней мере частично подтверждается источниками других типов. Так, например, царь Алексей Михайлович в грамоте свияжскому воеводе 1650 года, требуя от свияжского населения, чтобы они имели духовных отцов и хотя бы раз в год причащались, замечает, что тамошние «християне живут без отцов духовных, многие и помирают без покаяния, а в том нимало нерадеют, чтоб им исповедать грехи свои, и телу и крови Господни причащатися, а священники их о том не учат, и на покаяние их не призывают» [ПСЗРИ 1830, 1: 246 (№ 47: Грамота в Свияжск Стольнику и Воеводе Федору Плещееву и Дьяку. 25 октября 1650)]. Об этом же еще в середине XIX века писал Николай Костомаров, разбирая свидетельства иностранцев о русском благочестии. Он замечал:
Русские вообще редко исповедывались и причащались; даже люди набожные ограничивались исполнением этих важных обрядов только однажды в год – в великую четыредесятницу. Другие не исповедывались и не подходили к святым дарам по нескольку лет. Притом исповедь для толпы не имела своего высокого значения: многие, чтобы избежать духовного наказания от священников, утаивали свои согрешения и после даже хвалились этим, говоря с насмешкою: «что мы за дураки такие, что станем попу сознаваться» [Костомаров 1860: 211] (источником служат записки Мейербера).
Еще Герберштейн в своих записках о Московии XVI века замечал, что «хотя по уставу у них (русских) есть исповедь, но простой народ считает ее делом князей и обязанностью благородных господ и знатных людей по преимуществу». Аналогично и Петрей в начале XVII века пишет: «Об исповеди и разрешении русские такого мнения, что бедные и несчастные не имеют в ней надобности, а одни только богатые, знатные и сильные» [Алмазов 1900: 33–34].
Некоторые заключения о реальных религиозных практиках могут быть сделаны на основании критического анализа епитимийников. Можно указать, например, на «Заповедь святых отец»; это перевод с латыни так называемого Мерзебургского пенитенциала, составленного в тот период, когда Западная церковь боролась за безбрачие духовенства, переведенный на славянский в X веке. В нем имеется статья, предписывающая наказание дьяконам и священникам за нарушение целибата, если они после поставления вновь примут к себе свою жену (дьякону семь лет покаяния, попу – десять) [Максимович 2008: 176]. Как мы знаем, в Восточной церкви целибата белого духовенства никогда не было; никакому русскому попу не могло прийти в голову каяться в том, что он живет с женой. Но это не побудило переводчиков изъять данную статью из пенитенциала и не мешало русским переписчикам воспроизводить этот текст в течение всех Средних веков. Поскольку нелепости разного рода нередки в русской покаянной литературе, они могут рассматриваться как указание на то, что покаянные практики были нерегулярными, их распространение – ограниченным, а их роль в русском православном благочестии – вторичной.
Еще одним важным источником для изучения покаянных практик русского Средневековья может служить агиография. Свидетельства русских житий имеют по большей части негативный характер. Данные этих текстов можно сравнить с аналогичными данными западных или византийских агиографических сочинений. В отличие от последних русские агиографические источники почти никогда не упоминают об исповеди, за исключением лишь исповеди in articulo mortis; исповеди на смертном одре являются обычным, хотя отнюдь не всегдашним элементом описания преставления святого. Будущий галльский святой приходит в монастырь, встречается с настоятелем и первым делом исповедует ему свои грехи [Vogel 1994, VI: 174–182]. Русские начинающие святые не исповедуются, или по крайней мере их исповедь не представляет никакого интереса для агиографа; русские святые приходят в монастырь, встречаются с настоятелем и выслушивают слова о том, что они слишком юны и неопытны, чтобы справиться с суровостью аскетической жизни; затем они показывают свою решимость посвятить жизнь Богу и начинают удивлять братию своими аскетическими подвигами. Такое пренебрежение рассказом об исповеди не может быть случайным. Оно естественно объясняется тем, что покаянная дисциплина рассматривалась (по крайней мере авторами житий) как маргинальный элемент на пути подвижника к спасению и святости. Исповедь и спасение не были связаны столь прямым образом, как в Западной церкви.
Исповедь и причастие in hora mortis представляются легко объяснимыми исключениями. Они могут существовать автономно, вне какой-либо регулярной покаянной дисциплины. Грешник может грешить всю свою жизнь, исповедать свои грехи в последнюю минуту и, будучи очищен отпущением грехов, со славою войти в обитель праведных. Конечно, при этом остается неустранимый риск, поскольку последняя минута может наступить неожиданно, но многие были готовы на этот риск идти. Эта практика встречала противодействие церковных властей в разных христианских традициях и в разные периоды; действенность предсмертного отпущения грехов ставилась под сомнение, и, по крайней мере на Западе, появление чистилища несколько рассеяло надежды попасть в Царство Небесное без особых усилий. У русских подобные упования, видимо, оказались куда более устойчивыми.
В средневековой Руси надежды на незаслуженное спасение принимали в дополнение особую форму. В Восточной церкви принятие монашества (монашеский постриг) рассматривалось как второе крещение. Этот обряд, как и настоящее крещение, смывал все грехи, совершенные человеком за всю его жизнь до данного момента. В силу этого пострижение в монашество в последнюю минуту земного существования могло быть определенной гарантией благополучного достижения вечного блаженства; оно, видимо, воспринималось как куда более эффективное средство, чем предсмертная исповедь. Этот способ, конечно, не был доступен для всех, однако к нему постоянно прибегали князья и отдельные вельможи. Эти особые права князей и вельмож оправдывались – видимо, в согласии со средневековыми воззрениями – представлением о том, что светские власти не могут не преступать нормы общей морали, хотя это ухищрение оставалось, по словам Г. Федотова, «предсмертной попыткой провести Бога» [Fedotov 1975: 275]. Обсуждаемый обычай оставался в употреблении в течение всех Средних веков (по крайней мере до Смутного времени), хотя в XVI веке предпринимались попытки его уничтожить[14]. Подобные способы обойти покаянную дисциплину и избавиться от связанных с нею трудов свидетельствуют о слабости этой дисциплины и ее относительно малой значимости в ряду религиозных практик снискания спасения.
Покаянные практики тесно связаны с представлениями о потустороннем мире, распространенными в данном обществе. Можно полагать, что информация о том свете, которой руководствовались русские христиане в Средневековье, была в целом оптимистической, по крайней мере в сравнении с сопоставимыми западными феноменами (после Видения Фурсея); этот факт естественным образом объясняет отсутствие строгости в трудах покаяния. Хотя описания адских мук пользовались популярностью у средневекового русского читателя (прежде всего в виде «Хожения Богородицы по мукам», славянского варианта греческого «Апокалипсиса Пресвятой Богородицы о муках»), тем не менее грешники могли рассчитывать на Божие милосердие и надеяться миновать врата ада; эта надежда оставалась в силе вне зависимости от числа и тяжести нераскаянных грехов. Божественное человеколюбие было беспредельным и иррациональным, так что опасливое благочестие оставалось вне основных жизненных стратегий православного населения.
Здесь, возможно, следует сделать замечание об относительности оптимизма. Рождение чистилища подарило латинскому миру перспективу, которая была скорее оптимистической, по крайней мере в сопоставлении с вечными муками: грешник после более или менее длительного периода очистительных наказаний получал прощение и попадал в рай. Восточное христианство таких надежд не создавало, хотя возможности посмертного спасения полностью никогда не исключались [Trumbower 2001]. В принципе, однако, те, кто заслужил своими земными деяниями вечный огонь, не могли изменить этой участи никакими посмертными трудами. Тем не менее парадоксальным образом средневековые западные христиане больше боялись чистилища (возможно, изза того процесса, который Ле Гофф проницательно назвал инфернализацией чистилища), чем восточные христиане боялись ада (о феномене страха в средневековой западной культуре см.: [Delumeau 1983]). Для восточных христиан ужас ожидания вечных мук облегчался надеждой избежать, по праву или скорее по случаю, челюстей ада.
В «Повести душеполезной старца Никодима о некоем иноке», визионерской истории XVII века, главным героем является монах, который грешит тяжко и беспрерывно. Он получает видение, в котором он оказывается на том свете и бесы показывают ему свитки с записью его «греховных дел». Можно было бы ожидать, что далее последует описание столкновения бесов и ангелов, которые будут пытаться заступиться за протагониста, перечисляя его добрые дела[15]. Но история принимает другой оборот. Неожиданно появляется архангел Михаил и показывает нашему иноку вечные муки (очевидно, как средство устрашения). Затем Михаил сообщает ему приговор Господа, который состоит из трех заповедей; инок избежит вечных мук, если будет их исполнять. Заповеди были весьма просты: «престани от нечистоты (то есть от блуда. – В. Ж.) и не пити вина и табака». Вернувшись в тело, инок некоторое время следовал этим заповедям, но потом вновь ударился в прежние грехи и был наказан «язвой смертоносной». Тем не менее он не умер и не отправился в адский огонь, но исцелился благодаря заступничеству чудотворной иконы Нерехтинской Богоматери [Пигин 2001: 303–310]. Как можно видеть, грехи не преграждают герою повести путь к спасению. Напротив, грехи как бы способствуют излиянию божественного милосердия. Автор цитирует апостола Павла для подтверждения этой идеи, приписывая своеобразное (хотя, возможно, не необычное в русском контексте) значение стиху из Послания Римлянам: «Идеже умножися грех, ту преизбыточествова благодать» (Рим. 5: 20) [Пигин 2001: 310]. У Павла речь идет о священной истории: народ Божий (Израиль) грешил все больше и больше, и Господь послал Своего Сына для искупления умножившихся грехов. Но у автора «Повести», как и у ряда других русских авторов, иная интерпретация: чем больше грехов, тем больше благодати (это согласуется с такой русской народной мудростью, как «не согрешишь – не покаешься» и т. п.). В этих условиях страх перед вечной погибелью не мог быть очень сильным и неотступным и покаянные подвиги могли восприниматься как нечто необязательное для спасения.
Нет оснований думать, что этот текст недостаточно показателен, поскольку он относится к позднему времени. Можно указать на несколько более ранних текстов со сходными идеями, хотя, возможно, менее красноречивых. Так, в Киево-Печерском патерике содержится история о старце Онисифоре Прозорливце [БЛДР 1997: 362–364]. Один из его духовных сыновей внезапно умер. Он оказался злонамеренным грешником, скрывавшим свои грехи от духовного отца, что хуже всякого другого греха. За нераскаянные грехи он был наказан нестерпимым смрадом, исходившим от его мертвого тела. Онисифору явился ангел и оповестил его о причинах Божиего приговора. Онисифор и настоятель монастыря Пимен хотели выбросить тело в воду, но тут Онисифору явился преп. Антоний, основатель лавры, и сообщил, что Бог простил грешника, поскольку Он (Бог) обещал Антонию, что всякий, кто будет погребен в монастыре, получит спасение. После этого смрад превращается в «благоухание». Очевидно, что нераскаянный грешник спасся не благодаря своим особым заслугам, а благодаря особому месту погребения. Насколько мне известно, подобные случаи «незаконного» спасения не встречаются в нерусских (невосточнославянских) описаниях загробной жизни [Живов 2008б].
Это бесстрашие основывалось на определенной сотериологической концепции или по крайней мере на совокупности не слишком определенных сотериологических понятий. Спасение, когда о нем задумывались, понималось как нечто никак не связанное с человеческими усилиями, с нравственным поведением или дисциплиной христианской общины. Мы – в силу скудости источников – можем лишь догадываться о воззрениях обычных русских людей (то есть не монахов, занимавшихся сочинительством), но даже единичные истории проливают свет на общий ландшафт.
Приведу одно любопытное свидетельство из записок о России датского посланника Якоба Ульфельдта, побывавшего в Москве в 1578 году. Он рассказывает о своей беседе о спасении с приставленным к нему приставом по имени Федор, «человеком пожилым и степенным». Федор утверждал, «что каждый может спастись, пусть даже он изо дня в день прибавляет грех к грехам, если только однажды у него появится намерение обдумать [свои поступки] и принести покаяние». Ульфельдт, лютеранин, возражал, что по вере может, конечно, спастись любой покаявшийся грешник, но это не относится к тем, кто грешит и грешит, надеясь когда-нибудь в будущем исправиться (мы уже знаем из обличений митрополита Даниила, что такое отношение к спасению было широко распространенным). В Москве в принципе могли представлять себе споры между протестантам и католиками о спасении верою и спасении делами, и Иван Грозный в ответе протестантскому пастору Яну Роките касался этого вопроса [Марчалис 2009: 121–122]. Однако Федор был человеком попроще, в богословские теории не вдавался, хотя и знал про себя, как получают спасение. Датскому послу он
ответил, что все грехи прощаются, сказал, что подтвердит это примером, и поведал следующее: «Мария Магдалина была нечестивейшей блудницей и многажды предавалась разврату, следовательно, совершала тяжкий грех. Однако за то, что однажды она уступила просьбе мужчины, попавшегося ей на дороге и склонявшего ее к прелюбодеянию, прося, чтобы она сделала это ради Господа, и он получил желаемое, она – спаслась и отмечена в списке святых (то есть в святцах. – В. Ж.) красным цветом – [все] по той причине, что не отказала в этом, но дозволила ради имени Божия» [Ульфельдт 2002: 304–305].
Мария Магдалина, как видим, спаслась странным образом, нерациональным и никак не согласующимся с этическим учением православной церкви. Совершенно очевидно, что для Федора индивидуальная нравственность прямого отношения к спасению не имела.
Не менее красноречиво и следующее свидетельство. В середине XIV века возник богословский спор между новгородским архиепископом Василием (Каликой) и тверским епископом Феодором. Речь шла о том, является ли рай только мысленным, как утверждал Феодор, или существует и рай видимый. Представления о существовании рая в географическом пространстве вообще довольно широко распространены в средневековой Европе, и воззрения Василия в этом отношении не отличаются оригинальностью. Богословствование Василия замечательно наивно и определенным образом свидетельствует о характере богословской мысли в средневековой Руси. В доказательство своей правоты он рассказывает среди прочего и историю о том, как Моислава-новгородца во время бурного плавания занесло на остров, где был рай. И там новгородцы обнаружили самосиянный свет и услышали райское пение:
И повелша единому другу своему взыти по шегл на гору ту, видти свт-отъ и ликованныя гласы; и бысть, яко взиде на гору ту, и абие въсплеснувъ руками, и засмяся, и побже от друговъ своих к сущему гласу. Они же велми удивьлешеся, и другаго послаша, запртивъ ему, да обратився скажет имъ, что есть бывшее на горИ той тако же сътвори, нимала възвратися къ своимъ, но с великою радостию побже от них. Они же страха исполнишася, и нача размышляти в себ, глаголюще: «Аще ли смерть случится, но вдли быхомъ свтлость мста сего». И послаша третиаго на гору, привязавъ ужищи за ногу ему. И тако же и тотъ въсхот сътворити: въсплескавъ радостно и побже, в радости забывъ ужища на ноз своей. Они же здернуша его ужищомъ, и томъ часу обртеся мертвъ. Они же побгоша въспять, не дано есть имъ дале того видти, свтлости тое неизреченныи, и веселия, и ликованиа тамо слышащаго. А тх, брате, мужей и нынча дти и внучата добри-здорови [БЛДР 1999: 46].
Стоит обратить внимание на то, что первые двое из перелезших через гору благополучно попали в рай, и попали туда явно по случаю – увидели и побежали, – совершенно безотносительно к их грехам и заслугам. Существенно, что в такую возможность верил один из первых иерархов русской церкви. При такой вере, естественно, строгая покаянная дисциплина оказывалась в лучшем случае факультативной.
Таким образом, русское спасение от индивидуальной морали (а поэтому и от индивидуальной исповеди и индивидуальной епитимьи) не зависело. Спасение относилось ко всему православному сообществу и приходило само собой. Оно состояло в постепенном преображении этого мира в Царство Небесное и осуществлялось не через нравственное совершенствование, но как распространение литургического космоса во внешний для него мир. Или – если воспользоваться другой метафорой – внешний мир постепенно поглощался Божией благодатью. Согласно этому взгляду, благодать выражается в обожении; обожение изначально и неизменно присутствует в литургии, в церковном тайнодействии: в литургии Небеса нисходят на землю и преображают ее. Распространение этого обоженного состояния мира, то есть его спасение, не требует человеческих усилий, но осуществляется самодеятельно, так что община верующих должна лишь поддерживать богослужебное действие в его преемственности и чистоте. Все прочее, как, в частности, аскетические подвиги, богословское познание, институциализированное покаяние или дела милосердия, было факультативным, необходимым в основном лишь для тех, кто превратил спасение в свое каждодневное дело, то есть для монахов и монахинь. Эта сотериология является, между прочим, и основой так называемого русского обрядоверия. Очевидно, что, когда русской духовности приписывался отличающий ее от западной религиозности антилегализм, имелся в виду и этот элемент православной традиции, входящий, таким образом, в концепт особого пути.
Государственное спасение и его неудача: раннее Новое время. В XVII веке в России начинается дисциплинарная революция. Дисциплинарная революция была общеевропейским явлением в период после Реформации и Контрреформации. В условиях религиозной борьбы от населения требовались вероисповедная консолидация и униформность поведения; последствия были многообразны, они существенно изменили европейскую жизнь и внесли большой вклад в формирование того европейского градиента, на фоне которого существуют особые пути отклоняющихся от него обществ [Gorski 2003]. В XVII столетии это новшество докатилось и до Москвы. По крайней мере отчасти это было связано с разочарованием в том самодеятельном спасении, на которое полагались до Смутного времени. Катастрофа Смутного времени показывала (по крайней мере тем, кто об этом задумывался), что русские плохо молились, плохо оберегали православное благочестие, плохо служили Богу и получили воздаяние за свою неправедность. Это создавало условия для религиозной и нравственной реформы, для возникновения нового религиозного движения, целью которого было бы исправление благочестия и нравственное преобразование общества.
Первые попытки религиозного дисциплинирования делались так называемыми ревнителями благочестия в 1630–1640х годах. Они стремились искоренить такие губительные практики, как отступления от чина в богослужении и суеверные «языческие» обряды (такие, как святочные процессии). Челобитная девяти нижегородских священников патриарху Иоасафу 1636 года может рассматриваться как символический рубеж. Священники требовали введения так называемого единогласия (то есть последовательного, а не одновременного исполнения всех частей богослужения, которое в этом случае должно было стать понятным для прихожан), отказа от практики сокращения служб и запрета на «бесовские» святочные игры [Рождественский 1902: 27]. В ответ патриарх Иоасаф выпустил в том же году меморандум, поддерживающий эти требования, но излагающий их в значительно смягченном виде. В обоих документах содержатся и обычные сопутствующие требования регулярного посещения церкви, благочестивого поведения в храме, сосредоточенной молитвы и т. д. Понятно, что немедленных результатов это не принесло, однако намерения были заявлены, и эти декларации сделались элементом формировавшегося реформистского дискурса.
Когда в 1645 году на престол вступил молодой Алексей Михайлович, казалось, что он воплотит в жизнь реформистскую программу ревнителей благочестия; один из представителей этой группы, Стефан Вонифатьев, был его духовником. Накануне Великого поста 1647 года царь побудил патриарха Иосифа огласить окружное послание, призывающее духовенство молиться благочестиво и жить в чистоте и трезвости. Затем сам царь издал указ, повелевающий его подданным посещать церковь по воскресеньям и требующий закрытия по воскресеньям кабаков и лавок. За этим последовали другие дисциплинирующие меры. Первые шаги по пути к нравственному возрождению, сделанные царем, в точности соответствовали тем, с которых начинали свою реформистскую деятельность Иоанн Неронов и Аввакум [Pascal 1938; Зеньковский 1970][16]; различие состояло в том, что теерь эти меры получали государственный характер, программа религиозной реформы была апроприирована государством. Однако даже государство не располагало в этот период средствами, способными навязать обществу религиозную дисциплину подобного типа.
Хотя у русских процессов имеется определенная специфика, обусловленная особенностями русской сотериологии, многие аспекты религиозного дисциплинирования в эту эпоху типичны для политики, проводимой институциализированной властью (светской или церковной) против харизматической, стихийной и неконтролируемой религиозности. Такая политика обычно обладает социальным измерением: дисциплинирующие институции представляют различные элитарные социумы, а адресаты их деятельности принадлежат к низшим социальным слоям (в позднейшей романтической парадигме им может приписываться сохранение того «народного духа», который определяет особый путь). Соборы 1666 и 1667 годов формулируют с этой целью специальные правила. Неуправляемые «святые люди» и в особенности юродивые становятся предметом бдительного надзора; власти стремятся подавить любое нарушение церковного декорума и представить новых юродивых и харизматических подвижников (нагих, грязных, с длинными волосами, в железах) как отступление от образцов, канонизированных в православной традиции (таких, как Андрей Юродивый Цареградский или Симеон Эмесский) [Материалы 1876: 262–263; Деяния 1893: л. 27 об. – 28 об.; ср.: Иванов 2005: 265–316]. В орбиту официального надзора, переоценки и порою запрета вовлекаются местные святыни и священные источники, чудотворные иконы и предположительно поддельные мощи – все то, что создавало фактуру религиозной жизни православной общины и было основанием для местной религиозной идентичности.
Для процесса институциализации спасения как части дисциплинарной политики особенно важно было устрожение покаянной дисциплины. Регулярная исповедь должна была стать инструментом религиозного и социального контроля. Уже в окружном послании ростовского митрополита Ионы августа 1652 года предписывалось монахам и мирянам «причащаться и приходить на исповедь трижды в году» [Michels 1999: 107]. Сходная программа обнаруживается в ряде документов, исходивших от царя. Следует предположить, что эти параллельные усилия регламентировать религиозную жизнь означали не только сотрудничество двух властей, духовной и светской, но и их скрытую конкуренцию: тот, кто издает приказы, обладает верховной властью в области, к которой приказы относятся.
Большой Московский собор настаивал на регулярной исповеди («в четыре сты посты») и причастии [Материалы 1876: 132–133; Деяния 1893: л. 42 об.]. Те, кто уклонялся от долга ежегодной исповеди и причастия без особых причин, должны были быть лишены христианского погребения. Это была, конечно, серьезная угроза, хотя, надо заметить, нам неизвестны случаи, когда бы она приводилась в исполнение. Уже в это время регулярная исповедь и причастие стали употребляться как инструменты обнаружения и преследования религиозных диссидентов, прежде всего старообрядцев. Архиереи через своих подчиненных контролировали соблюдение введенных Собором правил (см. об инструкции новгородского митрополита Корнилия 1682 года: [Michels 1999: 116]). Важно отметить, что списки исповедников появились уже в 1680–1690х годах, и эта инициатива принадлежала епископату [Michels 1999: 293, note 6]. Патриарх Адриан в Инструкции поповским старостам предпринял попытку сделать эту практику обязательной [ПСЗРИ 1830, 3: 413–425 (№ 1612, 26 декабря 1697)][17].
Инструкция патриарха Адриана была последней попыткой церковной иерархии как независимого института ввести более строгие нормы покаянной дисциплины и вообще расправиться с девиантными явлениями народной духовности. В 1700 году патриарх Адриан умер, и с середины 1710х годов политику религиозного дисциплинирования берет в свои руки Петр Великий. Одна из первых вех этого изменения – указ января 1716 года [Верховской 1916: 109–113], который дополнял рядом новых пунктов архиерейское обещание, читавшееся и подписывавшееся епископами во время их хиротонии. В этих дополнительных пунктах архиерей обещался быть осмотрительным и не переступать границ своей духовной власти, не вмешиваться в светские «дела и обряды». Эти пункты отражали антиклерикализм политики Петра. Среди добавленных был, однако, еще один пункт с совсем иным предназначением. Епископ давал клятву посещать свои приходы «по крайней же мере в два или три года», надзирать в особенности за священниками, и учить их, и «запрещать дабы расколов, суеверия и богопротивнаго чествования не было»; епископы должны были смотреть за тем, чтобы не почитали несвидетельствованных мощей («гробов») и харизматических «святых людей», «в калтунах, босых и в рубашках ходящих», и чтобы «святых икон не боготворили и им ложных чудес не вымышляли» [Живов 2004: 204]. Эта статья требовала участия духовенства под присмотром государства в религиозном и социальном дисциплинировании, и это было частью более широкой программы построения «регулярного» государства.
Указ от 8 февраля 1716 года [ПСЗРИ 1830, 5: 196 (№ 2991)] может рассматриваться как продолжение той же политики. Указ обязывал старообрядцев «записываться в раскол»; они должны были регистрировать свой конфессиональный нонконформизм и платить двойной налог. Старообрядцы в силу естественных причин предпочитали не платить двойного налога, поэтому возникала задача обнаружить скрытых старообрядцев. С этой целью Петр издал указ от 17 февраля 1718 года (и ряд позднейших дополнений к нему). Указ требовал, чтобы
все вышеписанные люди («разночинцы и посадники и поселяня». – В. Ж.) в господские праздники и в воскресные дни ходили в церковь Божию к вечерни, к завтрене, а паче же ко святои литургии <…> и по вся б годы исповедывались. И то надзирать в приходех самим священником и прикащиком, и старостам, где случитца. И кто будет исповедыватца и не исповедыватца, тому всему иметь книги погодно и присылать их по епархиам в духовные приказы, и кто по тем книгам явитца без исповеди, и с таких править тех приходов священником штрафы [Законодательство Петра I 1997: 538–539].
Ежегодная исповедь и регистрация этого акта в исповедных книгах должны были стать инструментом, который позволил бы властям отделить старообрядцев от приверженцев официальной церкви и исключить возможность ухода от двойного налогообложения. Важно отметить, что вне зависимости от исходного предназначения ежегодной исповеди эта мера, проведение которой в жизнь было поручено духовенству, неизбежно приобретала религиозное значение и воспринималась как еще один шаг в политике установления религиозной дисциплины.
Не кажется правдоподобным, что Петр стремился к повышению стандартов религиозной жизни у своих подданных или заботился о спасении их душ. Контроль и дисциплина были его излюбленными идеями, а регулярная исповедь оставалась дисциплинирующей процедурой [Лавров 2000]. Существенно при этом, что для Петра регулярная исповедь не была частью никакой программы религиозного обновления или возрождения. В этом плане петровские указы отличаются от сходных предписаний церковных реформаторов (ревнителей благочестия, патриархов XVII столетия, участников Московского собора 1666–1667 годов). Церковные реформаторы стремились создать новое благочестие, более тесно связанное с институциализированной церковью, чем традиционное. Петр был безразличен или враждебен к благочестию любого типа, его волновали контроль и дисциплина как таковые.
Это стало началом длительной игры в кошки-мышки, в которой одна сторона постоянно совершенствовала методы детекции, а другая сторона в ответ изобретала новые способы сокрытия. Характер доступных нам данных не дает возможности решить, кто был победителем в этой борьбе, продолжавшейся в течение всего XVIII века. Так, старообрядцы давали взятки, чтобы приходские священники записали их как исповедников и скрыли тем самым их принадлежность расколу. В ответ Синод обязал церковников и прихожан доносить на священника, записывавшего в исповедные книги лиц, которых никто не видел за исповдью. Донос и последующее наказание были серьезной угрозой, которая могла бы остановить священника от незаконных действий, но нетрудно было найти и другое решение. Прихожанин или прихожанка объявляли, что они больны, и звали священника домой для предсмертной исповеди. Потом они выздоравливали, но у священника были законные основания записать их в исповедные книги, хотя никто не видел их исповедающимися. Правительство узнало и об этой хитрости и потребовало, чтобы свидетель присутствовал и при исповеди на смертном одре. Это, однако же, означало, что уклоняющемуся от исповеди нужно было дать взятку не только попу, но и свидетелю. Дошедшие до нас документы говорят, конечно, о тех случаях, когда обман был раскрыт. Можно предположить, что в большинстве случаев все сходило с рук благополучно, но эти случаи не отражены ни в каких документах и не поддаются статистической оценке. Именно поэтому мы и не знаем, кто победил в этом состязании. Чем строже становился государственный контроль, тем недостоверней делались документы; они вовлекались в порочный круг обмана [Zhivov 2010a: 136–145].
Этот подход, это превращение религиозного дисциплинирования в государственный надзор имели много важных последствий. Они выступают с особой наглядностью при сопоставлении русского развития с аналогичными процессами в контрреформационной Европе. В XVI и XVII веках в таких ареалах, как Бавария или Австрия, также интенсивно проводилась политика религиозного дисциплинирования, включавшая особое внимание к регулярной исповеди. Сам процесс принуждения создавал ряд сходств, хотя бы поверхностных: принуждение, в котором светские власти играли существенную или даже главную роль, выдвигало на первый план формальное соблюдение предписаний, и это временно вытесняло на периферию идею новой духовности. Contritio, сокрушение душевное, заменялось attritio, исполнением обязанности. Тем не менее идея новой духовности не была забыта, она оставалась дальней целью, воодушевлявшей влиятельные католические церковные институты. Во второй половине XVII и в XVIII веке новая духовность на католическом Западе торжествует, так что не остается необходимости в принуждении для ее поддержания. Россия развивалась по совсем иному сценарию. Религиозное дисциплинирование осуществлялось ради дисциплины, а не ради духовного возрождения. Ежегодная исповедь была частично средством социального контроля, а частично фискальной мерой. Поскольку все это было чистым принуждением, попытки заставить людей регулярно ходить к исповеди кончились провалом. Принудительная исповедь становилась все более формальной. Не помогло даже, когда в 1801 году были отменены штрафы за неисповедь, – было слишком поздно. Исповедь и институциональное покаяние так и не стали главным элементом русского православного благочестия. «Народное» благочестие сохраняло свой нереформированный и в силу этого «неевропейский» облик.
Другой провал государственной политики кажется не менее значимым, и он прямо связан с конфликтом в понимании спасения. Важную роль в политике религиозного дисциплинирования играла борьба с так называемыми суевериями. Само это слово появилось в русском языке довольно поздно, впервые в сочинениях Симеона Полоцкого в конце XVII века. Первоначально оно означало различные практики и верования языческого происхождения, сохранявшиеся у православного населения. Само возникновение этого обобщающего понятия, соответствующего латинскому superstitio, указывает на западное влияние (Симеон воспроизводит томистскую классификацию суеверий) и является частью политики религиозного дисциплинирования [Живов 2012].
Петр I и Феофан Прокопович начинают употреблять его в существенно более широком значении, чем Симеон Полоцкий, и прилагают его едва ли не главным образом к традиционным православным практикам, которые они рассматривали как черты нерациональной и неконтролируемой народной религиозности. За этой борьбой стояла важная идея: спасением должна распоряжаться власть, то есть царь, правительство и уполномоченное царем духовенство. Неконтролируемые источники благодати и спасения должны быть перекрыты. Новые чудотворные иконы, священные источники, бродячие святые люди, в частности юродивые, одним словом, все те вместилища благодати, которые составляли, можно сказать, традиционную инфраструктуру спасения, рассматривались как ухищрения противные государственным интересам, нарушающие монополию государства на распределение даров спасения.
Не нужно думать, что эти притязания государства каким-либо образом скрывались. Феофан Прокопович прямо утверждает, что спасение предназначено для всех и достигается оно тем, что «всяк по званию своему ходит», то есть благодаря деятельности на благо общества, то есть государства. И Прокопович обличает тех, кто
ищет пути спасеннаго у сынов погибельных, и вопрошает: как спастися? у лицемеров, мнимых святцев <…> что же они? видения сказуют, аки бы шпионами к Богу ходили, притворныя повести, то есть бабия басни бают, заповеди бездельныя, хранения суеверная кладут, и так безстудно лгут, яко стыдно бы воистинну и просто человеком, не точию честным нарещися тому, кто бы так безумным расказщикам верил: но обаче мнози веруют, увы окаянства! [Феофан Прокопович 1761: 16].
Понятно, что достоинство службы, а отсюда и заслуги, обеспечивающие спасение, оценивались государством, которое и становилось таким образом дистрибутором спасения.
Вплоть до конца XVIII века стандартной реакцией властей на появление новой чудотворной иконы был арест тех, кто это «устроил»; их заставляли признаться в том, как и ради каких корыстных резонов они это сделали. Так, в 1723 году черниговский епископ Иродион послал в Синод доношение, в котором сообщал, что 5 марта поп Терентий, служивший в одной из черниговских церквей, видел вместе со «знатными» людьми, как образ Богоматери испускает слезы. Слезы собрали в сосудец, а икону перенесли в кафедральный собор, и на следующий день она исцелила черниговскую жительницу Авдотью, у которой внезапно начало «корчити уста и руки и ноги». По указанию епископа «оная жена духовнику на исповеди о случае сем сказала» [ПСПР 1876: 168 (№ 1323, 15 июня 1724)]. В своих действиях епископ следовал издавна принятому порядку.
У Синода, однако, был другой порядок. В канцелярии к сообщению Иродиона выписали два пункта из Духовного регламента, требовавшие, чтобы епископы преследовали недолжное почитание икон и не объявляли их чудотворными «для вспоможения церквей убогих, или новых построения» [Духовный регламент 1904: 23]. Основываясь на этом нормативном документе, Синод определил образ и истекшие от него слезы, «убрав в удобный тому ковчег и запечатав, прислать», а попа Терентия выслать немедленно «под крепким караулом». Сношения, высылка и разбирательство заняли некоторое время, так что Петр Великий успел скончаться, что, видимо, и обусловило сравнительную мягкость вынесенного 25 августа 1725 года приговора. На попа Терентия было оказано давление, и он дал показания, чтобы избавиться от бесконечного и тягостного пребывания в тюрьме под следствием. Он показал то, что от него требовали, а именно что «таких слез подлинно не было, а умыслил де он то разгласить в народ ложно для собственного своего прибытку». Синод
для помяновения высокославныя и вечнодостойныя памяти Государя Императора снисходительное милосердие показуя, согласно приговорили: по силе имянного Императорскаго Величества <…> указа, по которому велено разглашающим <…> чудеса притворно <…> или подобное тому творящим суеверие чинить наказание и вечную ссылку на галеры с вырезанием ноздрей, облехча оное публичное наказание, выбить его Терентья плетми и, вместо вечной на галеру ссылки, лишить его священства [ПСПР 1881: 169 (№ 1639)].
Наказаны должны были быть и те, которые «видели иные слезы текущия, а иные крапли каплящыя»; их должны были «публично бить плетми ж нещадно», и в течение месяца по воскресным дням им предписывалось стоять у церквей и виниться, «оную совершенноую ложь изъявляя». У Иродиона указано было «взять из собственных его архиерейских имений штрафа тысячу рублев, не взирая ни на какия его отговорки, без всякаго отлагательства, которые и прислать в Святейший Синод немедленно» [ПСПР 1881: 169 (№ 1639)]. Все это следовало сделать, «дабы и впредь, на то взирая, другим так чинить неповадно было» [ПСПР 1881: 170 (№ 1639)].
Отшатываясь от цивилизации: ингредиенты особого пути. Дело даже не в том, что цивилизация (рационализация, просвещение) сторонится столь ярко выраженного насилия как метода своего утверждения. В конце концов, и в Голландии, и в Англии дисциплинарная революция отнюдь не была безобидной благотворительной акцией, обходившейся без безжалостного принуждения; достаточно вспомнить законы против бродяжничества или работные дома[18]. Однако и в Голландии, и в Англии это принуждение осуществлялось значительной частью общества, реализовало религиозные ценности большого социума и располагало тем самым существенной социальной поддержкой. В России этой поддержки не было, дисциплинарная революция была делом горстки правителей, обитавших в Петербурге, и даже те, кто ее проводил, ей, как правило, не сочувствовали и делали свое дело по принуждению. В силу этого русская дисциплинарная революция была провалом и в сфере рационализации религиозной жизни: как показал Грегори Фриз, в XIX веке власти перестают преследовать «суеверия» [Freeze 1998; ср.: Dixon 2008]. Вновь стали появляться чудотворные иконы, были разрешены крестные ходы к разнообразным священным колодцам и источникам. Даже юродивых перестали волочить в Тайную канцелярию.
Традиционные верования продолжали играть более важную роль в народной религиозности, нежели институциализированные формы благочестия, предписывавшиеся властями. При этом нужно заметить, что эпитет «народный» относится в данном контексте отнюдь не только к низшим слоям общества, но ко всему населению в целом, за исключением лишь небольшой группы европеизированного дворянства. Это означает, в частности, что влияние политики дисциплинирования на реальные религиозные практики и на восприятие институциализированных путей спасения было ничтожным. Большинство населения продолжало жить с традиционными понятиями о благочестии, верить в своих юродивых, в чудеса, о которых повествовали многочисленные странники обоего пола, в святые колодцы и прочие «суеверные» (с точки зрения европеизированной власти) предметы; в соответствии с этим они продолжали полагаться на них как на действенные инструменты спасения и пренебрегать самоконтролем и институциализированным покаянием. У «народа» была своя «народная вера», которой оставалась вполне чужда рационализированная религиозность, рассматривавшаяся как принадлежность «цивилизованного» мира. Для того чтобы эта «народная вера» оказалась частью особого пути, надо было лишь превратить ее нецивилизованность из отрицательного атрибута в положительный.
Одним из факторов, который делал православных столь невосприимчивыми к духовным выгодам религиозной и социальной дисциплины, частой исповеди и внушаемой ею некоторой уверенности в будущем спасении, были их сотериологические верования, а именно их расчет на иррегулярные (неинституциализированные) способы спасения. Спасение, как уже говорилось, могло быть достигнуто с помощью «святых людей», чудотворных икон, святых колодцев, удачного места погребения и т. д. При доступности всех этих способов верующего вряд ли могли привлечь строгие покаянные правила и утомительный процесс институциализированного отпущения грехов. В XVIII веке предпринимались попытки осудить это «незаконное» спасение и исключить его из числа допустимых инструментов православного благочестия. Эти усилия не принесли результатов. Для большинства населения малоизвестная чудотворная икона или подозрительный юродивый оставались куда более действенными и надежными способами избежать вечных мук, чем признание в не вполне понимаемых прегрешениях, произнесенное пред приходским священником, и отпустительная формула, связанная с еще менее понятной властью ключей.
В этих условиях церковная власть в XIX веке была вынуждена идти на компромиссы и признавать то, что при Петре I или Екатерине II считалось бы «суеверием». В условиях распадающихся традиций «непросвещенное» благочестие было лучше, чем отчуждение от церкви, и в силу этого духовенство если и не всегда поощряло «суеверные» практики (для определенной части духовенства эти практики и были верой отцов), то относилось к ним с терпимостью. В подобных обстоятельствах народная религиозность оставалась традиционной и, по существу, нереформированной. Никакой интериоризации религиозной дисциплины в русском обществе не случилось (я, конечно, не говорю здесь об отдельных личностях и небольших группах). Тот цивилизационный процесс интериоризации социальных запретов, который описан для западного общества Норбертом Элиасом [Элиас 2001: 237–327], в России если и не вовсе не имел места, то по крайней мере затрагивал лишь ничтожную часть населения. Для подавляющего большинства русских людей эти запреты оставались внешним принуждением и при желании могли рассматриваться как попытки привить русскому народу «западный» рационализм, наносящий ущерб органической «народной» жизни. Отсутствие религиозного рационализма и легализма, находящее, как мы видели, определенное соответствие в исторической реальности, легко превращалось в ингредиент особого пути.
Устойчивость традиционных и не затронутых дисциплинированием представлений о спасении имела многочисленные последствия для жизни русского общества. Прежде всего понятие индивидуального греха оставалось смутным и второстепенным по важности; грех воспринимался в большей степени как экзистенциальная характеристика человеческой жизни, чем как личная вина. Поэтому понятия греха и спасения существовали в сфере Божественного промысла и имели мало отношения к каждодневному индивидуальному поведению. Макс Вебер мимоходом замечает в своей «Экономике и обществе»:
Постоянный контроль над жизненным путем индивидуума лицом, которое уполномочено распределять благодать, контроль, который в ряде случаев может быть весьма эффективным <…> на практике часто не действует, в силу того что всегда остаются запасы благодати, которые могут быть распределены заново. <…> Малоразвитый и недетализированный метод исповеди, особенно характерный для русской церкви и часто принимавший форму коллективного признания прегрешения, не мог, конечно, оказывать устойчивого воздействия на поведение [Weber 1980: 339].
Характерным образом в России XVIII и XIX веков, в отличие от Запада, преступники (убийцы, грабители, воры) вызывали в народе жалость и сочувствие; они воспринимались как жертвы – не столько, видимо, государственной системы, сколько неизбывных черт человеческого существования в этом мире скорби. Их страдания рассматривались не как заслуженное наказание за злонамеренность, но скорее как болезненное проявление бедственности земного бытия. Как отмечает Николай Костомаров на основании записок Олеария,
иностранцам казалось странно, что люди, наказанные кнутом, не только не отмечались народным презрением, но еще возбуждали к себе участие и внушали даже некоторого рода уважение к своим страданиям. Никто не стыдился не только ласково говорить с ними, но даже вместе с ними есть и пить [Костомаров 1860: 209].
Можно полагать, что Достоевский перерабатывал эти народные идеи, когда он в «Братьях Карамазовых» говорил о всеобщем грехе и всеобщей вине. Хотя представление о том, что христианин ответствен за грехи своего ближнего, обычно в монашеской литературе, Достоевский доводит его до крайности. Старец Зосима говорит, что «всякий из нас пред всеми во всем виноват», – или в формуле, имеющей литургические коннотации: «за всех и за вся виноват» [Достоевский 1976: 262, 290]. Все грехи – грехи всех. Все грехи становятся не индивидуальным, а общим достоянием, и, как следствие, спасение также становится общим. Праведники могут поделиться им со своей грешной братией даже на том свете, например подав луковку [Достоевский 1976: 293]. Грешники могут спастись даже после смерти [Hackel 1983: 150–152], что явно представляет собой противоречащую православию идею, напоминающую спасение преп. Антонием Печерским нераскаянного грешника, как об этом повествуется в Киево-Печерском патерике.
Кажется интересным связать с этими или подобными идеями появление практики общей исповеди, заведенной св. Иоанном Кронштадтским. О. Иоанн был необыкновенно популярен как проповедник, духовный отец и чудотворец. По словам Томаса Тентлера, его
популярность как харизматического наставника душ вела к драматическому отступлению от правил, когда исповедь выкрикивалась исповедником, а затем следовало публичное и массовое отпущение грехов. Хотя отец Иоанн нарушал православные установления, эти экстраординарные действования сходили ему с рук <…>. То, на что смотрели сквозь пальцы как на харизматическую духовность в России XX столетия, на Западе было бы заклеймлено как недопустимая пастырская практика – трудно вообразить какого-либо епископа, относящегося к ней с терпимостью [Тентлер 2003: 274–275].
Представляется, что на эти практики смотрели снисходительно именно потому, что они находились в согласии с многовековой традиционной религиозностью, которую церковные иерархи в начале XX века отчаялись реформировать и которая в определенной степени находила поддержку у царя, стремившегося к единению со своим «народом».
Все это определяло специфические для России (в сравнении с пережившим дисциплинарную революцию Западом) религиозные практики и пути конструирования личности. Как известно, исповедь порождает эмбриональный биографический нарратив, который, в свою очередь, является одним из основных инструментов конструирования личности. Покаяние и исповедь представляют собой, согласно Мишелю Фуко, одни из наиболее важных технологий личности [Foucault 1976: 25–49; Foucault 1988]. Перечисляя совершенные за день прегрешения, кающийся занят самоанализом и мемориализацией собственных действий. Когда он или она приходит к священнику на исповедь, эта память превращается в нарратив. Этот нарратив, составленный из совершенных грехов, определяет концептуальное восприятие жизненного пути. Поэтому характер покаянной дисциплины и ее строгость могут быть непосредственно связаны с формированием индивидуального сознания. В православном мире и в особенности в России покаянная дисциплина была существенно менее строгой, чем на католическом Западе; это не могло не породить нечетко очерченную индивидуальность, личность, которой присуща некоторая общинность, некоторая неопределенность в разграничении индивидуального и общественного. Это вполне реальные и вполне рационально объяснимые черты русского жизненного устройства, отличающие его от аналогичных западных феноменов. Именно они и подвергаются переосмыслению при создании концепции особого пути России, именно они служат той исторической базой, на которой строится данная романтически-националистическая категория.
[Алмазов 1894] – Алмазов А. Тайная исповедь в православной восточной Церкви: Опыт внешней истории: В 3 т. Т. I. Одесса: Типо-литография Штаба Одесского военного округа, 1894. [Репринт: М.: Паломник, 1995.]
[Алмазов 1900] – Алмазов А. И. Сообщения западных иностранцев XVI–XVII вв. о совершении Таинств в Русской Церкви: Церковно-археологический очерк. Казань: Типо-литография Императорского университета, 1900.
[БЛДР 1997] – Библиотека литературы Древней Руси / Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева и Н. В. Понырко. Т. 4: XII век. СПб.: Наука, 1997.