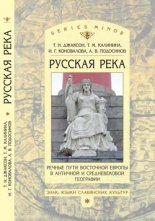Композиционное мышление Свешников Александр
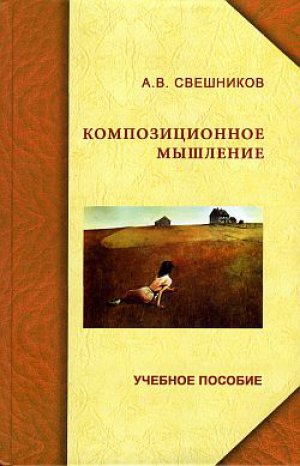
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова
Рецензенты:
М.Ф. Киселёв; доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент РАХ
В.В. Бабияк, доктор искусствоведения, профессор
Введение
Эта книга о композиционном мышлении в живописи, которое, протекая на фоне динамичного мыслительного поля художественных конструктов, образует причудливые узоры творческого воображения. В работе описано, как на постоянно меняющейся ментальной поверхности развертывается процесс образного мышления, как, несмотря на неуловимую конфигурацию, всё же удаётся увидеть его закономерные стороны.
Композиционное мышление – не кристальная форма причинно-следственных отношений, а нечто, напоминающее вихреобразное волнение морского прибоя, с такими же водоворотами и тысячами брызг, разлетающимися и вновь собирающимися в единую массу миллионов и миллиардов мыслительных конструктов, между которыми молнией пробегает мысль, связующая их в единое целое.
В тоже время эта работа не об эпикурейских садах безудержного полета фантазии или возведённого стоиками в абсолют стремления к атараксии. Она о художнике, в борьбе с самим собой создающем картину, о писателе, сочиняющем отнюдь не идиллический роман, о композиторе, пишущем полную драматизма музыку, о матери, рассказывающей своему ребенку сказку, подготавливающую его к многотрудной жизни. Обо всех тех, кто в своей деятельности опирается на вдохновение и чувственные образы.
Иногда мышление понимается как линейный процесс, в котором одно следует из другого, а логические закономерности подчиняют все остальные взаимосвязи. В таком мышлении нет места вдохновению, того, что удивляет нас, когда мы видим сверкающие мыслью глаза нашего собеседника, когда перед нами поэт читает свои стихи, или когда молодые пары с радостным упоением играют словами в ту таинственную игру ума, которая продиктована любовью. И уж конечно такое представление о мышлении не способно объяснить неожиданные результаты художественного творчества.
Известно, что рационально-логические подходы непригодны для описания процессов воображения, что логика не в состоянии объяснить наше осмысление возвышенного, прекрасного, удивительного и многих других художественных, эстетических и оценочных категорий. Невозможно в понятийной форме полностью, адекватно описать смысл произведения искусства. При этом недостаточно сказать, что художественно-образное мышление по своей природе иррационально и алогично. Нужно показать, что это алогичное, иррациональное, недискурсивное мышление имеет свои закономерности, свои алгоритмы, и понять, каковы эти алгоритмы.
В нашей работе мы попытались продемонстрировать, что алогичное художественное не тождественно хаотичному и произвольному, а подчиняется особым правилам и законам, которые обладают не жёсткими причинно-следственными связями, а имеют формы вероятностных взаимоотношений. Мы постарались рассмотреть эти законы и описать, каким образом осуществляется композиционное мышление в живописи, что является его основной целью и продуктивным результатом.
Несмотря на то, что главный акцент нами сделан в первую очередь на закономерностях иррационального, была показана недопустимость полного сведения композиционного мышления к такого рода явлениям. В структуре художественной деятельности, безусловно, присутствует активное рациональное начало, особенно на начальной стадии организации художественного произведения.
В работе описано, как художественно-композиционное мышление координируется двумя тесно взаимосвязанными процессами: построением и структурированием пространства мыслительного поля и организацией мыслительного маршрута в этом поле.
Предложенный ниже анализ опирается на представление о том, что художественно-композиционное мышление направлено не столько на то, чтобы «правильно» отразить мир, сколько в первую очередь на то, чтобы охватить как можно больше явлений и объединить их в целостность и только затем из-за этой своей особенности оно становится мышлением адекватным, «правильным», то есть добивается адекватности путём одновременного удержания большой массы явлений в их целостной взаимосвязи. Результатом такого мышления оказывается художественное мировоззрение, миропонимание и мироощущение, – «знание» в первую очередь не об отдельном факте, а о мире в целом, об образе Мира.
Работа состоит из пяти разделов.
В первом разделе рассмотрены исторические предпосылки возникновения теоретических представлений о композиции живописного произведения. Сравнительный обзор становления композиционных категорий призван показать относительность большинства законов композиции, их зависимость от мировоззрения и вкусов, господствующих в отдельные исторические периоды, показать, каким образом композиционные построения в живописи подчинены художественной модели мира принятой обществом в данный момент. Композиционные каноны постоянно сменяют друг друга. Исчезают целые эстетические направления с их, казалось бы, устоявшимися «художественными абсолютными истинами». При этом просматривается тенденция преемственности и проявления предшествующих композиционных представлений в новых исторических условиях.
Художественные законы, обусловленные влиянием социума, можно условно назвать внешними. Их следует отличать от неподвластных социальным предпочтениям «внутренних» (имманентных) композиционных закономерностей, связанных с глубинной психологической природой человека. Анализ имманентных законов обусловленных особенностями художественного мышления – тема второго раздела. В нём представлены примеры как простых, так и сложных изобразительных композиций и показано, что они являются производными диалогических отношений «художник произведение ** зритель». Понятия «целостность» и «отношение» положены в основу всего последующего анализа и показано, что композиционное мышление невозможно понять вне контекста коммуникативных и семиотических категорий. В разделе также рассмотрены свойства неделимого первичного композиционного элемента.
Третья глава посвящена особенностям организации пространства композиционного мыслительного поля и алгоритма его изменения под воздействием новой информации. В ней анализируются особенности мыслительного маршрута, разворачивающегося в меняющейся структуре этого поля. В разделе изложена основная цель работы – построение «динамической модели» композиционного мышления и формы его организации, высказываются некоторые соображения относительно того, каким образом возникают новые продуктивные мысли, новые идеи, новые художественные образы.
Проблема закономерного возникновения фантазийных конструктов – тема четвертой главы. В ней описано, какую роль играют такие конструкты в мыслительном процессе, как они способствуют образованию единого ментального поля и наиболее «простой» (прегнантной) организации мыслительного маршрута. Проанализировано, как проявляются фантазийные конструкты в композиции художественного произведения, и какую роль они играют в создании образной целостности.
В пятом разделе рассмотрены индивидуальные особенности композиционного мышления и их роль в формировании художественной направленности личности. В нём показано, как определенным типам личности соответствуют различные виды художественной пластики.
Глава 1
Исторический обзор становления основных композиционных категорий
Композиционное мышление мы начнём рассматривать с анализа внешних причин, в частности, с краткого сравнительного обзора наиболее интересных, с нашей точки зрения, исторических периодов – Средневековья и Возрождения.
Эстетические представления этих эпох, сильно влиявшие на композиционное мышление, основываются на возникших в античной культуре философских воззрениях платонизма и неоплатонизма. Поэтому во вступлении мы кратко покажем некоторые особенности композиционных подходов Древней Греции и Рима.
Не претендуя на исчерпывающую характеристику столь сложного вопроса, мы постараемся показать лишь некоторые стороны эстетических воззрений прошлого, определивших последующие художественные взгляды и живописное композиционное мышление.
Теоретики искусства давно обратили внимание на основные свойства композиции: целостность, единство противоречий, конструктивность, замкнутость и разомкнутость организации отдельных компонентов. Следует иметь в виду, что перечисленные категории не были умозрительными построениями, а возникли как результат анализа конкретных художественных произведений и методов работы над ними.
В разные исторические периоды существовали различные художественно-композиционные представления, достаточно тесно связанные друг с другом. И.И. Иоффе пишет: «Каждое произведение искусства является функцией не одного исторического момента, а всей исторической системы. Каждое произведение искусства представляет собой не механическую совокупность элементов, а систему исторических, разновременных, разностадиальных элементов. Являясь частью истории, произведение искусства само является исторической системой и, как историческая система, должно быть анализировано. Его границы с другими произведениями условны, текучи и переходны. Поэтому анализ единичного произведения должен исходить от исторического целого, как анализ отдельных элементов произведения – из их совокупности, из целого, а не частного элемента. Это и есть дифференциальный анализ в отличие от механического разъятия» [1].
Нельзя не согласиться с такой постановкой вопроса относительно отдельных произведений искусства. Но также было бы неверно полагать, что «дифференциальный анализ» не нужен для понимания основных композиционных категорий. Их нельзя рассматривать в отрыве от той реальной художественной почвы, на которой они возникли.
Несмотря на то, что сейчас существует несколько теоретических подходов к тому, что собой представляет художественная композиция, основой всякого разговора о композиции является проблема целостности.
Трудно сказать, когда впервые была выделена эта категория применительно к композиции. [2] Ещё римский император Марк Аврелий (121–180 гг. н. э.), разделявший взгляды позднего стоицизма, исходя из отношения красоты и целостности, писал: «Прежде всего, следует установить, что я являюсь частью Целого, управляемого природой; затем, что я некоторым образом связан с частями, однородными мне… То, что полезно Целому, не может быть вредно части… В Целом же нет ничего, что не было бы полезно ему… Целое будет извращено, если ты хоть в чём-нибудь нарушишь согласие и связь, как частей его, так и причин». [3]
Это архаичное представление о соотношении целого и его частей конечно очень далеко от современных системных подходов. [4] Однако весьма любопытно, что художественные решения фризов, фронтонов, фресковых росписей отличались значительно более сложным образом Целого, чем известные в то время рационально выстроенные и логически осмысленные представления об этой категории. Видимо, это не случайно, ведь и полифония как способ создания художественной модели мира возникла значительно раньше устойчивых философских представлений о диалектических законах мировой гармонии. Хотя, справедливости ради надо сказать, что и здесь не так всё просто – представления древних китайцев о «ян и инь» уходят своими корнями в глубину тысячелетий.
В следующих разделах будут коротко показаны некоторые особенности художественно-композиционных представлений двух эпох – Средневековья и Возрождения. Эти два периода мировой художественной истории при всём своём различии логически связаны между собой. Поэтому можно будет проследить, каким образом некоторые фундаментальные композиционные категории, такие как, например, целостность, претерпевают изменения в зависимости от духовных представлений конкретного исторического периода.
Данная работа не содержит исчерпывающего сравнительного анализа Средневековья и Возрождения. Совершенно ясно, что эти периоды так сложны и насыщены противоречивыми взаимопроникающими направлениями, так много и всесторонне исследованы, что невозможно претендовать на фундаментальный анализ их взаимовлияния в контексте работы преследующей только одну задачу: проиллюстрировать влияние общей культурной атмосферы на художественно-композиционное мышление. А также показать, как современные представления о композиционной конструкции постепенно завоёвывали себе место в искусствознании и что фундаментальная категория – целостность – присутствовала во всей своей сложности в художественно-композиционной деятельности мастеров этих периодов.
Итак, начнём сравнительный обзор Средневековья и Ренессанса с очень краткого определения некоторых характерных черт изобразительного искусства предшествующих эпох, т. к. и средневековая и возрожденческая эстетика представляют собой продолжение и реакцию на художественный образ мира, существовавший ранее.
Средневековая эстетика возникла как развитие и критическое переосмысление эстетики Древней Греции и Рима. Как уже говорилось, в своей основе она была частью философии неоплатонизма, возникшей в поздней античности. Соединив христианство и неоплатонизм, средневековые философы создали уникальную эстетическую модель мира, которую трудно понять, не зная её истоков.
С Возрождением дело обстоит не менее сложно. По мнению многих учёных, Ренессанс был переходом от Средневековья к современному мышлению. Причём, корни Возрождения пронизаны духом античности. Сразу три философско-религиозных мировоззрения: язычество, христианство и атеизм сплелись в этот период в тугой узел.
Работу М. Алпатова «Композиция в живописи» нужно отнести к одной из наиболее известных попыток исторического анализа развития композиции. В сжатом изложении курса лекций, прочитанных автором в 1936-37 гг. в Московском институте изобразительных искусств, даётся достаточно широкое определение композиции. Два основных начала – симметрия и ритм – выделялись им как основа композиционной структуры. При этом М. Алпатов считал, что можно говорить о композиции не только в искусстве, но и о «естественной» композиции в природе.
М. Алпатов даёт исторический обзор типов композиции. Интересны его наблюдение и анализ первобытного композиционного мышления, отличительной особенностью которого является, по мнению автора, отсутствие целого. Он считал, что первобытные изображения представляли собой суммы тщательно проработанных, но отдельных фигур: «… Мы должны признать, – пишет Алпатов, – что такое понимание композиции присуще очень примитивному мышлению, вызвано неспособностью первобытного человека к обобщениям. Оно могло существовать только на ранней стадии человеческой культуры» [5].
В композиции древнего Востока возникает почти жёсткая упорядоченность, связь предметов с окружающей их обстановкой, геометричность форм, расчленение поля на горизонтальные и вертикальные полосы, тесная связь с архитектурой.
Композиции Древнего Египта полностью лишены перспективы, но одновременно с этим был выработан особый закон изображения предметов на плоскости. Прослеживается стремление создать «изображение умозрительного представления», некоего сложного знака. Поэтому фризовая композиция была более приемлема, чем перспективные построения.
Фризовые композиции представляли собой одновременно и знак, и орнамент. Они были сложнее орнамента, т. к. несли смысл повествования, но не были окрашены образным чувством и представляли собой скорее сложное иероглифическое выражение мысли. При этом главной, как при письме, была изобразительная задача решения плоскости, блестяще выполняемая художниками древнего Востока.
В произведениях художников Древней Греции отдельные части связаны не только между собой, но и с целым, поэтому, – писал Алпатов, – «…греческие композиции приобретают большее единство. Правда, и в египетском рельефе каждая фигура читалась как звено, входящее в состав длинной цепочки, но звено это, именно как отдельное кольцо цепочки, было связано лишь с соседним звеном. Греческая композиция в гораздо большей степени задумана как некое сложное, но органическое целое, в котором отдельные части связаны не только между собой, но и со всей композицией в целом…» [6]. Однако здесь ещё нет свободы композиционного решения. Она появляется значительно позже.
Древнегреческому искусству свойственна сложная композиция. Художественное мышление поднялось здесь на высокую ступень. Это проявилось не только в скульптурах и фризовых композициях, но и во фресковой живописи.
На помпеянской фреске «Одиссей и Ахилл у царя Ликомеда» совершенно явственно выделяется композиционный центр и выстраивается иерархия ритмических отношений. Позднеантичная фреска напоминает картины Возрождения и XVIII века, хотя близка к вазовому рисунку V века до н. э. Слитный контур групп, характерный для художников Возрождения, почти отсутствует. Чувствуется некоторая фрагментарность и большая свобода обращения с плоскостью, во многом утраченная европейским классицизмом.
Ил. 1
Ахилл и Одиссей у царя Ликомеда. (50–79 г.)
Поздняя античность даёт образцы высокого теоретического осмысления композиционных проблем. Известный греческий философ Плотин (204–270 гг. н. э.) дал глубокое, во многом предвосхищающее наше сегодняшнее понимание, определение композиции: «Что производит на вас впечатление, – спрашивает он, – когда вы на что-нибудь смотрите, когда что-нибудь развлекает вас, пленяет и наполняет радостью? Мы все согласны, могу я сказать, что красоту составляет отношение частей друг к другу и к целому (курсив мой, – А.С.) вместе с красотой цвета, другими словами, – что красота в видимых вещах, как и во всём другом, состоит в симметрии и пропорциях. Действительно, лишь сложное, но не простое и лишённое частей может быть действительно прекрасно» [7].
Просто поразительно, насколько определение Плотина соответствует современным взглядам и фактически предвосхищает современное определение системного анализа. Неужели почти за две тысячи лет мы не сумели существенно приблизиться к пониманию этого вопроса? Похоже, что так оно и есть на самом деле. Поэтому в основном задача исследования состоит в том, чтобы не утратить уже найденное, несколько систематизировать разрозненное. Ведь золотники нового – редчайшие находки нашего разума – появлялись со времён античности всего несколько раз.
Впервые новый взгляд на композиционное целое был связан с изменением образа картины мира, возникшей в Средние века.
Исторический анализ позволяет проследить особенности становления всё более и более сложных форм композиции в искусстве и в то же время лучше разглядеть ментальную динамику овладения композиционными формами у отдельного художника, осваивающего всё более сложные структуры.
§ 1. Особенности композиционных представлений Средневековья
Форма всякой красоты – единство.
Епископ города Гиппон Аврелий Августин (354–430 гг.)
Бытовавшее со времён гуманистов и просветителей мнение о Средних веках как о застойном, косном периоде, противопоставление Средневековья Новому времени с его динамичностью и прогрессом уступает сейчас место иному взгляду на это сложное явление.
М. Алпатов писал, что средневековое искусство во всех его проявлениях отказывается от трёхмерной композиции, от композиции свободно движущихся в пространстве фигур, что средневековые мастера ставили себе новые, незнакомые для античности задачи. [8]
В изобразительном искусстве получает распространение обратная перспектива, которую нередко считали признаком неумелости и детскости восприятия, «варварской» регрессией и деградацией.
У А.Я. Гуревича мы читаем, что со Средними веками трудно совладать мысли, которая ищет опоры в правилах логики, установленных Аристотелем. Слишком многое в ту эпоху кажется иррациональным, противоречивым, если не уродливым. [9] С этой мыслью трудно не согласиться: некоторые откровения тех времен звучат для нас почти как мистический бред: «…вмещают ли Тебя небо и земля, если Ты наполняешь их? Или Ты наполняешь их и ещё что-то в Тебе остаётся, ибо они не вмещают Тебя? И куда изливается этот остаток Твой, когда небо и земля наполнены? Или Тебе не нужно вместилища, Тебе, который вмещает всё, ибо то, что Ты наполняешь, Ты наполняешь вмещая? Не сосуды, полные Тобой, сообщают Тебе устойчивость: пусть они разбиваются, Ты не выльешься. А когда Ты изливаешься в нас, то не Ты падаешь, но мы воздвигнуты Тобой; не Ты расточаешься, но мы собраны Тобой. И всё, что Ты наполняешь, целиком Собой Ты все наполняешь. Но ведь всё это не в состоянии вместить Тебя, оно вмещает только часть Тебя – и все сразу вмещают ту же самую часть? Или отдельные создания – отдельные части: большие большую, меньшие меньшую? Итак, одна часть в Тебе больше, а другая меньше? Или же повсюду Ты целый и ничто не может вместить Тебя целого?» [10] Очевидно, что порождающее такие рассуждения образное представление о Боге и мире не могло быть уложено в изобразительные каноны эллинизма.
Эстетические представления Средневековья закономерно возникли как реакция на распад античной философии и этики, являясь необходимым продолжением борьбы человека за сохранение жизнеутверждающей художественно-нравственной позиции.
Нравственно-эстетические устои Рима потерпели сокрушительное поражение не только от нашествия варваров. Ученик, обрекающий своего гениального учителя на позорную и мучительную смерть, образ истекающего кровью Сенеки и тиранствующего актёра – символ тупика духовного развития целой культурной эпохи, возникшего задолго до ее физического уничтожения [11].
Новая возникающая сила, тем не менее, не стала исцеляющим и успокаивающим бальзамом. Огонь, кровь, разрушение, насилие – сквозь плотную завесу варварского нашествия невозможно было разглядеть начало; всё предвещало только конец. Воедино слилось несовместимое: древняя, но подорванная в своей вере учёность и полное сил почти дикое невежество с его неукротимой верой в смысл реальных, земных деяний. Последствия этого слияния продолжались более тысячелетия, они определили общественное сознание, расчленив, растерзав его, смешав первобытное представление с космической моделью античного образа мира.
Несмотря на свою, казалось бы, совершенно несовместимую двойственность, это новое состояние общественного сознания просуществовало так долго благодаря тому, что первобытные представления варваров, хотя и были для античной культуры примитивны, но в то же время всё-таки вписывались как низшее звено в мифологический образ языческого представления эллинов об устройстве мира. Поэтому первобытное мышление варваров было понятно римлянам, по крайней мере, в той степени, чтобы не ощущать его враждебным.
Значительно сложнее обстояло дело с ранним христианским искусством. Его распространению способствовало разрушение тоталитарного Рима. Государственная машина как сдерживающее начало перестала существовать. Мифологические представления античности потеряли свою силу и ассоциировались теперь с идеологической основой тиранического строя и примитивными представлениями варваров-язычников. В тоже время те же самые причины привели к изменению сущности искусства христиан. Зародившееся в оппозиции к языческому Риму, оно лишилось теперь своей главной земной основы и уже не могло быть органичной религией нищих хотя бы потому, что теперь именно нищие в своём подавляющем большинстве исповедовали варварское мировоззрение наиболее примитивных форм язычества. Поэтому христианское искусство становилось привилегией и философией богатых и грамотных.
Попытка сохранить культурные традиции античности в форме христианского вероучения, предпринимаемые образованными слоями общества, не могли быть успешными. Неизбежно произошёл отрыв от реальности из-за неприменимости христианских догматов к мировосприятию простолюдинов, всего необразованного населения. Здесь, «внизу», расцветала своя культура, не менее мощная, хотя и до недавнего времени менее известная. Это была культура «неграмотных» и «простецов». Она существовала не только в фольклоре, традициях и суевериях, но и в художественном творчестве.
Наряду с геополитической раздробленностью, о которой мы хорошо знаем, возникло и явное культурное расслоение, не соответствующее (что характерно именно для Средневековья) расслоению имущественному.
Культуру Средневековья легче понять, если перейти от глобального понятия «культура», претендующего на описание всего комплекса феноменов духовной жизни, к более дифференцированным понятиям, отражающим духовные установки разных групп и классов. Таких, как – «уровни культуры», «слои», «пласты». [12]
«Образованные» (т. е. умеющие читать и писать полатыни) и «неграмотные», «простецы» сформировали два параллельно развивающихся пласта культурной традиции, два различных миропонимания со своими своеобразными моделями мира. Обе тенденции существовали рядом, расщепляли этическое и художественное сознание.
По мнению И. Даниловой, «наверху» строго соблюдались иконографические образцы. Главную цель духовного существования видели в постижении и приближении к уже некогда сообщённой истине – Откровению, единожды и навсегда данному человечеству. Совершенство определялось мерой приближённости к первообразцу, в этом заключалась сверхзадача религиозно-духовного развития и сверхзадача искусства.
Цель здесь была двоякая. Вначале пытались как можно лучше сохранить культурную традицию эллинизма в новых религиозных формах христианства. Примером этого в частности может служить постоянное обращение к Аристотелю, почти канонизированному в среде схоластов, несмотря на его отнюдь не христианское мировоззрение. Со временем происходит всё больший отрыв от античных корней, взоры образованных людей все больше обращаются к современности, к повседневным духовным проблемам: потребности преодоления духовной амбивалентности средневековой культуры, поискам единства и абсолюта, общего начала, целостной гармонии и неизменности данного Откровения.
Это явление проходило на фоне противоборствующих тенденций. «Можно сказать (с известными оговорками, конечно), что человек средневековья жил как бы двумя жизнями: одной – официальной, монопольной, серьёзной и хмурой, подчиненной строгому иерархическому порядку полной страха, догматизма, благоговения и пиетета, и другой – карнавально-площадной, вольной, полной амбивалентного смеха, кощунства, профанаций всего священного, снижений и непристойностей фамильярного контакта со всеми и со всем. И обе эти жизни были узаконены, но разделены строгими временными границами.
Не учитывая чередования и взаимного остранения этих двух систем жизни и мышления (официальной и карнавальной), нельзя правильно понять своеобразие культурного сознания средневекового человека…», – пишет М.М. Бахтин. [13]
Страх и смех в общественном сознании слились в причудливый узор «гротескного мировосприятия». Каждый индивид был включён в разные и противоположные системы жизни и мышления: остранённый, мистический и примитивно-языческий миры с единым вездесущим Богом, чертями, оборотнями, русалками, колдовством, молитвами, ведьмами и святыми.
Не понимая этого ужасающего, с точки зрения рационального мышления современного человека, смешения, невозможно представить себе глубинные истоки художественно-композиционного мышления человека Средневековья.
Цитирование становится определяющим как в среде учёных, так и художников. Однако, интерпретация, неизбежная даже при очень строгом требовании соблюдения канона, бессознательно возникла при повторении в живописи иконографических переводов. Хотели или не хотели средневековые эстетики, но развитие традиции происходило несмотря ни на какие канонические догматы.
С точки зрения средневековых художников-схоластов, происходило неизбежное «убывание» истины, отделение от первопричины, нисхождение, движение вспять, требующее для своего преодоления возвращения к первообразу. Восхождение к истине было противоположно движению и развитию художественной стилистики. Этот парадокс оставил яркий след в композиционных решениях средневекового изобразительного искусства.
Из-за того, что развитие сдерживалось, оно порой приобретало причудливые изощрённые формы – плотина на пути к творческому поиску и самовыражению вынуждала находить окольные пути неосознанного выхода интерпретационных потребностей в орнаментальное усложнение фантастических образов-символов. Парадоксальное гротесковое сознание, интравертированный релятивизм монастырского мышления выражался в спонтанном выбросе архетипических символов коллективного бессознательного. [14]
Противоречивость одновременного существования в двух жизнях (официальной и карнавальной) порождала внутренний конфликт и на уровне отдельной личности. Внутренняя жизнь раздиралась парадоксальностью представлений между запретами и осмеянием, между страхом перед смертью и презрением к ней, созерцательностью существования и потребностью в активной деятельности.
В изобразительном искусстве всё это проявляется в своеобразных, вычурных пропорциях, невероятно усложнённых и замысловато сплетённых узорах-переходах одного изображаемого существа в другое – растений в людей, фантастических животных в своды мироздания. Химеры готических соборов мирно сосуществовали с аскетическими скульптурными изображениями и возвышенными по своей тематике витражами.
Социально-психологическая компенсация проявлялась в композиции средневекового изобразительного искусства в виде «текучих символов», на глазах у зрителя претерпевающих фантастические превращения. Отсюда такое внимание к пластике, линиям, к графическим средствам. Решение этих задач в пространственных изображениях технически сложно, а для того времени было просто нереальным. Видимо, поэтому одна из причин активного ухода от иллюзии глубины в композициях была в невозможности найти адекватные изобразительные техники для передачи «текучей символики» [15].
В отношении символов средневекового искусства необходимо сделать одно уточнение: «…поскольку божество заключало в себе тайну принципиально непостижимого, оно не раскрывало до конца своей первосущности ни в одних из своих подобий, ибо «запредельный образ превосходит слабое своё изображение» [16]. Поэтому и всякое изображение бога и божественного представляло собой иносказание, знак чего-то другого», – читаем мы в книге Даниловой [17].
Изобразительный текст не должен был пониматься буквально. В трактате Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии» есть глава «О том, что Божественные и небесные предметы прилично изображаются под символами, даже с ними несходными», где Дионисий предостерегает от примитивного понимания священных изображений. Он пишет, что не следует представлять себе грубо, как это делают невежды, небесные и умные богоподобные силы, носящие «скотский облик волов, или звериный вид львов, с изогнутым клювом орлов или птичьими перьями». Не следует, – пишет он, – «изображать, будто на небе находятся огневидные колесницы, вещественные троны, нужные для восседания на них Божества, многоцветные кони, военачальники, вооружённые копьями, и многое тому подобное, показанное нам Св. Писанием под многоразличными таинственными символами… Ибо явно, что Богословие употребило священные пиитические изображения для описания умных Сил, не имеющих образа (разрядка моя. – А.С.), имея в виду, как выше сказано, наш разум, заботясь о свойственной и ему средней способности возвышаться от дольнего к горнему и приспособляя его понятиям свои таинственные священные изображения» [18]. «Несравненно приличнее, – пишет Дионисий, – употреблять изображения, несходные с ними (с Высшими силами), которые показывают, «что они превыше всякой вещественности» [19].
Художественный образ средневековой композиции был символом [20]. Символы – это несходные подобия, слабая попытка нашего разума представить непредставимое.
Таким образом, средневековые изображения были направлены на то, чтобы вызвать у человека чувство Божества, как можно более приблизить его к этому чувству путём созерцания всего комплекса символических изображений, раскрыть перед ним «образный ряд», воспринимая который зритель охватывает весь «текст», всю полноту смысла, выходящего за рамки конкретного изображения. Здесь есть набор повторяющихся композиционных формул, зрительных канонов, но предполагалось, что они не изображают божественную сущность, а лишь создают предпосылки для чувственного приобщения к ней.
«Создаётся сложная, многослойная образная структура, – пишет Данилова, – расшифровка которой требовала от зрителя не менее сложных, многоступенчатых «мыслительных» операций». И средневековый зритель, также как средневековый художник, был настроен на этот умозрительный характер восприятия. «На нарисованное следует телесным оком смотреть так, чтобы разумением ума постичь и то, что не может быть нарисовано» [21]. На художественные и композиционные представления человека Средневековья оказывало большое влияние его твердая уверенность в том, что многого, и тем более самого главного, «телесное око не может увидеть в картине», ибо «этого нельзя показать на плоскости» [22]. Художник не в силах полностью воплотить идею произведения через зримые образы, а зритель не может воспринять её чисто зрительно: главное можно только представить себе мысленно – «все сие испытуется разумением сердца» [23, 24].
В этой обширной цитате великолепно сформулирована главная смысловая, художественная задача средневековой живописи, которая не показывала мир, ибо это невозможно, а вызывала чувство, которое способствовало пониманию всей сложности божественного устройства мира.
Здесь следует сделать еще одно добавление.
Средневековая концепция мира и Бога представляла собой некую «голографическую» модель [25]. Начиная наш обзор средневековой композиции, мы привели цитату из «Исповеди» Блаженного Августина: «…Итак, одна часть в Тебе больше, а другая меньше? Или же повсюду Ты целый и ничего не может вместить Тебя целого?..». Часть оказывается, по существу, равна целому. В каждой единице мироздания – целое мироздание; каждый кусочек несёт в себе информацию (выражаясь современным языком) о бесконечности.
Такое представление о существе мира, столь ярко выразившееся в философии Средневековья, существует и в наше время. В романе Томаса Манна «Волшебная гора» мы читаем: «… В миг последнего деления и дробления материальной частицы внезапно раскрывался астрономический космос!
Атом оказывался заряженной энергией космической системой, в которой космические тела вращались вокруг некоего центра, подобного солнцу, и через эфирное пространство которой со скоростью световых лет проносились кометы, а сила притяжения центрального небесного тела не давала им сойти с их эксцентрических путей. И это было не только сравнение… – они (малые миры) в точности повторяли её (Вселенную). Так отражался в сокровеннейших недрах природы, в её отдалённых глубинах макрокосмический звёздный мир, чьи скопления, россыпи, группы, фигуры, побледневшие от лунного света, плыли над головой закутанного в одеяло адепта и над сверкавшей замёрзшей долиной. И разве нельзя было допустить, что некоторые планеты солнечной атомной системы, эти несметные множества и млечные пути солнечных систем, из которых построена материя, – что на том или другом из этих микрокосмических небесных тел существуют условия, подобные нашим земным, давшим Земле возможность стать очагом жизни?.. Ведь «ничтожная» величина микрокосмических звёздных тел – возражение весьма шаткое, ибо масштабы «большого» и «малого» оказались непригодными с той минуты, когда открылся космический характер мельчайших частиц вещества, исчезла и устойчивость понятия внешнего и внутреннего. Мир атома – это было нечто внешнее, и очень вероятно, что наша планета, на которой мы живём, с точки зрения органической представляла собой нечто глубоко внутреннее» [26].
Можно ли говорить об искусстве Средневековья, выражавшего столь сложные релятивистские представления об устройстве мира, как об искусстве детского восприятия, как о варварской регрессии и деградации? Если уместна параллель с духовным становлением отдельной личности, то средневековое искусство и мировоззрение отражали то ошеломляющее душу впечатление, которое производит на юношу раскрывшаяся глубина мира перед его только начинающим по-настоящему созревать интеллектом, переходящим от детских к зрелым представлениям о существе мира.
Амбивалентные противоречия средневекового мировоззрения и искусства так напоминают амбитендентные реакции подростков с их «философскими интоксикациями» и попытками объяснить раскрывшийся перед их зреющим разумом гигантский, противоречивый и сложный мир, значительно превосходящий по своему устройству бывшее у них до того младенческое представление.
Но не будем слишком идеализировать Средневековье, делая из него новую «золотую легенду». Прислушаемся к предостережению французского медиевиста Ж. Легоффа [27]. Средневековье не было и «чёрной легендой, оно не было крушением культуры – это был болезненный переход от античности к новой, более высокой степени зрелого общественного сознания, к Возрождению, с принципиально новой активно-созидательной концепцией эстетического мировосприятия, с принципиально иной композиционной структурой построения произведения искусства».
Прежде чем перейти к проблемам композиции следующего исторического периода развития мировой культуры – Возрождения, нужно остановиться ещё на одном существенном вопросе, который позволяет глубже понять своеобразие художественно-композиционной концепции Средневековья и её отличие от других эпох. Это проблема света как философско-эстетической основы художественного изображения.
Для современного художественного мировоззрения проблема света имеет во многом технический характер: свет лепит форму, образует тени, мы говорим о существовании светового пространства, светотональных отношениях. Таким образом, всё нередко сводится к графическому мастерству, к рисунку, к средству выявления и лепки формы. Смысловая нагрузка ограничивается передачей настроения: резкими контрастными или мягкими световыми отношениями создаётся то или иное чувственное впечатление. Свет для современного художественного мироощущения в первую очередь всё-таки физическая категория, важное изобразительное средство и лишь затем философско-эстетическое понятие.
Такой подход существовал не всегда. Он является результатом культурного длительного развития, изменения философских и естественнонаучных представлений о природе света. Для нас свет есть излучение, волна, частица, энергия, попадающая на тело и отражающаяся от него, и позволяющая увидеть в отражённом свете освещённое тело.
Всё это настолько очевидно для нашего мировосприятия, что представить себе иную трактовку достаточно сложно. Но иная трактовка была. Если во времена античности полагали, что свет бывает двух родов: исходящий извне и исходящий изнутри тела [28], то в средние века свет рассматривался, прежде всего, как философско-теологическая категория.
Отождествление Бога со светом встречается в Новом Завете, в противопоставление ветхозаветной концепции, согласно которой Бог является творцом света [29]. Написанное, как считают, под влиянием эллинистических мистерий «Евангелие от Иоанна» утверждает божественную метафизику света: «Бог есть свет, который во тьме светит, и тьма не объяла его» [30].
Позднее представление о Боге-свете трансформируется в идею света как эманацию Бога, «как динамическое истечение божественной энергии» [31]. Аврелий Августин ввёл две категории: сотворенного и несотворенного света. Несотворенный (нетварный) свет – это истина в себе, Бог как таковой. Сотворенный (тварный) свет – производное нетварного, проявление истины в форме религиозного озарения [32].
Своеобразно трактовалось и понятие темноты, точнее, божественной темноты. Согласно Псевдо-Дионисию Ареопагиту, нетварный свет Августина – это «сверхсветлый мрак», по существу сверхсильный свет, недоступный обычному восприятию, недосягаемый свет, в котором обитает Бог. Лишь достойные могут воспринимать его, т. е. во мраке увидеть этот сверхсветлый свет.
Поэтому в изображениях, созданных средневековыми художниками, свет имеет совершенно иное значение, чем мы это обычно себе представляем.» <…> В мозаике свет существует как категория не изображённая, а реальная; это естественный свет, проникающий через окна храма, или искусственный свет светильников, но при всех случаях живой и движущийся, заставляющий жить и изменяться мозаику» [33]. Свет средневековых изображений несёт свою особенную функцию, он «изливается на зрителя», не моделирует форму предметов, а преломляется в них, чтобы быть самому лучше воспринятым. Он рассчитан на восприятие его самого как художественного объекта. Поэтому в средневековом изображении композиция строится так, как если бы это было «окно из мира», а не как это будет позже в картинах Возрождения – «окно в мир». Композиционное мышление здесь очень отличается от современного. Чтобы понять смысл, мы должны смотреть не внутрь пространства иконы, а воспринимать то, как она изливает на нас Божественный свет, в котором различаются образы возвышенного. Это свет трансцендентный, прорыв божественного бытия, озаряющего все внутри пространства, в котором пребывает зритель, и пространство его собственной души.
Как видим, такой подход органично связан с голографической моделью целостности. Избранный увидит в сверхсветлом сиянии каждый отдельный, самый маленький предмет, а в нём всю целостную божественную сущность. Можно даже сказать, что голографическая целостность – это следствие концепции «сияния», света извне, озаряющего внутренний мир человека, и как бы заполняющего его равноценно воспринимаемыми частями.
Сверхсветлый мрак, нетварный свет не находится где-то далеко вовне. Он существует везде вокруг, так же, как везде существует вездесущий Бог. Поэтому нет источника света сверхсветлого мрака, нет точки, приближаясь к которой, мы бы всё глубже и глубже постигали абсолютную истину. Абсолютная истина, по средневековой концепции, может быть постигнута в состоянии озарения в любой точке пространства, в любом месте, в любом помещении.
Поэтому светотень как художественно-композиционное средство в средневековом изобразительном искусстве по существу отсутствует. Ведь там нет задачи лепки формы, построения пространства, там стоит задача «организации свечения». Изображённые фигуры «движутся, идут и возвращаются по прихоти блуждающих солнечных лучей, и вся поверхность мозаики пребывает в волнении, подобно водам морским», – пишет Венанций Фортунат [34].
Ил. 2
Прага. Базилика Св. Георгия. (XII в.)
Организация свечения есть, по сути, организация струящегося через проём света для более доступного понимания его божественной сути и достижения у созерцающего состояния озарения. Интерьер собора наполняется светом – такова цель изображений: «Ибо здесь родится свет, пленённый, он царит здесь свободно» [35], – гласит надпись в Архиепископской капелле в Равенне.
Ясно, что сказанное относится не только к мозаике, но и к фреске, витражу – любому изображению вплоть до миниатюры, которая также является как бы прорывом извне.
И. Данилова пишет: «Таким образом, возникает двойная шкала оценок: на уровне изобразительных средств свет в средневековой мозаике существует как категория чувственная, реальная, материальная; в то же время на уровне смысловом, образном свет фигурирует как категория трансцендентная» [36].
Если быть достаточно последовательным, то придётся признать, что двойственность культуры образованных и необразованных, грамотных и «простецов» отражалась как на восприятии, так и на создании художественных композиций в эпоху Средневековья, подчас сильно меняя только что описанные подходы.
Всё, что сейчас говорилось о категории света и её композиционном значении, в «низах» воспринималось по-иному.
Существовала выраженная фетишизация изображений, глубоко суеверное отношение к произведениям искусства. Искусствовед К.М. Муратова пишет, что о чудодейственной силе статуй, икон, реликвариев с наивным восхищением повествуют средневековые легенды, не забывая иногда упомянуть и создавшего их автора [37].
«Низкий» уровень неграмотных простецов вносил в элементы художественной композиции свои существенные черты. Поэтому, «организуя божественное свечение», мастер умозрительно, чисто интеллектуально мог это осознавать. Но на более простом, чувственном уровне творчество художника нередко отражало господствовавшие в народе архетипические образы, свойственные примитивным, менее грамотным, «низким» слоям общества. Поэтому не стоит удивляться, что в узорах «божественного свечения» мы подчас видим далеко не ангельские лики химер. Сознание и бессознательное в средневековом художественно-композиционном мышлении было не менее противоречиво, чем у современного человека. При этом эстетико-философская позиция накладывала неизгладимый отпечаток на стилистику изобразительного языка сильно отличающегося от современного. Попытки объяснить её, прибегая к наивным предположениям об элементарной художественной неграмотности мастеров Средневековья, о будто бы неизвестной им прямой перспективе или неумении пропорционально изображать человека так, как это делали до них греки, без учета трансцендентного содержания явно несостоятельны. Только в XIII веке начинается новый этап художественно-композиционных исканий, переход от средневековых взглядов к Возрождению. В учении Бонавентуры [38] о свете появляются новые подходы, более близкие к современным. Свет начинает рассматриваться в трёх ипостасях: божественной, духовной и телесной, то есть как освещение. Появляется представление о телесных тенях, о зримой форме предметов, проявляемой телесным светом.
Все сказанное о свете можно отнести и к цвету. Цвет имел в то время символическое значение и рассматривался как частный случай проявления света, а отнюдь не как способ выражения окрашенности предметов. Понятие собственного, локального цвета появилось значительно позже.
В этой связи важно понимать, что основные композиционные средства в произведениях средневековья несут иную функцию и имеют иной смысл, во многом противоположный нашим представлениям.
Итак, говоря о композиции средневековья, мы не можем рассматривать как самостоятельные задачи организацию плоскости, пространства, сюжета, потому что они, в сущности, не стояли перед художниками. Если мы хотим быть точными и не прикладывать наши собственные представления к совершенно иной основе, то, анализируя композиционные построения и художественное мышление Средних веков, придётся пользоваться скорее теологическим, чем композиционным категориальным аппаратом.
Проблема композиции средневековья очень интересна, потому что то время мало похоже на наше и ещё недостаточно изучено. Но на том уровне понимания, на котором мы находимся, можно говорить о постепенном закономерном разрушении эстетической концепции средневековья из-за обострения внутренних противоречий.
Действительно, если источник истины в прошлом, а задача художника – лишь в повторении, копировании, соблюдении канона, если источник абсолютной истины существует вечно, и основная цель – сохранить способность к озарению в реальном мире, ограниченном Творением и Апокалипсисом; если к тому же этот источник, выражаясь современным языком, пространственно не локализован, а голографически равномерно распределён, – то снимается всякая разница между внешним и внутренним.
В этом случае пропадает даже сама необходимость создания «проёма» для прорыва божественного света извне вовнутрь:
1. возникает идея равнозначности пространства,
2. становится искусственным противопоставление мира земного и мира небесного, времени вечного и времени сотворённого,
3. и вся целостность распадается на самодостаточные, бесконечно малые части, лишённые всякого различия.
Средневековая концепция целостности, доведённая до своего логического завершения, превращается в голографическую модель мира, которая на том уровне общественного сознания неминуемо приводит к её саморазрушению и самораспаду.
Чтобы этого не произошло, всё большее значение начинают приобретать представления о возможности и необходимости приближения к источнику «света истины», приближению и пространственному, и временному. Источник «выносится» бесконечно далеко вовне, а целью становится сам процесс приближения к нему. Это радикально отражается на композиционном мышлении: идея «проёма» постепенно превращается в идею «окна». Организация движения извне – в организацию движения вовне, в мир божественный, мир вне нас.
Эта новая мысль, проявляющаяся, в частности, в идеях Бонавентуры, также находит своё подтверждение в библейском учении, согласно которому человек создан по подобию Божьему, а, следовательно, наделён способностью творить.
Поэтому концепция изображения, направленного вовне, сливается с концепцией творения мира, в котором принимает участие и человек. Представления о художественном ремесле превращаются в представления о художественном творчестве. Во взглядах позднего средневековья зарождаются идеи Возрождения, начинают развиваться новые композиционные принципы, иные приёмы построения пространства, формы, новое отношение к цвету… Наступает эпоха картины [39].
На примере краткого исторического обзора композиции Средних веков становится ясно, что современные представления о композиции появились не сразу, хотя предпосылки были уже достаточно давно, что формы композиционного мышления менялись в зависимости от философских и религиозных представлений.
Дробность, характерная для древнего композиционного мышления в той или иной степени сохраняется вплоть до XV века. Для её преодоления мало было перейти от политеизма язычества к христианскому вероучению. Необходимо было признать право человека на творчество, чтобы последовательно сформулировать системное представление о мире, системное миропонимание.
Пока человеку отказывалось в праве на «сотворчество» вместе с Богом, или, точнее, пока не была признана возможность продолжения божественного творения «через человека», его руками, не удавалось сформулировать целостное мироощущение. Противоречия средневековой голографической модели мира разрушали целостность. Единство элементов в целом – краеугольная посылка композиционного мышления – могло быть непротиворечиво объяснено только с помощью представлений об иерархических системах, в которых человеку отводилась роль активного элемента, способного в определённой мере влиять на мировые процессы.
До тех пор, пока за элементами в системе принципиально не признавалось право на активность и свободу, иерархия всякий раз распадалась на равнозначные части, и наоборот, когда такая активность и свобода допускались, когда допускалась частичная независимость элемента, тогда художественные ментальные модели целостности становились более устойчивыми.
Этот парадокс человечество выстрадало в результате болезненного распада средневековой модели мира. Но, забегая вперёд, надо сказать, что предстояло ещё одно испытание, пережитое в наше время – в эпоху краха идей Возрождения: чрезмерный оптимизм относительно свободы творчества привёл человека (как элемент системной мировой модели) к отрыву от природных корней и собственному духовному распаду [40]. Признание того, что человек может всё, в том числе и познавать безгранично, породило дробность навыворот, привело к обратной стороне той же голографической модели, когда отдельные элементы становятся одинаково независимыми от целого.
Но в XV веке до этого разочарования было ещё очень далеко. Оптимизм креативной (творческой) теории только набирал силу.
§ 2. Становление композиционной теории
Человек стремится создать для себя наиболее приемлемым для него способом упрощенный и понятный образ мира; он пытается далее отчасти заменить этим собственным миром мир реальный и таким образом овладеть им. Именно так поступает художник, поэт, философ-мыслитель и ученый-естественник, каждый по-своему Они рассматривают этот мир и его строение как стержень своей эмоциональной жизни, чтобы обрести таким образом мир и безопасность, которых они не могут достичь в ограниченном водовороте личного опыта.
А. Эйнштейн
Новое мировоззрение Возрождения перевернуло все представления. В первую очередь это касалось отношений между человеком и природой. Если во времена средневековья бытовало представление, что природа включает в себя мир сотворенный и мир несотворенный, то теперь нерукотворный, божественный мир как бы был вынесен за скобки. Осталось только то, что было сотворено Богом [41]. Сущность нового времени состоит в том, что оно мыслит и действует в духе миро- и жизнеутверждения, которое до сих пор не выступало ещё с такой силой…
Это миро- и жизнеутверждение пробивает себе дорогу в эпоху Ренессанса с конца XIV века. Оно возникает как протест против средневекового порабощения умов. Победе этого движения содействует греческая философия, которая к середине XV столетия после бегства греческих ученых из Константинополя становится известной в своём подлинном виде и в Италии. Мыслителям того времени становится ясно, что философия должна представлять собой нечто более элементарное и более жизненное по сравнению с тем, чему учит схоластика.
Само по себе, однако, мышление Античности не смогло бы поддержать основанное на нём новое миро- и жизнеутверждающее начало, ибо в действительности ему не присуще такое отношение к миру и жизни. Огонь поддерживается другими горючими материалами. «Люди того времени открывают мир, совершая побег из сферы книжной учёности в царство природы» [42], – пишет Альберт Швейцер.
Это отразилось на представлениях о пространстве и времени.
В новых представлениях о пространстве объединялись только материальные, созданные Богом живые и неживые объекты, наделённые реальными, доступными измерению физическими свойствами – объёмом, весом, способностью к движению и т. д. Само пространство оказалось, таким образом, тоже вполне материальным, т. е. доступным измерению. Ведь то, что было некогда создано, можно было в принципе смоделировать и воссоздать вновь [43]. Теперь предполагалось, что человек, наделённый способностью творить, может повторить ранее созданное в новом, более приспособленном для себя виде [44].
Изучая океанские течения, Колумб построил умозрительную модель земного пространства и подверг её экспериментальной проверке. Он ошибся почти на 10 тысяч километров, но «случай» спас ему жизнь – на пути в Индию оказалась Америка. Главное было доказано – Земля имеет форму шара, представления древних о сотворённом Богом пространстве ошибочны. Потом Коперник, Галилей, Кеплер строят модели вселенной, которые мы проверяем до сих пор, осваивая околоземное пространство, мечтая о моделях, которые позволят передвигаться с невероятной скоростью, через «отверстия» из одной вселенной в другую.
Время тоже стали разделять на сотворённое и несотворённое. Вечность (несотворённое время) перестала быть объектом размышления всех тех, кто называл себя учёными. «Мера пребывания» [45] осталась за скобками просвещённых интересов. «Меру движения» начали измерять и моделировать. Правда, принципиально новые модели не получались до начала XX века, но время стало входить в формулы движения в виде скорости, обусловив возможность для моделирования [46].
Открывался путь осмысления сотворённой природы как рукотворного объекта, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Важно то, что новое мировоззрение перевернуло не только науку, но и искусство. Изображение превратилось в один из способов моделирования природы, а, следовательно, в способ познания.
Методику изобразительного моделирования природы стали называть специально найденным для этого термином – «композиция»[47].
Разумеется, композиционная форма была и до введения термина, но формальный анализ художественной структуры, который существует ныне, появился только во времена Возрождения. Изобразительную деятельность стали целенаправленно изучать, моделируя сам процесс создания живописного изображения. Первым известным исследованием этого вопроса признана работа Альберти, написанная в 30-е годы XV века, «Три книги о живописи» [48].
Это был не только теоретический труд по композиционной структуре, но и исследование композиционного мышления [49]. Если Ченнино Ченнини в своём трактате о живописи, законченном где-то на грани XIV–XV веков, пишет, что должно следовать образцам, чтобы дальше идти по пути познания [50], то Альберти разрабатывает композицию как метод художественного исследования, моделирования природных процессов. Он не отрицает заимствование, не считает его позорным, но и не относит следование образцам к творческому процессу. Это всего лишь необходимая, но недостаточная для живописца школа. «<…> Нам здесь отнюдь не требуется знать, кто были первыми изобретателями искусства или первыми живописцами, ибо мы не занимаемся пересказом всяких историй, как это делал Плиний, но заново строим искусство живописи, о котором в наш век, насколько я знаю, ничего не найдешь написанного» [51]. Для того чтобы «строить искусство», необходимо мыслить особым образом, отличным от мышления живописцев средневековья, работавших по образцам, – здесь нужно конструктивное мышление. Именно это пытался подчеркнуть Альберти.
Термин «композиция» чаще применяется Альберти для определения творческого процесса, а не результата. Для него это действие, «…составление, сочинение картины из отдельных элементов, – пишет И. Данилова. – И именно в этом смысле можно говорить о единых правилах, действующих на всех трёх этапах этого процесса, вернее, о едином принципе последовательного собирания целого из частей» [52].
Фактически Альберти предлагает собирать иллюзорную пространственную конструкцию для решения трёх, с его точки зрения, основных живописных задач:
1. «композиция поверхностей тел» (этим термином он называет построение живописных объёмов и размещение их в иллюзорном трёхмерном пространстве);
2. «композиции членов тел» (правила изображения человеческих фигур);
3. «композиция тел» (составление мизансцен, сочинение сюжетной ситуации).
Альберти разрабатывает последовательность такой «сборки». Сначала организуется пространство, ограниченное основными плоскостями – трёхмерная коробка картины. Затем следует светотональная моделировка формы и «композиция планов». Наконец, составление из фигур сюжетных сцен.
Последовательность работы явно надуманная. Кроме того Альберти противоречит сам себе: на последних страницах он предлагает идти другим, реальным путем – от эскиза, в котором продумывается общее решение, к разработке деталей.
Остаётся только гадать, почему потребовалось описание неприменимого метода работы. Можно, конечно, вслед за Даниловой предположить, что Альберти стремился теоретически воспроизвести последовательность, характерную для библейского акта сотворения мира, но возможно и другое: Альберти пытался показать процесс сугубо рационального зарождения художественного образа, возникновение целостного внутреннего представления, в котором отдельные фигуры и сам сюжет должны быть заранее объединены общим пространством, живописной средой, в которой им предстоит пребывать. В этом случае для него главным оказывался не сюжет, а модель мира, где может разворачиваться любая мизансцена. Психологические характеристики отдельных персонажей, взаимоотношения между ними, рассказ о конкретном событии – всё это второстепенно по отношению к главному – к художественно-познаваемому образу тварной природы, осознанию её единства и подчинения себе всего частного, единовременного. За изображением сюжета у художников Возрождения чувствуется бытие вечности [53].
Хотя в трактате Альберти мы не найдем формального анализа композиционных структур и там ни слова не сказано о проблеме целостности, тем не менее общее содержание его работы свидетельствует о ясном представлении человека эпохи Возрождения, что художественная целостность немыслима без изобразительного решения проблемы Вечности. Возможно поэтому, Альберти предлагал, создавая картину, начинать с организации общего, а не частного. Ведь от живописца никогда не должна была ускользать главная задача: показ Вечности как формы бытия.
Вечность, вынесенная «за скобки» научного познания, вполне зримо оставалась в образах художественных произведений мастеров кватроченто.
Наиболее распространено мнение, что Возрождение продолжает идеи античности. Конечно, для этого есть очень много оснований, однако, следует сказать, что Возрождение по своему существу отстоит от античности значительно дальше, чем средневековье [54]. Богословам и учёным средневековья удалось на протяжении тысячелетия сохранить идеи античности и, прежде всего, главную из них – естественную гармонию человека и природы. Для античности, также как и для средневековья, характерна основная общая тенденция поиска изначально данной, но некогда утерянной гармонии Золотого века. Мышление людей античности и средневековья было направлено на обоснование самой возможности такой гармонии. Наука и искусство, философия и поэзия обеих эпох – это культура поиска гармонии, жизни человека в согласии с природой.[1]
Идеи средневековья развили античную посылку углубили, трансформировали ее, переложили на новую религиозную основу и, в конце концов, выхолостили до такой степени, что полностью перенесли возможность гармонии человека и среды на нетварную природу Такое миропонимание уже не было характерно ни для Греции, ни для Рима. Лишь после смерти, в потустороннем мире, в вечности, душе обещалось желанное успокоение в нетварном мире; в земной природе гармонии нет, – к такому финалу пришла богословская мысль к периоду высокой готики. Неудивительно, что смирение так и не наступило. Человеческий интеллект восстал против отрицания счастья на Земле. Оптимизм древних требовал своего возрождения.
Вообще говоря, само деление на тварную и нетварную природу для античности не было характерно или, вернее, не имело такого определяющего, жёсткого значения. Боги постоянно пребывали среди людей и поэтому, живя в гармонии с окружающей природой, человек должен был жить в гармонии и с богами. При этом, ни о каком преобразовании, моделировании природы и космоса речи не было. К примеру, для философов афинской школы их учения были не способом конструирования мира для дальнейшего его изменения, а способом достижения, прежде всего собственной гармонии с окружением и обучения других достижению того же самого [55]. Эта же тенденция была продолжена в Средние века.
Таким образом, люди средневековья стали непосредственными преемниками миропонимания античности, которое в трансформированном, почти до неузнаваемости преображённом виде они донесли до времён Возрождения.
Начиная с поздней готики и кватроченто, происходит коренной перелом именно в представлениях об отношении человека и природы. Стремление к достижению «пассивной» гармонии, которую нужно заслужить праведным образом жизни, приводящим к просветлению, сменилось «ориентацией вовне». Личностная интравертированность, по терминологии К. Юнга, как философская позиция меняется на экстраверсию. Происходит жёсткое разделение тварного и нетварного миров. Образно говоря, линия горизонта, появившаяся в картинах художников кватроченто, как бы символизировала собой новое миропредставление. В окружающем тварном мире нужно было не столько приспосабливаться, сколько приспосабливать его для себя.