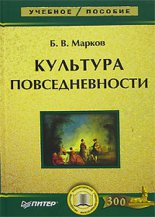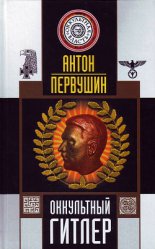Китай управляемый: старый добрый менеджмент Малявин Владимир
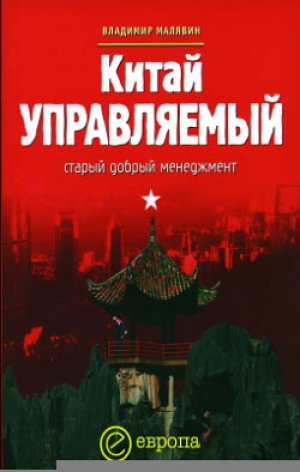
Надо признать, что страны Восточной Азии сумели создать свой особый тип капиталистического уклада, в котором экономическая эффективность хозяйственного либерализма отлично уживается с государственным патронажем и авторитарными тенденциями в политике. Секрет этой эффективности заключается в факте иерархической природы человеческих общностей и самой природы человеческого общения. Такого рода иерархическая связь служит в Азии основой общественного консенсуса, который санкционируется культурной традицией и государством. Современный наблюдатель описывает своеобразие азиатского капитализма в следующих словах:
«В западных либеральных демократиях социальное регулирование осуществляется опосредованно, через набор стратегий, программ и техник, которые формируют экономические, семейные и общественные институты. В либеральных экономиках Азии социальное регулирование не столько рассеяно в различных инстанциях, сколько сосредоточено в государственном аппарате, и проблемы управления представлены как проблемы религиозного и культурного отличия от Запада...
В противоположность рациональному, расчетливому субъекту неолиберального Запада, который идет по пути индивидуализма, стараясь быть хозяином себя, экономики азиатских тигров создают рациональный субъект, который оформляется властью государства...»[30].
Важный урок, который преподают страны Восточной Азии, состоит в том, что капитал привлекает не только и не столько дешевая и дисциплинированная рабочая сила, сколько общая стабильность в государстве и наличие консенсуса в обществе. В последние же десятилетия инфраструктура китайского бизнеса имела особенное значение для роста иностранных инвестиций в странах этого региона, а также развернувшейся с 80-х годов ХХ века приватизации государственной собственности. Именно китайская бизнес-паутина давала в рамках целого региона наибольшие преимущества, когда требовалось определить наиболее выгодные точки и формы инвестирования капитала. Тем самым она стала одним из главных факторов экономического бума в ЮВА и роста экономического сотрудничества региона с Южным Китаем: именно китайские эмигранты сыграли решающую роль в соединении дешевой рабочей силы на южнокитайском побережье с технологиями и финансами Японии и Запада. Одновременно Сингапур, Гонконг и в меньшей степени Бангкок стали главными региональными форпостами свободного рынка и глобальной экономики. То, что в последнюю четверть ХХ века ЮВА наряду с Дальним Востоком оказалась наиболее динамично развивающимся регионом, является заслугой, во-первых, японских инвесторов и, во-вторых, китайского делового сообщества. Те же китайские мигранты сделали возможным инвестиционный бум в Китае, первыми начав делать крупные вложения в китайскую экономику. Еще в начале 1990-х на Гонконг приходилось до трех четвертей всех иностранных инвестиций в Китай.
Наконец, китайцы успешно проникают на рынки других регионов мира. Достаточно сказать, что с 1982 по 1987 год число зарегистрированных китайцами предприятий в США выросло с примерно 49 тысяч до 90 тысяч, а их совокупный капитал увеличился с 4,3 до 9,6 млрд. долларов США[31]. В числе наиболее динамично развивающихся американских компаний немало тех, которые были созданы обучавшимися в США китайскими студентами.
Быстрый рост региональной экономической интеграции в ЮВА на основе инфраструктуры китайского предпринимательства, экономические успехи Китая и, наконец, огромный объем китайских инвестиций в Северной Америке и Западной Европе привели к непредвиденному результату: этнические китайцы увидели в деловой деятельности вдохновляющую основу для своего сплочения не только на региональном, но даже и глобальном уровне. Забрезжила милая сердцу каждого китайца перспектива возникновения всемирного Китая – одного из лидеров глобальной экономики и мировой державы. Вот что говорит по этому поводу президент гонконгского Восточноазиатского банка Дэвид Ли:
«По мере того, как Китай будет идти вперед, развивая все от ракет до биотехнологий, лазеров и оптики, он станет научной сверхдержавой XXI века. Поистине, Китай – это единственная страна, которая способна бросить вызов США, Японии или Европе в области технологии. Соединение китайского научного потенциала, тайваньского опыта в промышленной инженерии и гонконгской компетентности в финансах и продажах откроет путь для динамического развития Большого Китая. Китайские бренды распространятся по всему миру, и китайская культура, подобно культуре США, станет важной экспортной и глобальной силой»[32].
Гонконгский банкир, быть может, слишком оптимистичен. Существуют серьезные политические и культурные факторы, препятствующие глобализации Китая. До мировых китайских брендов даже в сфере производства товаров широкого потребления, машиностроении и других отраслях (за исключением электроники, где Тайвань занимает одну из передовых позиций в мире) еще так далеко, что даже не видно, откуда они появятся. Однако пафос Дэвида Ли очень характерен для нового поколения «глобализированных» или, по крайней мере, глобализующихся китайцев. Окрыленные достижениями последних лет, китайские предприниматели с оптимизмом смотрят в будущее.
Рост экономической мощи китайского бизнеса и перемены в его положении на международной арене подготавливают и качественные сдвиги в организации китайских предприятий. Многие признаки указывают на то, что традиционная семейная форма делового уклада в китайском обществе уже не вполне соответствует вызовам современной глобальной экономики и постепенно замещается или, скорее, сращивается с элементами западного менеджмента. Наступает «момент истины» и для такого испытанного фактора деловой активности китайцев, как личные «связи». Ф.-Й. Рихтер заключает по этому поводу:
«Использование связей подошло близко к черте, отделяющей высокоэффективную практику бизнеса от тенденции к непотизму. Подобные формы более не оправдывают себя вследствие изменения взглядов на деловую этику. Однако это не означает, что связи вот-вот исчезнут. Удачливые бизнес-группы в среде китайских эмигрантов по-прежнему будут использовать и пестовать связи. Но последние станут более ориентированы на собственно деловую деятельность и будут четко отделяться от коррупции и непотизма»[33].
В добавление к этим взвешенным словам замечу, что мои тайваньские студенты на семинарах по деловой этике проявляют неоднозначное отношение к традиционной опоре на «связи» в деловой деятельности: большинство считают их важными и даже необходимыми для успеха, но почти все отдают себе отчет в возможных негативных последствиях связей для бизнеса.
Нельзя не замечать стремительных перемен лица китайского бизнеса в последние годы (при всем разнообразии его региональных форм). В странах ЮВА, на Тайване и в Гонконге традиционные формы «связей» все больше уступают место общению в рамках благотворительных ассоциаций или спортивных клубов. Критерий экономической эффективности одерживает решительную победу над личными идиосинкразиями, внушаемыми культурной традицией. В самом Китае уже появился целый класс управляющих, получивших западное образование и впитавших западные ценности. Особенно впечатляющих успехов в этой области добился Тайвань, чьи менеджеры, по оценкам американских экспертов, могут претендовать на звание лучших в мире. Пример Тайваня особенно интересен тем, что здесь, пожалуй, наиболее очевидны успехи китайского бизнеса в освоении новых для него передовых технологий и форм менеджмента. Действенная поддержка государством малого и среднего бизнеса в сочетании с жаждой к знаниям и вкусом к предпринимательству создали очень благоприятные условия для развития электроники и смежных с ней наукоемких отраслей.
На острове сложилась целая культура предпринимательства, напоминающая бизнес-структуру Силиконовой Долины. Теперь тон здесь задают молодые, энергичные, приверженные инновациям специалисты, стремящиеся иметь собственное дело. Кстати сказать, китайцы составляют значительную часть исследователей и менеджеров в той же Силиконовой Долине. Появляются и новые, глобальные по масштабам ассоциации китайских предпринимателей. Так, в Силиконовой Долине действует ассоциация Яшмовая гора (Яшмовая гора – самый высокий пик на Тайване), которая призвана способствовать обмену информацией между предпринимателями на Тайване и китайцами, живущими в США. Еще одна форма глобального объединения китайских бизнесменов представлена всемирными объединениями китайцев, носящих общую фамилию.
Тем не менее пока еще трудно решить, представляет ли даже на Тайване новое поколение менеджеров смертельную угрозу традиционному порядку. Хотя наиболее крупные транснациональные корпорации на Тайване и в Гонконге постепенно выходят из-под контроля семьи основателя и утрачивают свою традиционную замкнутость, пока нет серьезных оснований полагать, что китайский корпоративный уклад и тем более китайские традиционные ценности быстро отомрут. Скорее всего, в ближайшие десятилетия мы станем свидетелями складывания в китайском деловом сообществе гибридных, китайско-западных форм организации и управления. И наоборот: китайские принципы ведения бизнеса в последнее время стали предметом пристального изучения на Западе и берутся на вооружение многими западными компаниями. Но едва ли традиционные китайские формы организации предпринимательства смогут прижиться за пределами китайских общин, пусть даже действующих в ограниченном пространстве чайнатауна. Ведь секрет эффективности китайских компаний традиционного типа кроется прежде всего в наличии совершенно определенной социальной среды или даже, точнее, определенного этоса и типа социальности, развлетвленной сети доверительных связей, которые существуют только в китайском обществе и для «своих людей». Благодаря этой среде китайские предприниматели имеют возможность быстро получить неформальные, но надежные сведения по тому или иному вопросу ведения бизнеса и быстро принять правильное решение. Это преимущество китайского бизнеса, помимо прочего, позволяет китайским менеджерам экономить на транзакционных издержках и ограничиваться минимальной численностью работников. К примеру, средний размер гонконгских фирм с 1954 по 1984 год уменьшился на 59%[34].
Как бы там ни было, впечатляющие достижения китайского делового сообщества породили множество разговоров о существовании особого китайского, или конфуцианского, капитализма и о его преимуществах перед капитализмом западного типа, который после появления классического труда М. Вебера принято связывать с «протестантской этикой». Поговорите с любым китайским торговцем, приехавшим в Россию, и вы быстро убедитесь, что для него конфуцианская мораль и традиционная практика духовного совершенствования – вещи нераздельные и, более того, являющиеся чуть ли не обязательным условием успеха в бизнесе. А каждый второй или третий из них лично практикует ту или иную форму медитации. Мне известны случаи, когда китайские торговцы в России буквально живут по такому распорядку: три часа медитации, пять часов занятия бизнесом.
На Западе, насколько мне известно, первым о достоинствах «капитализма по Конфуцию» заговорил в 1979 году американский футуролог Г. Кан. В своей последней книге он подробно обосновал мысль о том, что главной причиной стремительного экономического взлета стран Дальнего Востока (тогда еще за пределами континентального Китая) была именно конфуцианская традиция. Преимущество последней, по мнению Г. Кана, заключалось в «воспитании преданных, целеустремленных, ответственных и образованных индивидов и обостренном чувстве организационной идентичности и лояльности к различным институтам»[35].
Оценка Г. Кана навеяна в большей степени японской культурой, но это в данном случае не столь важно. Интереснее сам факт настоящего переворота в умонастроениях как в Китае, так и на Западе. Еще за полвека до Г. Кана китайские революционеры называли конфуцианство «моралью людоедов» и всячески издевались – не совсем безосновательно – над банальностью и непрактичностью конфуцианских наставлений. Чуть раньше М. Вебер в своей книге «Китайская религия» авторитетно заявил, что конфуцианство было главным препятствием для развития капитализма в Китае, поскольку оно не допускало разрыва между желаемым и действительным и воспитывало самый беззубый и плоский конформизм. А в не столь уже далекие времена «культурной революции» Конфуций был главной мишенью совершенно безжалостной, доходящей до хулиганства критики маоистов. Еще в 1989 году, когда я посетил в больнице незадолго до его смерти ректора Нанкинского университета, известного специалиста по Конфуцию Кун Ямина, он сказал мне: «Я много думал и пришел вот к какому выводу: Конфуций – это Маркс древности, а Маркс – это Конфуций современности. Но об этом еще рано говорить открыто».
Мог ли почтенный ученый предположить, что уже через несколько лет Конфуций станет главным героем официальной пропаганды, а о Марксе будут вспоминать в лучшем случае на торжественных партийных заседаниях? В последующие годы, когда пришло время изумляться экономическим достижениям собственно китайской периферии, а потом и континентального Китая, многие западные наблюдатели тоже стали подчеркивать роль конфуцианства как необходимого условия экономического бума в Восточной Азии. Появился даже термин «конфуцианский динамизм». Речь идет о типе поведения, который характеризуется личным усердием, упорством в достижении поставленной цели, уважением к статусу лица, бережливостью и скромностью.
С рубежа 90-х годов ХХ века входит в употребление понятие «конфуцианский капитализм». Оно означает, по мнению тайваньского ученого Вэй У, взгляд на семью как «базовую экономическую единицу» и ориентацию на достижение «консенсуса в рамках всей семьи», а также принятие государством на себя заботы о благополучии среднего класса или, другими словами, создание государства «всеобщего благоденствия»[36]. Одновременно приобрело популярность выражение «конфуцианский купец» (жу шан). Оно может показаться странным и даже нелепым, принимая во внимание крайне негативное отношение столпов конфуцианской мудрости к торгашескому духу. Но что есть, то есть. Как всякое модное понятие, оно не имеет точного смысла и обозначает довольно расплывчатый набор традиционных китайских добродетелей, среди которых на первом месте стоит обходительность, радушие, благочестие, бережливость при отсутствии жадности. Современный китайский наблюдатель полагает, что речь идет просто о «деловом человеке, обладающем культурой предпринимательства», и что так «можно назвать всех хороших предпринимателей в мире»[37]. На Тайване, по моим наблюдениям, упоминание о «конфуцианских купцах» уже чаще вызывает, скорее, снисходительную улыбку.
Как бы там ни было, нынешние китайские бизнесмены как в Китае, так и особенно за его пределами, любят украшать себя конфуцианскими добродетелями. Вот один пример: уже упоминавшийся выше малайский китаец Роберт Куок. Авторитетный на Дальнем Востоке экономический журнал назвал его «образцом конфуцианского благородного мужа». Он безупречно честен, скромен, предан друзьям, радушен и, главное, не жаден. В его воспитании большую роль сыграла мать (чисто китайский момент) – женщина строгих нравов и преданная традиционному благочестию[38]. Заметим в скобках, что влияние матери не помешало младшему брату Роберта Вилли стать одним из вождей коммунистических повстанцев в Малайе.
Еще один пример того же рода: в Сингапуре огромный успех имел изданный в 1994 году сборник биографий наиболее удачливых предпринимателей этого города-государства. Почти все они вышли из бедных семей и изображались их биографами олицетворением самопожертвования, верности и доброты. Эти люди, как писал один критик, «делают жизнь с другими, для других и благодаря другим». Власти Сингапура не устают повторять, что своим процветанием их маленький остров обязан «конфуцианской этике первых переселенцев», а сингапурское правительство осуществляет активную политику поддержки и укрепления семьи, начиная с введения уголовного наказания для детей, проявляющих непочтительность к родителям, и кончая программой массового строительства муниципального жилья для молодых семей.
Впрочем, немало авторов отнеслись к гипотезе о конфуцианском происхождении китайского бизнеса гораздо сдержаннее – может быть потому, что самое отношение нового Китая к наследию Конфуция было в прошлом очень даже неоднозначным. Их скепсис в этом вопросе не лишен оснований. Хотя Конфуций считал целью человеческой жизни реализацию своих способностей и не возражал против обогащения, коль скоро человек таким образом находит применение своим талантам, но сколько-нибудь последовательное оправдание капитализма в его учении отыскать едва ли возможно. Западные исследователи скорее склонны подчеркивать, что китайское купечество обращалось к конфуцианским ценностям как к средству задним числом оправдать свое возвышение в обществе, да и само конфуцианство было во многом ответом общества на деспотический характер традиционного государства[39]. Что же касается тенденций последних нескольких десятилетий, то не здравомысленнее ли было бы объяснить успехи китайского предпринимательства благоприятными историческими обстоятельствами, связанными с появлением глобальных форм капиталистического хозяйства? «Успех дальневосточной экономики создал конфуцианству хорошую репутацию», – отмечает американский экономист Джон Нэйсбитт. Американский синолог М. Леви высказывается еще определеннее: «Я думаю, конфуцианство никогда не могло бы самостоятельно привести к раннему появлению модернизации. Я думаю, оно не могло бы стать религиозно-этическим стимулом модернизации, если бы не возникновение сильного национального корпоративного государства»[40].
Некоторые авторы пытаются разрешить затруднения, связанные с оценкой социальной природы конфуцианства, противопоставляя – надо сказать, весьма произвольно – «истинное конфуцианство», которое, как они считают, благоприятствует развитию капитализма, «конфуцианству книжному» – враждебному духу капитализма[41]. Но, пожалуй, еще интереснее то, что западные партнеры китайских бизнесменов почти не ощущают на себе благотворного воздействия их добродетелей, так широко рекламируемых в печати. Один мой знакомый французский бизнесмен, сам наполовину китаец, недавно прекратил свой бизнес в Гонконге. На вопрос, что послужило тому причиной, он ответил кратко: «Китайцы не хотят делиться».
Проводимая в Китае с начала 1990-х годов политика «открытых дверей» дала могучий импульс врастанию страны в мировую экономическую систему: в Китай широким потоком полились иностранные инвестиции, быстро укрепляются связи между китайцами на континенте и китайскими эмигрантами, на базе региональных инфраструктур быстрыми темпами складывается глобальная паутина китайских корпораций. Традиционная приверженность китайцев к «сетевой социальности», основанной на личных связях, удачно накладывается на складывающуюся сетевую структуру институтов глобального капитализма. На таком фоне происходит глубокая переоценка ценностей внутри самих китайских сообществ: уходят в прошлое политические разногласия времен Гражданской войны, отмирают великие идеологии раннего этапа модернизации – национализм и коммунизм, – и китайцы разных стран, неожиданно обнаружившие себя партнерами в бизнесе, заново открывают для себя «непреходящие» идеалы и ценности своей цивилизации. С начала 1990-х и в Азии, и в Америке, но в последнее время все чаще в самом Китае, одна за другой проводятся международные конференции для китайцев и китайских эмигрантов, на которых обсуждается тема общекитайских «корней» и муссируется мысль о том, что именно наследие Конфуция служит залогом величия и мощи Срединного государства. Мы имеем дело, очевидно, с конструированием нового китайского «мифа» как средства этнокультурной самоидентификации, на сей раз глобальной. Такого рода постреволюционный миф соответствует эпохе Постмодерна, когда материей политики становится сама культура. Этому политико-культурному мифу и суждено стать средой и средством объединения нового поколения «глобализованных» китайцев. Хотя ему свойственны универсалистские претензии, он рассчитан, повторю еще раз, на сугубо внутрикитайское употребление. Неслучайно на конференции, посвященные «конфуцианскому капитализму», иностранных ученых почти не приглашают.
Приведу несколько типичных в своем роде высказываний участников одной из таких конференций, проведенной в 1997 году университетом провинции Чжэцзян в Ханчжоу.
Бизнесмен из Гонконга Лю Хуанфа провозглашает вечный и всеобщий характер китайского уклада жизни:
«Общество строится на универсальном порядке, воплощенном в правилах “этикета”. Если система закончена и методически осуществляется, персонал будет действовать в соответствии с предписанным порядком, управление им будет строгим и беспристрастным, начальники и подчиненные будут иметь гармонические отношения, и каждый будет поступать в соответствии с принципом “человечности”. В доме тоже будет гармоничная жизнь»[42].
Тайваньский бизнесмен Чэн Тинвон:
«Конфуцианская идеология рассматривает совершенствование характера как основу в служении государству и народу. Она ставит акцент на сдержанности и терпимости к другим. Она также придает большое значение иерархическому порядку в обществе и утверждает ценность человечности и ритуалов»[43].
А вот столь же типичная критика в адрес западной цивилизации, звучащая из уст гонконгского предпринимателя Чжа Цзимина:
«Усердие и упорство – это главные ценности китайцев. К сожалению, некоторые представители молодого поколения забыли их. Возможно, они подверглись влиянию западной культуры с ее идеалом мгновенного удовлетворения и ее безудержным, даже упадническим материализмом, который приводит к бесполезной трате человеческих сил и ценных ресурсов»[44].
Надо сказать, что сама по себе идея врожденного преимущества китайских ценностей возникла сначала в среде китайских эмигрантов. К числу ее самых ранних и активных проповедников относится премьер-министр Сингапура Ли Гуан-ю, который еще с конца 60-х годов ХХ века любил противопоставлять здоровые идеалы китайцев «упаднической» цивилизации Запада. В последние двадцать лет идея превосходства «азиатских ценностей» попала на чрезвычайно благодатную почву. Это дает возможность китайцам всех положений и убеждений отыграться за долгие десятилетия униженного положения их страны или исторической родины. Наиболее рьяные ее поклонники доходят до того, что фактически ставят знак равенства между обогащением и вообще жизненным успехом и китайской «мудростью». Исподволь складывается мнение, что того, кто ничего не добился в жизни, вроде бы и нельзя считать настоящим китайцем.
Китайское общество переходного времени с его медленной, но верной порчей общественных нравов и соблазном «легких денег» действительно нуждается в простых и понятных всем нравственных понятиях, в культе доверия и ответственности, без которых не может быть эффективной экономики. И что бы ни говорили о значении конфуцианской традиции для предпринимательства китайские ученые, политики и бизнесмены, выработанные китайской традицией принципы и методы управления объективно будут представлять большой интерес для теории и практики менеджмента. Но раскрываются они не как набор однозначных и застывших понятий, а как противоречивое, сотканное из творческих конфликтов единство.
Экскурс. Японский и корейский стили менеджмента
Прежде чем перейти к рассмотрению китайских принципов и форм управления в деловой среде, полезно вкратце ознакомиться с японскими и корейскими моделями менеджмента. Дело в том, что эти модели представляют собой продукты объективизации и рационального применения ряда важнейших постулатов китайской традиции, в самом Китае представлявших реальность в большей степени внутреннюю, символическую. Иными словами, изучение японской и корейской моделей способно облегчить понимание исходных интуиций, лежащих в основе Дальневосточной цивилизации.
Начнем с Японии. История японского «экономического чуда» и эволюции японского менеджмента во второй половине ХХ века обозначила, помимо прочего, и процесс последовательного раскрытия все более глубоких слоев японского менталитета или, как говорят в Японии, «японского сердца». В истории японского бизнеса за этот период принято выделять три этапа.
До конца 1960-х годов Япония оставалась страной, в основном производившей товары низкого качества и притом копировавшие продукцию западных стран. Японцы в этот период выглядели, главным образом, имитаторами, неспособными выработать свою эффективную культуру бизнеса. Японские предприниматели сосредотачивались на региональной торговле и продукции традиционных отраслей: текстильной, электротехнической, машиностроительной и др. Нельзя, однако, сказать, что это было чистое подражательство. Японская промышленность возродилась после войны фактически в новом виде и качестве. Более того, японским мастерам издавна была присуща способность к созданию оригинальных и высококачественных товаров. Еще в Средние века на всем Дальнем Востоке славились многие изделия японских ремесленников: мечи, веера, фарфор, лаковая посуда и проч.
Где-то с начала 1970-х годов начинается новый этап: японские производители переходят к созданию собственных брендов, которые успешно теснят на мировом рынке продукцию западных производителей. Среди этих товаров все еще преобладают усовершенствованные модели традиционной продукции, от грузовиков и экскаваторов до автомобилей, мотоциклов, магнитофонов, фотокамер, телевизоров, часов, даже пианино, предметов домашнего обихода и т.д. Вместе с тем появляются и оригинальные товары, созданные на основе новаторской технологии, – в основном в области электронной промышленности. Японские производители задают очень высокие стандарты качества и ведут агрессивную ценовую политику, добиваясь лидирующих позиций на мировом рынке. Одновременно в Японии складывается мощная финансовая система, тоже действующая во всемирном масштабе.
Наконец, в последние полтора-два десятилетия крупные японские корпорации, не отказавшись от достижений предыдущего этапа, сделали ставку на технические инновации в области электроники, телекоммуникаций, биотехнологий и др. Их деятельность приобретает полностью глобальный характер, а их необыкновенная конкурентоспособность нередко приводит к поглощению ими западных конкурентов.[45]
На разных этапах этого беспрецедентно динамического роста на передний план выходили разные стороны японского жизненного уклада и культуры. Так, на первых порах огромную роль в повышении эффективности японской экономики сыграл традиционный идеал семейной общности или, можно сказать, семейственности (иэ). В отличие от Китая, где даже внутри семьи доминируют личностные отношения между отдельными ее членами, в Японии семья воспринималась как единый коллектив, где все имеют равные права и обязанности. Отдельный японец предстает не как отец, сын, брат и т.д., но как член коллектива, которому он обязан хранить безусловную преданность. Его эго до такой степени предстает растворенным в коллективной идентичности, что сами грамматические формы речи от первого лица определяются статусом индивида в обществе. Широкое распространение имел институт приемных детей. Разумеется, ничто не мешало японцам очень расширительно толковать понятие семьи, распространяя его и на деревенскую общину, и на домен феодального властителя, а в наши дни – на современную капиталистическую корпорацию.
Современные руководители японских компаний старательно культивируют среди своих подчиненных чувство принадлежности к одной дружной семье, где все преследуют общие цели и всегда готовы помочь друг другу. Отсюда и такие церемониальные «изыски» японского менеджмента, как общие собрания работников перед началом рабочего дня с поднятием флага компании и пением ее гимна или частые вечеринки после окончания рабочего дня и совместные пикники, призванные укреплять дружеские отношения между коллегами. Социологические опросы показывают, что личная и корпоративная гордость в японском обществе почти нераздельны. Японцы отдают решительное предпочтение службе в крупной компании, что, как правило, доступно лишь выпускникам особо престижных вузов.
Образование в Японии – истинный ключ к хорошей карьере. Нередко считают, что на японских предприятиях повсеместно существует пожизненный найм. Это не совсем верно: для большинства служащих контракт подлежит продлению через определенный срок, но все дело в том, что причин для увольнения работника обычно не возникает. Каждый из них просто обязан – по крайней мере для того, чтобы сохранить чувство собственного достоинства, – выказывать максимальное усердие и делать даже больше, чем оговорено в контракте – например, добровольно продлевать свой рабочий день. Кроме того, с выходом на пенсию (что делается в обязательном порядке по достижении установленного возраста) компания выдает своему ветерану крупную премию, для многих заменяющую пенсию. Даже если дела у «своей» компании идут неважно и доходы служащих сокращаются, японцы готовы терпеть трудности и не ищут нового места работы. Разумеется, начальство всеми способами проявляет заботу и внимание к подчиненным: помимо выплаты солидных премий (составляющих до трети и более общего дохода служащих) и разных символических знаков внимания, оно поощряет регулярную подачу докладов с предложениями о том, как улучшить работу.
Принятие решений, как правило, предваряется разного рода неформальными совещаниями, которые по-японски именуются «уходом за корнями». В крупных компаниях на это занятие уходит до 40% всего рабочего времени руководителей[46]. Поскольку ответственность в японской фирме коллективная, даже руководство не акцентирует свое право принять решение и заставить подчиненных его выполнять. Решение должно проистекать из всеобщего консенсуса и выражаться в самой атмосфере, царящей в компании, в ее коллективном «духе». Как правило, его принятие откладывается до последнего момента, а его смысл выражен в туманно-уклончивых формулировках, благо японский язык предоставляет для этого необычайно богатые возможности.
Повышение по службе, впрочем, происходит почти автоматически в соответствии со стажем работы: в обществе, где все трудятся на пределе сил и возможностей, стаж как таковой вполне может служить объективным критерием заслуг работника. Ответственность на японских предприятиях всегда лежит на всем подразделении, отвечающем за данный участок работы. Личными интересами и тем более амбициями можно и нужно жертвовать ради общего согласия.
Трудовая этика японцев не только поощряет, но и требует от работника безусловного усердия, твердости воли и упорства в достижении поставленной цели, которая должна быть непременно «великой» и поэтому на практике долгосрочной. Самый известный японский предприниматель ХХ века К. Мацусита составил для себя жизненный план на 250 лет вперед. Большинство японских бизнесменов в своих планах ограничиваются сроком своей жизни, что, согласимся, весьма дальновидно по западным меркам. Личное упорство японцев оказывает заметное влияние и на действия японских корпораций, которые тоже ставят перед собой долгосрочные цели и стремятся к их достижению, не считаясь ни с какими трудностями. Исторически эти черты японского менталитета восходят к преклонению перед мужественным «самурайским» духом. Социологические обследования показывают, что в Японии выше всех других стран ценят мужские качества духа, в том числе преданность карьере и профессиональному успеху, стремление к доминированию. Женщины до сих пор обязаны демонстрировать свое приниженное положение и преданность семейному очагу, отчего их почти нет в публичной политике и в элите японского бизнеса. Если, как нередко утверждают, единственным природным богатством Японии являются «трудолюбивые люди», то нужно признать, что здесь имеются в виду почти исключительно мужчины.
Количественно в японской экономике, как и в традиционном китайском бизнесе, преобладают мелкие предприятия семейного типа. Однако подлинным двигателем японского «чуда» стало небольшое число крупных промышленно-финансовых групп, именуемых по-японски кэйрэцу. Подобный экономический ландшафт до некоторой степени воспроизводится в современной панораме крупных японских городов: над морем маленьких семейных домиков там и сям возвышаются кучки небоскребов. Сеть проложенных над городом эстакад служит для перемещения из одного района мегаполиса в другой, повседневная же жизнь горожан протекает на узких, заполненных толпой и загроможденных вывесками и рекламой улочках.
Что же представляют собой кэйрэцу – эти небоскребы японской экономики? Это крупные конгломераты предприятий, традиционно сложившихся вокруг большой торговой компании (обычно именуемой сого сёся) или крупного банка. В Японии зарегистрировано около 4 тысяч торговых фирм, но таких гигантов торговли в ней насчитывается не более девяти, среди них Мицубиси, Мицуи, Сумитомо, Фуё, Санва и др. В начале 1970-х годов на долю кэйрэцу приходилось 60% импорта и 40% экспорта Японии, четверть столетия спустя – соответственно 70% и 25%[47]. Базовые компании кэйрэцу не могут диктовать свою волю аффилированным компаниям. Они исполняют роль координаторов и посредников, намечающих общую стратегию группы, но их неформальные указания, в соответствии с законами японского почитания иерархии, почти всегда принимаются с благодарностью.
Кэйрэцу ведут ожесточенную конкуренцию между собой и уж тем более не проявляют никакого снисхождения к иностранным конкурентам. При всей формальной открытости японской экономики зарубежным корпорациям почти невозможно закрепиться на японском рынке. Аналогичным образом, и все японское общество остается практически закрытым для иностранцев. Зато в рамках такой группы отдельные компании получают возможность иметь долгосрочные контракты, не зависящие от рыночной конъюнктуры. Соответственно, они могут выстраивать долгосрочную стратегию и уделять большое внимание улучшению качества и номенклатуры своей продукции, внедрению новых технологий. В этом смысле кэйрэйцу вполне соответствуют японскому менталитету с его склонностью к размеренной, чуждой торопливости, упорной, рассчитанной на длительной срок работе и сотрудничеству, предполагающему в высшей степени доверительные отношения, пусть даже это доверие обозначается только символически. Устойчивость системы кэйрэцу – одна из главных предпосылок высокого качества товаров с этикеткой «сделано в Японии». К этому следует добавить, что в Японии держатели акций компании получают не дивиденды от прибыли, а фиксированные выплаты, что позволяет руководству компаний осуществлять ее планомерное развитие. Сами японцы считают независимость менеджеров одним из главных достоинств японского стиля управления предприятием.
Успехи японских производителей на мировом рынке во многом объяснялись переходом от традиционной производственной цепочки к изготовлению продукции в рамках непосредственных контактов поставщиков и изготовителей, что позволило ввести контроль за отдельными операциями уже на стадии производства и добиться значительной экономии времени и ресурсов. В противоположность абстрактным законам и критериям классического менеджмента при таком подходе точкой отсчета в производстве и управлении становится, как говорят в Японии, «реальное место» (гэмба), которое соответствует, по сути, некоей конкретной ситуации или узлу производственной деятельности. Другими словами, реальность предстает здесь как взаимодействие сил, функциональное единство субъекта и среды и в конечном счете – как непрерывно обновляющийся, всегда конкретный континуум пространства-времени. Соотнесение производственно-управленческого процесса с «реальным местом» означает, что работу не столько делают, сколько она сама делается – без детально прописанного плана. Анализу и проектированию японцы предпочитают все то же упорство и, как ни странно, просто здравый смысл, позволяющий ориентироваться «на месте». Таким образом, упорство японцев в их собственных глазах равнозначно практической сметке и умению действовать сообразно обстоятельствам, что на Дальнем Востоке всегда было одной из высших жизненных ценностей.
В описанном здесь деятельностном подходе к менеджменту проглядывают некие глубинные, почти незаметные на поверхности жизни принципы японского мировосприятия. В японцах более всего поражает сочетание необыкновенной восприимчивости к достижениям чужих цивилизаций и твердой приверженности к своей национальной самобытности. Соответственно, современная японская продукция имеет всемирный успех, сохраняя свой безошибочно национальный колорит. О секрете такого сочетания хорошо сказал еще сто лет назад Г. Кайзерлинг в своей книге «Путевой дневник философа». Японский гений, полагал Кайзерлинг, проявляется отнюдь не в «японщине», а в умении японцев извлекать практическую пользу из любых обстоятельств.
«Японец обычно не творец, но он и не подражатель, как принято считать, – он, в сущности, пользуется обстоятельствами так, как это делает знаток джиу-джитсу. Какие качества требуются от мастера этого искусства? Не творческая инициатива, а, напротив, необычайная способность к наблюдению, мгновенное понимание эмпирического значения каждого явления и умение извлечь из него наибольшую практическую пользу; оно в наибольшей степени требует того особенного сотрудничества головы и рук, где познание немедленно вызывает наиболее подходящую реакцию движения, в котором вся память выражает себя в автоматическом действии. Вся японская цивилизация основана на этой способности, и японское “подражательство” в особенности имеет именно такое значение. Японец в действительности не подражает – он извлекает преимущество, как борец извлекает его из движений соперника; он не копирует, но меняет свою позицию. Ему дано входить с несравненной легкостью в любое враждебное окружение, чтобы понять изнутри его своеобразие (но не его природу!); войдя таким образом в органическое отношение с ним, он пользуется им, насколько возможно им пользоваться. Вот так японец когда-то использовал культуру Китая. Возможно, он никогда не понимал ее, но в равной мере нельзя сказать, что он просто внешне подражал ей – он полностью погрузился в нее и продолжал жить в рамках китайского отношения к миру»[48].
Подтверждения словам Кайзерлинга найти нетрудно. Японцы в самом деле отлично усваивают именно технические изобретения Запада и старательно доводят их до совершенства. Другими словами, они умеют достигать предельной точности действия. Речь идет не просто о восприимчивости и терпении, а о таком уровне саморефлексии и даже, можно сказать, духовной чувствительности, когда становится возможным воспринимать сами условия восприятия: созерцать созерцание, вслушиваться в слух, давать волю воле, чувствовать чувственность и т.д. Главной ценностью в таком случае становится не знание и не опыт сами по себе, а точность отношения к своим переживаниям, выверенность жеста. Речь идет о своего рода «самонастройке», доведенной почти до автоматизма. Смысл такого рода усилия состоит в восприятии самой способности восприятия или континуума «пустоты», предшествующей миру вещей. Задание человеческого самопознания здесь – это сама заданность опыта.
Тут и надо искать поразительное единение изощренного техницизма и не менее утонченного эстетизма, деловитости и созерцательности, которое, в сущности, и составляет сущность японского «чуда». Старательность, возведенная к покою несотворенной реальности и потому слившаяся одновременно с инстинктом и счастьем, – вот состав «японского сердца». Поэтому японцу не столь важно, для чего он что-то делает. Ему важнее «делание ни для чего», делание как таковое; умение же делать вообще обеспечивает успех в любом деле. Способность делать безупречно – вот то абсолютное (ибо беспредметное) совершенство, которое, согласно постулатам японской культуры, делает человека человеком и приносит ему полное удовлетворение.
Выверенность жестов порождает, конечно, ощущение полного единообразия. Нет на земле нации более сплоченной и однородной по своей душевной выделке, чем японцы. Но – и это еще одна фундаментальная черта японского жизнепонимания – безусловная нормативность может восприниматься только под знаком игры, не может не быть маской, которая тем более искусна, чем успешнее сходит за действительность. Японцы поистине знают, что делают. Их старательная артикуляция своей мечты есть не что иное, как заботливая, с полной серьезностью исполняемая шлифовка своей маски, которая маскирует не что иное, как... абсолютную непосредственность восприятия. Японские гуру от менеджмента любят повторять, что секрет успеха в бизнесе есть «просто» умение жить в согласии со здравым смыслом. К. Мацусита, например, сформулировал свое кредо в следующем афоризме: «Если идет дождь, возьмите с собой зонтик». Но в том-то и дело, что самое простое в жизни дается труднее всего.
Ясно, что японскому мышлению чужд западный дуализм субъекта и объекта, действия и созерцания, идеи и вещи, духа и материи. Японец познает не мир через себя, а себя через мир. Отправная точка его непосредственного переживания действительности (его «недумания») – это цельное «поле» действия, общая ситуация, «место» (ба). В Японии именно место красит, то есть определяет облик и поведение человека. Однако главная роль здесь отводится соотнесенности или, как еще говорят, недвойственности символического и функционального измерений реальности, а именно: извечно самоотсутствующая предельная цельность бытия (что на Дальнем Востоке именовалось «великой пустотой») не отличается от чистой конкретности и всецело операционального характера человеческой практики.
Итак, японская предметность относится не к вещам и не к идеям, а к парадоксам, лежащим в основании смысла. Все истинно ровно настолько, насколько ложно. Маска должна быть действительностью. И поэтому японский сад должен являть безупречную иллюзию дикой природы. Напротив, в японском театре маска выставляется напоказ: акцент на иллюзорности представления напоминает о безусловной реальности игры, то есть тотальной деланности поведения японцев.
Одним из интересных следствий подобного отношения к жизни является взаимодополнительность разнородных культурных кодов в сознании японцев: чем охотнее они перенимают черты западной цивилизации, тем ревностнее оберегают свои традиционные ценности и культурные формы. Вестернизация в действительности не мешает, а помогает японцу осознать себя японцем. Живя невзрачной жизнью обитателя современного мегаполиса, современные японцы мечтают провести некоторое время в специальных гостиницах, где с неизменной японской старательностью воспроизведены все черты старинного быта. А в современной Японии даже маргинальность и нигилистический протест институционализированы (например, под видом моды или художественной богемы) и служат укреплению общих принципов социума. Просто наряду с традиционными и друг друга обуславливающими «жизненными мирами» – западным и национальным – теперь в Японии появилась и новая ниша, так сказать, системной асистемности, воспроизводящая нигилистическую природу позднего модерна.
Теперь мы можем лучше оценить особенности новейшего этапа развития японского менеджмента, которые в соответствии запросами информационной цивилизации заключаются в наращивании на основе традиционного для японской корпорации чувства «одной семьи» некоего общего «поля» знания – как на отдельных предприятиях, так и в обществе в целом. Успех японского бизнеса, по мнению современных японских теоретиков менеджмента, должны обеспечить теперь не заимствования, не японский характер и даже не экономное производство (многие черты которого, кстати, используются теперь и на Западе), а «совместное созидание знания», рождающее инновационные технологии. Ключевая роль и здесь отводится уже упоминавшемуся понятию ба («место»), которое по аналогии с введенным евразийцами термином «месторазвитие» можно было бы определить как «местообщение». Согласно японским гуру от менеджмента, речь идет о «сети взаимодействий», которая «служит основой для созидания знания» и «объединяет физические, виртуальные и умственные пространства». К ней же относятся, разумеется, «взаимные обязательства и общий опыт» сотрудников[49].
Так, президент одной из крупнейших японских компаний «Фудзи Ксерокс» Е. Кобаяси считает важнейшим организационным принципом своей корпорации пространство человеческой сообщительности (кит. цзянь, яп. ма). Кобаяси тоже трактует его как «пространство соучастия в созидании знания. Это пространство может быть физическим, как, скажем, исследовательская лаборатория, или виртуальным, как пространство интернета или электронной почты, или, наконец, умственным, как атмосфера, в которой возможен свободный обмен идеями»[50].
«Созидание знания», согласно японским теориям, есть процесс, развивающийся по спирали: его исходной точкой является «неявное знание», из которого выходят понятия. Последние проходят фазу обоснования, после чего сводятся в одну общую идею, или «прототип» корпорации, а эта общая идея, в свою очередь, овладевает всеми членами корпорации. С точки зрения формы описанный процесс включает в себя следующие этапы: появление исходного видения, «разговоры о менеджменте» (знакомая нам черта японского управления), мобилизация активистов, создание правильной среды и «глобализация локального знания».
В суждении японских менеджеров и их ученых советников более всего примечательна идея полного параллелизма духа и материальных форм жизни. Она вполне традиционна для Японии и, кстати сказать, близка теоретикам «высоких гуманитарных технологий», сводящих сознание к технологической системе. Безусловно, подобное единство материальных и духовных факторов человеческого сотрудничества – могучий фактор сплоченности общества. Остается, правда, не совсем понятным, чем именно должны обмениваться японцы в процессе совместного обучения. Если профессиональными знаниями, то это ничем не отличается от западного образования, а если знанием своей причастности к «японскому сердцу», то это ничего не добавляет к образованию традиционному. А требование наличия обязательной материальной параллели духовной практики тоже имеет свою цену: невозможность отделить реальное от иллюзорного и связанное с ней ощущение некоего психологического тупика, double-bind, обусловленного необходимостью одновременного утверждения взаимоисключающих оценок действительности. Эта ситуация «двойного выбора» (или постоянного воздержания от выбора) чревата неврозом и, возможно, служит источником немалого психического напряжения, которое так свойственно японскому национальному характеру. Описанная ситуация создает определенный психологический дискомфорт – если не при работе с виртуальным миром телекоммуникаций, то, по крайней мере, для признания за ней статуса самостоятельной реальности. Примечательно, что японский бизнес, так преуспевший в создании совершенных материальных образцов продукции, с опозданием и без присущей ему напористости стал пользоваться преимуществами интернета. Не создал японский бизнес, при всей его глобализированности, и виртуального образа своей традиционной цивилизации, подобного «чайнатауну». Японский идеал требует «реального» и «единственно верного» воплощения. Японское «сердце» есть физическое бытие Японии, которое невозможно перенести в другое место.
Интересно, что многие авторитетные теоретики менеджмента в США весьма низко оценивают японскую практику менеджмента. П. Друкер, например, считает лучшими в мире менеджерами корейцев и тайваньцев, которые за 30-40 лет превратили свои страны в крупнейших экспортеров передовых технологий. Японский же стиль менеджмента, по его мнению, слишком формалистичен, забюрократизирован, громоздок, одним словом – неэффективен. Друкер считает, что в области менеджмента Япония застряла на уровне европейского национального государства XIX века. Значительная часть японской промышленности выживает, по его мнению, лишь благодаря протекционистской политике правительства. В числе других важных особенностей японского менеджмента он видит твердую до нерациональности приверженность избранному курсу, но в то же время способность волевым решением резко менять курс[51].
Теперь рассмотрим вкратце национальные особенности корейского менеджмента. В организации корейского бизнеса мы встречаем много черт, свойственных деловой жизни соседних стран, особенно Японии. То же преобладание мелких семейных предприятий, над которыми возвышаются вертикально структурированные и тесно связанные с государством промышленно-финансовые группы, так называемые чёболы, ныне известные всему миру: Самсунг, Хендай, Дэу, LG и др. В конце 90-х годов ХХ века на чёболы приходилось 32% общего объема продаж и 29% всего национального капитала. Одна корпорация Самсунг в 1997 году имела около ста аффилированных предприятий и давала 28% всего корейского экспорта. Правда, по своим размерам эти гиганты корейского бизнеса значительно уступают японским кэйрэцу.
Корейский менеджмент изучен гораздо меньше японского или даже китайского, отчасти вследствие сравнительно позднего выхода Южной Кореи на мировую арену. Однако и в отсутствие обстоятельных исследований можно говорить о глубоком и во многом своеобразном воздействии конфуцианской традиции на современный корейский бизнес. Корейцы унаследовали конфуцианскую трудовую этику и отличаются необыкновенным трудолюбием: если на Тайване рабочая неделя составляет 40 часов, а в Японии – 42 часа (впрочем, бесплатно работать сверхурочно считается там очень хорошим тоном), то корейцы трудятся 58 часов в неделю. Они предпочитают пожизненный найм и, пожалуй, не меньше, чем японцы, преданы своей корпорации-семье с ее атмосферой всеобщего согласия, хотя в Корее преданность компании не является препятствием для ожесточенных трудовых конфликтов. Сами чёболы до некоторой степени воспроизводят региональные клановые группировки, из которых состояло традиционное корейское общество. Подобно тому, как в прежние времена королевский двор повелевал региональными кланами, современное правительство осуществляет жесткий контроль за деятельностью кланов-чёболов и регулирует их экономическую политику вплоть до мельчайших деталей.
В Корее и сегодня огромное значение имеют родственные связи, и сами корпорации обычно сохраняют семейный характер. Компания Хендай, например, наполовину является собственностью одной семьи. В крупнейших чёболах 30% служащих связаны родственными узами с семьей владельца[52]. Бизнес тоже сильно персонализирован, и управление носит авторитарный характер, так что у рядовых работников и даже менеджеров среднего звена практически нет возможности влиять на принятие решений. В этом отношении Корея больше напоминает китайское общество. Полное доверие между партнерами остается главным условием совместного ведения дел, заключение письменного договора – практика сравнительно редкая. Традиционные формы вежливости все еще в большом почете.
Даже в крупных корпорациях Кореи владение и управление остаются неразделенными: владелец компании лично осуществляет всесторонний контроль за ее деятельностью. Достигается это благодаря особой форме управления, получившей в западной литературе название «виртуальной штаб-квартиры». Речь идет о своеобразном «отделе кадров», определяющем стратегию отдельных дочерних предприятий, делегирующих в этот неформальный орган своих лучших управленцев. Эти же компании выделяют средства на содержание своих представителей в нем. Посредством «виртуальной штаб-квартиры» глава чёбола осуществляет руководство над всеми компаниями его промышленной группы, но не несет ответственности за их неудачи. Социальная физиономия корейского менеджера тоже имеет много китайских и японских черт, отчасти видоизменившихся под влиянием местной специфики. Это люди, часто поднявшиеся из низов и превратившие трудности своего жизненного пути в собственное преимущество (пример чему, между прочим, подал сам Конфуций). Они представляют или, как ныне принято говорить, позиционируют себя как люди, заботящиеся об общем благе и безупречно бережливые. Одновременно это люди, чрезвычайно уверенные в себе и окруженные всеобщим истинно благоговейным почитанием своих подчиненных. Вот типичный в своем роде пассаж из биографии богатейшего корейского предпринимателя Ким Ин-Вона:
«Ким Ин-Вон посвятил себя преодолению соблазнов чрезмерного себялюбия, которые принесла с собой волна индустриализации, и сосредоточился на том, чтобы доходы от его бизнеса были должным образом возвращены обществу. Он сделал основой своего поведения и быта принципы бережливости и сдержанности. Будучи всецело проникнут духом общественного служения, он всегда ставил благо государства выше личных приобретений и славы»[53].
Еще два примера, дающие понятие о стиле корейского менеджмента.
Основатель компании Дэу Ким У-Чжун начинал в 1967 году как хозяин маленькой мастерской по пошиву одежды, где трудились всего пять работников. Работая по сто часов в неделю, он создал промышленный конгломерат с капиталом в 60 млрд. долларов и персоналом в 100 тысяч человек. Девизом корпорации Кима стали творческий подход к делу, готовность взяться за любую задачу и безграничная самоотверженность. Свою автобиографию Ким озаглавил: «Каждая улица вымощена золотом», что вполне соответствовало действительности в его деловой карьере до тех пор, пока финансовая катастрофа 1997 года не нанесла сокрушительный удар по его империи.
Руководитель чёбола Хендай Чун Джу-Юн создал свою компанию в 1946 году. Сначала он занимался ремонтом автомобилей, но вскоре ушел в строительный бизнес и стал одним из основных подрядчиков американской армии в период Корейской войны. Впоследствии он распространил свою деятельность на электронику, судостроение, химическую промышленность, производство автомобилей и финансовый сектор, заслужив от своих подчиненных экзотическое прозвище «государь-председатель».
Разумеется, система чёболов тоже имеет свои недостатки, связанные в основном с их чрезмерной централизацией и господством личностных связей. После разрушительного кризиса 1997 года правительство Кореи взяло курс на постепенную дезинтеграцию чёболов. В условиях глобализации бизнеса отмирают и многие черты корейского менеджмента, связанные с конфуцианским наследием.
В сравнении с корейской и японской формами организации бизнеса становится еще более очевидным, что главная особенность китайского делового сообщества заключается в наличии всеобъемлющей сети личных связей, которая основывается прежде всего на родственных отношениях, но не исключает также отношений земляческих и даже коллегиальных – например, принадлежности к выпускникам одного и того же учебного заведения. В этой сети отсутствует ярко выраженный фокус, или, точнее, в ограниченной степени таковым может быть каждый ее участник. Оттого же китайские общины при всей их этнокультурной пестроте и сложных личных отношениях между отдельными ее членами образуют единое информационное поле, где любая новость немедленно становится известной всем.
Глава вторая
«Искусство сердца»: управление
Переосмысливая менеджмент
Менеджмент породил монбланы ученой и популярной литературы и занимает, быть может, самое почетное место в учебных программах университетов всего мира. Особенно популярен он в Америке, где местные социологи называют его «самой важной функцией американского общества». Причины подобного подобного положения кроются отнюдь не в том, что «наука менеджмента» содержит какие-то глубокие откровения или практическую мудрость, без которых человечество никак не может обойтись. Все дело в том, что теория менеджмента стала наиболее полным и вместе с тем общедоступным, очищенным от всякого культурного своеобразия выражением мировоззренческих основ современной эпохи и самой сути так называемого американизма с их упованием на абстрактную рациональность, культом эффективности, признанием безусловной ценности личного удовольствия, стремлением выработать безупречно рациональные и общепонятные нормы человеческого общежития.Теория менеджмента целиком воздвигнута на главном постулате того, что называют модернизацией общества: идее рационального действия, наилучшим образом соединяющего свои цели и средства. Она боготворит эффективность, понимаемую чисто количественно: вложить средств как можно меньше, а получить прибыли как можно больше. Она верит, что существует один лучший, пригодный для всех времен и народов способ действия. И она мнит себя наукой, поскольку ее исходной посылкой выступает всегда тождественный себе субъект, видящий вокруг себя только внеположенные ему «объекты воздействия» и ищущий «объективные» истины. Такой субъект стремится установить полный контроль над внешним миром сообразно отвлеченным законам разума, что означает на самом деле – утвердить свое видение мира за счет устранения естественного, самой жизни свойственного разнообразия людей и культур. Социальным заказчиком подобной, прямо скажем, столь же агрессивной, сколь и тривиальной науки был, разумеется, капиталистический уклад хозяйства, капиталистический культ ratio.
Вполне естественно, что теория менеджмента родилась в Америке – стране наднациональной, по своему экономическому строю чисто капиталистической, а потому особенно чувствительной к прагматическим ценностям. Ее основоположником был Ф. Тейлор, опубликовавший в 1911 году книгу под названием «Принципы научного менеджмента». Никаких поразительных открытий в ней не содержалось, что не помешало Тейлору претендовать на славу пророка «великой умственной революции», которая заставит всех «действовать по науке, а не личному произволу». Эта Библия менеджмента содержала набор как будто бы самоочевидных правил эффективной организации труда, с помощью которого можно добиться наибольшей производительности при минимальных организационных издержках. Главной и даже безусловной ценностью человеческой жизни для Тейлора была именно производительность труда. Человек, согласно царившему в то время убеждению, был создан для того, чтобы производить как можно больше – со всеми приятными для него самого и всего общества последствиями. А моделью трудового процесса для него служила организация работы в рамках массового промышленного производства.
В своих подробных описаниях трудовых операциях и форм управления на капиталистической фабрике Тейлор пользовался уже проверенным и в своем роде универсальным оружием: методом количественного анализа. Появившиеся несколько позже труды француза А. Файола и известного немецкого социолога М. Вебера позволили сформулировать три основных принципа новой «науки»: общественное разделение труда и, шире, специализация как средство повышения эффективности производства и управления; соподчинение главных и второстепенных факторов в рамках единой шкалы тех или иных количественных показателей; лежащая в основе бюрократических институтов координация горизонтального измерения специализации и вертикального измерения управленческой иерархии на основе все тех же количественных критериев. Оптимальное сочетание трех этих факторов и стало идеалом классического менеджмента, который разделяют все последователи Тейлора при всем разнообразии их методик и точек зрения. Управлять, согласно этому подходу, означает «предвидеть, планировать, организовывать, координировать и контролировать» (А. Файол). Этот идеал менеджмента, как все понятия эпохи Нового времени, претендовал на статус универсальной истины. Жестко заданные, предопределяющие друг друга незыблемой логической последовательностью, фактически объясняющие сами себя постулаты тейлоризма стали очевидным воплощением того триумфа административного контроля, «железной клетки» бюрократической рациональности, которую М. Вебер считал неизбежным историческим исходом модернизации.
Несмотря на скептическое – и заслуженно – отношение академических кругов к псевдоноваторским изысканиям Ф. Тейлора, его книга имела большой успех, подогретый волной милитаризации общества в годы Первой мировой войны. Некоторое время ее даже пропагандировали как панацею от всех недугов общества. В Америки появилось множество «обществ эффективности» и журналов тейлористского направления. Даже Ленин считал этого апостола капиталистической эффективности настоящим гением управленческой науки и призывал коммунистов учиться у него – заметим, не случайно: политика большевиков тоже была формой модернизации России. Со временем волна несдержанного увлечения тейлоризмом спала, и теория Тейлора вернулась в стены заводских цехов и конторок и прочно там окопалась. Потянулись десятилетия переоценки и продумывания отдельных сторон предложенного Тейлором подхода: непосредственно трудовых операций, планирования, организации, контроля, продажи и т.д. Наука управления становилась все более подробной, конкретной, точной, но вместе с тем все более многогранной и аморфной. Двигала же ею вера в возможность и, следовательно, необходимость выработки безупречных принципов управления. Вот как об этом говорится в одной из американских книг по истории менеджмента:
«Все предки управленческой мысли исходили из того, что посредством разума люди способны создать и определить уместные и непротиворечивые средства достижения целей. В эпоху великого интеллектуального подъема Просвещения эта посылка стала ясно сформулированным принципом... Благодаря открытию законов мироздания человек смог контролировать иррациональные импульсы и достичь подлинной свободы. В ходе этого развития суеверию, вере в сверхъестественное и мертвому бремени традиции был противопоставлен трезвый, скептический и научный расчет»[54].
С середины ХХ века, по крайней мере в США, все чаще звучат призывы к созданию «всеобъемлющей теории менеджмента». Эти призывы были продиктованы насущной практической необходимостью: многие американские компании, как производственные, так и торговые, стремительно разрастались и нуждались в наборе простых и эффективных правил для своей деятельности. Эксперты созданной в 1954 году Американской ассоциации менеджмента пришли к выводу, что управление включает в себя три основные функции: планирование, организация и исполнение. За короткое время Америка покрылась густой сетью школ бизнеса со стандартизированными учебными программами. Знание «цены труда» было объявлено отличительной чертой цивилизованного человека, чьи ценности и жизненные идеалы в свежеиспеченных учебниках по менеджменту были подозрительно похожи на принципы протестантской этики. Тогда же вошла в обиход современная концепция менеджмента как единой системы «планирования, контроля и исполнения». С содержательной точки зрения этот «всеобъемлющий менеджмент» представлял собой эклектическую смесь понятий, взятых из разных общественных наук – экономики, социологии, психологии – и притом обслуживавших очень разные цели: не то некую чистую идею управления или экономической деятельности, не то повседневную практику бизнес-администрации.
Конечно, рекламируемый на все лады «всеобъемлющий», или «комплексный», характер новой науки управления еще не был гарантией подлинной научности. Теория менеджмента в полной мере унаследовала слабости формального подхода в области общественной жизни. Подобно тому, как, например, формалистическая этика в духе Канта страдала бесплодной декларативностью применительно к реальным нравственным проблемам, так и универсальные принципы организации никак не могли охватить бесконечное разнообразие конкретных обстоятельств деловой практики. Предприятия добивались успеха или терпели крах независимо от «общих положений» менеджмента. Более того, выяснилось, что в своей работе менеджер не столько «планирует, организовывает, контролирует» и проч., сколько просто действует сообразно обстановке и личному складу характера, а успеха добивается в том случае, если применяет нестандартный, творческий ход. В таких условиях знатоки новой науки вольно или невольно брали на себя роль практических консультантов, предлагая те или иные «приемы», которые должны были решить отдельные частные вопросы: улучшить планирование, поднять производство, заставить работников выполнять свои обязанности, сплотить коллектив, укрепить авторитет руководителя, увеличить продажи и т.д. При всей своей декларированной «открытости» классический менеджмент отличался поразительным догматизмом и неспособностью бросить критический взгляд на собственные постулаты. Отсюда с виду странный, но по сути закономерный парадокс: история «научного управления» являет собой сочетание непрерывных «революций» в методах при полной неизменности его основополагающих принципов. Это чисто модернистский способ существования: непрерывное и полное отрицание действительного при невозможности выйти за рамки постулатов ratio, которые модернистски рационализирующая мысль сама же и устанавливает.
Один конкретный пример: понятия, обозначающие корпорацию и организацию. Хотя сам термин «корпорация» восходит к латинскому слову corpus («тело» – ср. такие термины, как «социальное тело», «корпус» как обозначение разного рода коллективов), легко заметить, что и корпорация, и даже организм трактуется в западной мысли в механистическом ключе. Слова «организм» и «организация» имеют общего греческого предка – слово «органон», что значит «орудие». В латыни древних римлян organum относился к военным орудиям и в широком смысле – ко всем механическим устройствам. В Средние века оно стало обозначением церковного музыкального инструмента – органа, а в эпоху Возрождения, в виде термина органон, употреблялось для обозначения, с одной стороны, телесных органов и, с другой стороны, системы правил доказательства или исследования. Еще позднее появился термин «организм» в его современном значении. Это понятие унаследовало присущие ему прежде механистические коннотации настолько, что современный «Оксфордский словарь делового мира» предлагает явно абсурдное его определение: «живое существо с независимыми частями». В итоге даже представление о живом организме в европейских языках было подчинено господствовавшему в мысли Нового времени аналитическому подходу к знанию. Европейская наука, как известно, рассматривает организм под углом универсальных принципов организации и как совокупность самостоятельных систем – пищеварения, дыхания, кровообращения и проч.
Интересно, что сходное смешение механистических и органистических аспектов бытия свойственно и китайской традиции, но там, наоборот, механический аспект подчинен органическому. В современном китайском языке слова «механизм» (цзици) и «организм» (цзити) образованы от одного знака цзи, который в древности тоже имел и механическое, и органическое значение: «спусковой крючок арбалета» и «первичный импульс жизни». Нынешнее же понятие природы у китайцев восходит к термину цзы жань (букв. «сам по себе»), обозначавшему метафизическую реальность «самоподобия». И, например, когда в конце XVI века китайцы впервые познакомились с европейскими механическими часами с боем, они назвали их «колоколами, звонящими сами собой», или, буквально, «естественными часами». Вообще для китайского мировоззрения характерна идея преемственности человеческого искусства, даже искусности и природного бытия[55]. Если европейская научная мысль изучает состояние вещей, применяя аналитические процедуры и сводя природу к механизму, то китайская мысль интересуется способом использования вещей и рассматривает все вещи с точки зрения цельности типа, того или иного качества состояния. Европейская мысль гуманизирует даже природу, китайская мысль натурализирует даже человеческую деятельность.
Но вернемся к проблеме современного менеджмента. Быть может, его теоретики еще долго продолжали бы строить здание новой науки путем упорного отказа от того, что было построено их предшественниками, и выдвижения новых проектов, если бы сама экономическая реальность последних десятилетий не демонстрировала все нагляднее врожденную ограниченность и даже ошибочность их исходных представлений. Идея эффективности, приравненной к способности производить как можно больше и дешевле, оказалась вдруг анахронизмом. Выяснилось, что в условиях насыщенности рынка главным условием конкурентоспособности становится высокое качество товаров, технические инновации, атмосфера гармонии и творческого поиска в коллективе, способность гибко реагировать на изменения конъюнктуры. Производство товаров малыми партиями или даже штучное производство в семейных мастерских сплошь и рядом оказывалось более рентабельными, чем крупное фабричное производство, не говоря уже о том, что оно поддерживало национальную репутацию.
Там, где предложение легко удовлетворяет спрос, конкурентоспособность обеспечивает не просто массовое производство продукции, а производство продукции наукоемкой, с большой «добавленной стоимостью». К этому следует добавить возросшее значение брендов и «легенды» товара – тоже в своем роде приметы наступления «информационной» эпохи. Теперь продается определенная «марка», или, говоря шире, стиль, который всегда есть знак собственной уникальности, неподражаемое «лицо» фирмы. Важность создания для каждой компании своего стиля, или, как говорят сегодня, «раскрученного бренда», то есть, по существу, легко узнаваемого признака собственной идентичности, объясняется еще и тем, что в условиях общедоступности информации всякие технические новшества легко копируются конкурентами и «идентичность» во всех ее проявлениях оказывается почти единственной неотчуждаемой собственностью предпринимателя.
Итак, изменения в экономике заставили многих признать, что погоня за количественной эффективностью даже с чисто экономической точки зрения есть гибельный тупик. Нашлись и гуманитарные причины отречься от тейлоризма, ибо последний, рассматривая человека как орудие, по сути дела, превращает его в калеку. Труд сам по себе отнюдь не унижает человека и даже может доставлять ему ни с чем не сравнимую радость. Бог проклял человека вовсе не трудом, а производительностью труда.
Соответственно, взгляды на природу и задачи менеджмента претерпели настоящую революцию. Пришло ясное сознание исторической ограниченности и предвзятости постулатов классического менеджмента, их полного внеисторизма и неизлечимого догматизма. Знатоки успеха в бизнесе стали все чаще и все решительнее подвергать их резкой критике. Влиятельный теоретик менеджмента П. Друкер, например, еще с конца 1960-х годов развивал мысль о том, что менеджмент – это не наука и не специальность, а прежде всего сама практика хозяйствования, в которой главное значение имеет стиль руководства и атмосфера в коллективе. Впрочем, ориентация на практические нужды управления очень скоро породила огромное разнообразие концепций менеджмента, не поддающееся какой-либо систематизации. Появился менеджмент системный (Р. Нойшель), менеджмент коммуникативный (В. Меррихью), менеджмент по результатам (Э. Шдех), менеджмент по целям (Г. Одиорн), менеджмент по мотивации (С. Геллерман), менеджмент на основе участия (А. Мэрроу), менеджмент по исключению (Л. Биттел) и проч.
Как бы там ни было, в лице классической теории менеджмента объектом критической переоценки стали, в сущности, основополагающие принципы всего процесса модернизации и прежде всего – подчинение человеческой деятельности метафизике субъектно-объектных отношений. Речь идет о том, что автономный субъект, превращая предметы внешнего мира в материал для производства, выявляет в них некую общую субстанцию: древесину в дереве, металл в руде и т.д. В результате создается гуманитарно-техническая среда, в которой человек составляет с машиной одно целое ценой утраты своей индивидуальности. Всеобъемлющее единство такой среды и есть предельная цель технического проекта человечества, ярко выразившаяся, например, в эстетическом идеале революционного русского авангарда. В 1919 году, в разгар революции, теоретик супрематизма К. Малевич писал: «Своим новым бытием я прекращаю расточение рациональной энергии и привожу к неподвижности жизнь зеленого животного мира. Все будет направлено к единству черепа человечества как совершенного орудия культуры природы»[56].
Подобный технократический оптимизм, вообще говоря, характерен для технико-тоталитарных проектов первой половины ХХ века, от русского большевизма до «консервативной революции» в веймарской Германии. Речь идет, разумеется, о контроле не только над природой, но и над человечеством. Достаточно вспомнить историософию Э. Юнгера на рубеже 1920-1930-х годов с его идеалом «рабочего», выковывающего из аморфного человеческого материала определенный человеческий тип, «расу деятелей», вечно устремленную в будущее. Понадобилось некоторое время, чтобы осознать скрытую в этой как будто бы жизнеутверждающей мечте огромную разрушительную силу. В годы Второй мировой войны М. Хайдеггер увидит в тотализирующей природе техники способ «чистого расходования ресурсов» и апофеоз войны, ведь война и есть лучший способ, говоря сленгом тоталитарной эпохи, «пустить в расход» человека, сведенного к главному ресурсу военной техники. Рациональность модерна, возводящая индивидуальность в сверхличный тип, есть, согласно определению немецкого философа, движущая сила глубинного нигилизма европейской мысли, сущностью которого является «организация безусловной бессмысленности посредством воли к власти и ради нее».
Мысль о том, что позитивистски определяемая эффективность не так уж эффективна и даже, скорее, контрпродуктивна, медленно, но верно овладевала интеллектуальным сообществом. Даже в цитадели рационалистической мысли – Англии – известный философ А. Макинтайр уже в 1981 году в своей книге «После добродетели» заявлял без обиняков, что «организационный успех и организационная предсказуемость исключают друг друга» и что социальные науки не обладают предсказательным знанием. А потому претензии классического менеджмента на открытие всеобщего критерия эффективности полностью иллюзорны:
«Концепция управленческой эффективности есть в конце концов еще одна современная моральная фикция и, вероятно, самая важная из них...
Понятие социального контроля, включенное в понятие экспертизы, является на самом деле маскарадом...
Социальный мир повседневного твердолобого прагматического реализма, в котором нет места бессмыслице и который является средой управления, это мир, устойчивое существование которого зависит от систематического недопонимания и веры в фикции»[57].
Действительность на каждом шагу подтверждает правоту этих слов. К примеру, прибыльность крупных японских корпораций вдвое ниже американских нормативов, зато они вполне удовлетворяют японское общество. Работники в Японии обычно хранят верность своей компании и установленному порядку вещей, даже если их предприятие работает в убыток и не может платить им. На Востоке общественный консенсус безусловно важнее экономических показателей. Неслучайно в странах Дальнего Востока устная договоренность между предпринимателями сплошь и рядом не удостоверяется письменным контрактом.
Тем не менее на Западе сила инерции старых подходов к управлению (а равно и практическая заинтересованность в них вполне определенных слоев общества – от профессиональных менеджеров до профессуры) до сих пор плодит попытки создать идеальную концепцию менеджмента. С конца 80-х годов ХХ века на ее роль одно время претендовала так называемая теория «тотально качественного менеджмента» (Total Quality Management), несколько лет спустя ей на смену пришла концепция «лучшей практики» (Best Practice). Эти наиболее совершенные продукты инженерно-управленческой мысли неожиданно со всей ясностью обнажили тупик, в который зашла классическая теория менеджмента: если существует один-единственный лучший и универсальный образец управления, и задача менеджеров состоит только в том, чтобы добросовестно его скопировать, тогда компании станут действовать одинаково и в результате, как ни странно, утратят свои конкурентные преимущества. Единственным способом выживания для них будет только снижение издержек производства и продажной цены, но этот путь, совершенно очевидно, ведет в никуда.
С конца 1980-х годов могучий импульс к радикальному пересмотру основ «научного менеджмента» дал новый этап миросозерцания и мышления, который чаще всего связывают с понятием постмодерна. Исторически переход к постмодерну соответствует достижению тотальности технической среды, когда объект уже целиком поглощен субъектом, так что само разделение мира на субъект и объект лишается смысла, а действие теряет предметный характер, то есть никем не осуществляется и ни на что не направлено. Уже Малевич предрекал появление «бессубъектного мира» и называл высшей формой деятельности «абсолютную лень». В конце же ХХ века философы постмодерна, как Ж. Бодрийяр, будут говорить о том, что «мы уже пережили все оргии освобождения и теперь ускоряемся в пустоте». Постмодерн есть выдохшийся, исчерпавший себя модерн, который унаследовал рефлексивность своего предшественника, но не признает ничего предметного и действительного.
Постмодернистская мысль направила острие своей критики против идеи автономного и самотождественного субъекта, который упорядочивал мир в категориях субъектно-объектных отношений и подчинял его отвлеченным и универсальным схемам «чистого разума». Главная тема постмодернизма – приоритет отличия, инаковости как таковых, уместность и ценность всего особенного, исключительного, уникального и, следовательно, отвержение телеологизма, «логоцентризма» и принципа целесообразности вообще. Постмодернизм восстает против «великих повествований» модерна с их унифицирующей тотальностью и стирает грань между нормой и отклонением, общим и единичным; он, по выражению З. Баумана, желает «не лучшего будущего, а иного настоящего» и потому интересуется только различиями; мир в постмодернистском видении есть «диаспора абсолютов» (Э. Левинас). В эпоху постмодерна материалом политики становится культурно-специфическое в человеческой жизни, а едва ли не решающим фактором ее предстают всевозможные меньшинства и маргинальные элементы, а также индивидуальные особенности самих политиков.
В человеческом языке и поведении постмодернистская мысль интересуется не правилами и моделями, а чистой прагматикой речи и действия. Она видит в реальности (если воспользоваться известным образом Ж. Делеза и Ф. Гваттари) спутанное корневище, лабиринт, паутину, где не существует точек отсчета. Это видение, надо сказать, весьма похоже на восприятие предпринимательской деятельности многими капитанами современного бизнеса. Один из создателей Силиконовой Долины Эд Мак-Кракен говорит, например:
«Секрет конкурентоспособности не в том, чтобы гибко реагировать на хаос. Он заключается в том, чтобы создавать хаос... По нашему ощущению, эти быстрые и хаотические изменения останутся навсегда и будут даже усиливаться. В творческой атмосфере крайне важно легкое отношение ко всему...»[58].
Постмодернистский мир – это, если воспользоваться одной расхожей метафорой, «жидкая современность». В нем любые перемены, вплоть до несоблюдения прежних договоренностей, важнее постоянства. В нем никто не имеет устойчивой идентичности, и само общество, утратившее стремление к самоосознанию, растворяется в текучей и анонимной стихии повседневной жизни. Постмодерн отказывается от всякого «учета и контроля» и от самого стремления руководить и опекать подчиненных. Он отдает предпочтение «плоским», лишенным иерархии организациям, где работники должны сами решать текущие вопросы, выступать с инициативами и вообще всячески стараться, чтобы начальство их заметило.
Соответственно, эпоха постмодерна враждебна любым «научным принципам» организации, любой попытке подчинить людей всеобщим нормам и правилам. Она объявила тейлоризм порочной и бесплодной концепцией управления, которая убивает таланты и инициативу работников. Кредо постмодерна – свободное самоизменение, творческий отклик на спонтанно возникающие обстоятельства, игровое отношение к действительности. Постмодернизм осмысливает мир в категориях сетей, отношений, взаимодействия, «обратной связи» слов и поступков, где уже нет отдельного деятеля, а есть, скорее, всеобщее делание, за которое ответственны все члены корпорации и которое, если оно успешно, как принято говорить, «претворяется в жизнь», предстает, скорее, недействованием. И в этом (не)делании может быть постигнута некая бесконечная, не поддающаяся количественному измерению действенность, уже неотделимая от чистого переживания, чистой радости жизни. Способность к общению и расширению связей, общительность и открытость творческим переменам, само «умение быть», или то, что французы называют savoir-etre, становится более важным качеством, чем специализация или профессиональные навыки, savoir-faire. Современное общество «ставит акцент больше на гибкости в использовании работника, на способности учиться и приспосабливаться к новым функциям, нежели на обладании навыками и приобретенной квалификацией, на способности завоевывать доверие и вступать в отношения...»[59].
На смену механистическому взгляду на организацию приходит представление о бесконечно сложной, даже аморфной целостности системы-организма, в пространстве которой (едва ли даже в рамках) работа примет характер творческого ответа на вызовы обстановки. Р. Салмон, вице-президент фирмы «Ореаль», одного из крупнейших в мире производителей косметической продукции, предлагает в духе современного внимания к экологической проблематике учиться в этом отношении у самой природы: «Живые системы, то есть бесконечно сложные и точные организации, созданные природой, дают непревзойденные модели способности к разнообразным реакциям, к постоянным, спонтанным приспособлениям и к изобретательному, самодостаточному процессу роста»[60].
Очень важным следствием постмодернистского переворота в мышлении стало изменение самого статуса видимого мира: в его свете внешние образы перестают быть достоверными проявлениями некой скрытой сущности и становятся не более чем декорумом бытия, пустыми «симулякрами», чем-то вроде неустранимой (и в этом смысле необходимой и полезной) иллюзии. В таких условиях свобода от жестко предписанных связей с миром и общепринятых норм жизни и, как следствие, верность взятым на себя обязательствам становится именно выбором – разумным и сознательным. Вот почему «состояние постмодерна», кажущееся поверхностному наблюдателю торжеством циничного практицизма, на самом деле заново выявляет значимость личной ответственности, добровольного послушания и смирения человека. Оно, может быть, впервые в человеческой истории утверждает обязательность морали как меры человеческого в человеке. Новое внимание к этическому началу как выражению личного характера, неотделимой от личности добродетели заметно по быстро множащейся в последние десятилетия литературе, посвященной искусству «руководства» (leadership). Последнее часто противопоставляется безличной формалистике «управления» (management).
Во многих отношениях постмодерн знаменовал возвращение к традиционному, предсовременному типу мировосприятия, которое еще не знало строгой заданности причинно-следственных отношений и основанных на них всеобщих закономерностей мироздания. В традиционной картине мира вещи соотносятся друг с другом по аналогии, посредством символических связей. В ней пространство имеет слоистую природу, а время циклично, так что каждое его мгновение в своем роде безусловно и самодостаточно, то есть заключает в себе родовой момент бытия, обладает неисчерпаемой творческой мощью. Знание в таком случае дается не сведением себя к субъекту, а, наоборот, способностью вместить в себя мир и в конечном счете – пребывать в согласии с инобытием. Оно дается в совместности обнажения и сокрытия, то есть как откровение, и предполагает не революционное отрицание прошлых представлений, а последовательное наращивание, наслаивание вновь обретенных фрагментов знания на наследие традиции. Традиционное знание, одним словом, есть мудрость: умение полностью «соответствовать обстоятельствам» и притом смотреть на вещи с разных сторон, совмещать разные перспективы созерцания и благодаря этому – «владеть» обстановкой, что в конечном счете означает возвращать каждое мгновение бытия к истоку всего сущего.
Мир в традиционном видении предстает вселенским круговоротом (или, точнее, спиралью, сферой) вещей, безграничной паутиной связей, существующей по принципу: «все во всем и ничто в чем-нибудь». Мир как ткань соответствий и клубок смыслов предопределяет взгляд на словесность как «плетение словес», «узорочье бытия» (самое понятие канона в Китае, как и во многих других частях Древнего мира, восходит к понятиям основы и утка, на которых выделывается ткань). Здесь человек и природный мир проницают друг друга, а космос хранит в себе темную бездну хаоса, не будучи отделен от него какой-либо явной качественной гранью. Реальность досовременной эпохи есть антропосоцио-хаосмос. Этот мир управляется творческой метаморфозой одухотворенной жизни, ведущей ко все более высоким ступеням совершенства, понимаемой как степень органической целостности бытия. Человек в традиционной культуре причастен к высшей тайне мироздания. Отсюда предъявляемое к нему требование «самопревозмогания», непрерывного нравственного совершенствования, устранения всего частного и преходящего в себе, и притом как раз для того, чтобы стяжать в себе полноту человеческого начала.
Как видим, постмодерн заново выдвигает на первый план антропологический принцип в существовании, хотя этот принцип имеет уже «постгуманитарную» природу[61]. По меткому выражению Р. Салмона, современные задачи менеджмента требуют перейти от «правильного действия» к умению «делать то, что правильно». Между тем именно такова задача традиционной мысли о человеке с ее идеалом блага как полноты самой жизни, будь то понятие эвдемонии у древних греков или добродетели как «внутреннего совершенства» вещи у древних китайцев.
Новый взгляд на человеческое существование требует не «знать», а «быть» или даже, точнее, вместить в себя полноту бытия и так обрести свободу. Ибо правильно действовать может каждый «грамотный специалист», а делать то, что правильно, способен только подлинно свободный, то есть познавший природу вещей человек. Но эта новая – или, если угодно, хорошо забытая старая – задача современного управления означает осознание и понимание самого истока, изначального импульса действия. Применительно к организациям речь идет о выявлении ее скрытой основы, ее, как часто говорят, архетипа, каковой есть «связь между идеями, верованиями и ценностями, с одной стороны, и структурами и системами – с другой… холистические отношения между различными аспектами структуры, системы и значения»[62].
Постмодернистский поворот не просто выдвинул на передний план этическую проблему, но и совершенно иначе поставил ее. Как уже было сказано, важность этики в постмодерне обусловлена упразднением норм поведения и мышления, акцентом на свободном выборе индивида и его соотнесенности с другими и всякой «инаковостью». Постмодернистский человек призван выбирать между ответственностью за весь мир и полной безответственностью[63]. Этот выбор возвращает к главной теме этики традиционного общества: воспитанию характера как подлинно живой, неотделимой от всех сторон жизненной практики добродетели.
Итак, постмодерн возвращает этику в стихию когда-то породившего ее этоса, то есть поступков, предопределяемых традицией, сверяемых с нею и в свою очередь сообщающих ей отдельные образцы нравственного поведения, из которых традиция, собственно, и состоит. Речь идет не об отвлеченной нормативности действия, а о прагматике человеческого общения, где самопознание неотделимо от познания других. В нынешних условиях упразднения нормативных поступков это означает не что иное, как отождествление этического начала с принципом альтруизма, но альтруизма сознательного, в своем роде не менее разумного, чем «разумный эгоизм» модернистской морали. Более того, есть основания полагать, что альтруистический аффект укоренен в человеческой природе глубже всего, имея своего предтечу в инстинктивных актах взаимопомощи животных: так дельфины подхватывают тонущего человека и выносят его на берег.
Постмодернизм и в этом отношении означает возвращение традиционной «этики характера», когда авторитет руководства и само единство корпорации являются плодом великодушия и даже подвижнической самоотверженности руководителя; когда добродетель, по завету Аристотеля, неотделима от индивидуального характера и стиля жизни.
В традиционном обществе образцом для всякой организации выступают семья и род. Они-то и составляют иерархически организованное пространство человеческой сообщительности – среду выделки надличностного типа, заданного в этосе. В цивилизации Дальнего Востока на этой же основе складывались и школы духовной практики (которые тоже именовались «семьей» и «домом»), и они имели, разумеется, свой этос, воплощенный в методах и правилах личного совершенствования и сопутствовавшем им фольклоре. Ту же основу, если обратиться к политике, имела и власть в лице царствующих домов, или, по сути, родового тела династии. Школа, понимаемая таким образом, есть преемственность моментов опыта, отмеченных печатью одной и той же типовой индивидуальности. Обучение в такой школе означает усвоение жизненного состояния или качества опыта, в которых воспроизводится духовное прозрение, пережитое основателем (отцом-основателем) школы. Этим принципом на Дальнем Востоке традиционно обеспечивалось единство всякой корпорации, и он выражался в присущем отдельным школам, как и всякому роду и даже любому сообществу, специфическом «стиле», «атмосфере», или, как говорили в Китае, качестве энергии (ци), «едином сердце» коллектива. В уникальных характеристиках этой «родовой» энергии, или, по-другому, дэ дома-школы, и скрывались истинные причины успехов или неудач тех или иных человеческих общностей.
Китайские принципы управления. Вводный очерк
Отмеченные выше сдвиги в общественном умонастроении на Западе предопределили заметный рост интереса теоретиков менеджмента к принципам и методам управления в традиционных восточных обществах, ведь и то и другое основывается именно на воспитании жизненной добродетели и личного характера, то есть определенного этоса, который составляет фокус общественного бытия в досовременную эпоху. Как нетрудно догадаться, современные авторы, особенно восточные, любят противопоставлять восточную традицию управления концепциям классического менеджмента, и это обстоятельство сближает их позицию с постмодернистским миропониманием. Вот характерный в своем роде образчик оппозиции западного и восточного подходов к управлению, принадлежащий гонконгским социологам: западной культуре приписывается индивидуалистическая ориентация, акцент на равенстве индивидов и внутреннем контроле, личной самостоятельности и действии, тогда как восточные общества отличаются, соответственно, коллективистской ориентацией, подчинением авторитету и внешним контролем, акцентом на пассивности, зависимости и консерватизме. Что касается принципов организации, то в основе западных организаций лежит равенство индивидов и примат индивидуальных способностей, в восточных же организациях на первом месте стоит дух согласия и общий успех[64]. Подобная оценка всецело господствует в работах современных китайских авторов, которые с завидным единодушием настаивают на том, что в противоположность Западу, где акцент ставится на рациональной методике и технических средствах управления, китайский тип корпоративности отличается «гуманитарным» или «фундаментально-антропологическим» характером (последний термин – несколько неуклюжий дословный перевод с китайского языка, где существует выражение «организация, где человек является основой»). В результате, по замечанию специалиста, «в отличие от людей Запада китайцы не различают отношения, касающиеся работы, семьи и общества»[65].
Последствия указанных различий на уровне поведения и ценностной ориентации отдельных индивидов не всегда очевидны, но, судя по некоторым косвенным наблюдениям, в действительности весьма существенны. Вот пример из жизни современной Англии. Проведенный в 1989 году опрос почти 400 менеджеров преуспевающих компаний в области электроники выявил, что большинство опрошенных «отнюдь не привержены своей работе и не желают отдавать приоритет своей работе, карьере и, наконец, организации, которой они служат... Они стремятся сохранить равновесие между работой и частной жизнью и не хотят делать карьеру, если для этого нужно жертвовать личными или семейными интересами»[66]. Как показало то же обследование, большинство английских менеджеров полагают, что «подвергаются эксплуатации» со стороны хозяев компании и вообще недовольны своей работой.
Обратившись к жизненной философии китайских предпринимателей, мы обнаруживаем прямо противоположное отношение и к своей работе, и к своей жизни. Деловые люди на Дальнем Востоке вообще не отделяют свою работу от личной жизни, а к своей деятельности относятся с безоблачным энтузиазмом – позиция, вполне согласующаяся с отмеченной выше сращенностью экономики и жизни в дальневосточной цивилизации. Японцы, по крайней мере, любят говорить, что для них работа – что опиум для опиумокурильщика.
Вот совершенно типичное в своем роде свидетельство: кредо удачливого гонконгского предпринимателя Чжун Боюна, совладельца компании по доставке экспресс-почты DHL По мнению Чжун Боюна, «на жизнь можно смотреть как на бизнес: в ней есть клиенты, продукция и услуги; в ней имеются стандарты качества продукции, и в ней есть прибыль и убытки... Каждый из нас является действующим агентом, который имеет общественные контракты для того, чтобы предоставлять услуги всем людям, с которыми мы входим в отношения, и самим пользоваться их услугами. С момента рождения, когда нам оказывают услуги наши матери, врачи и медицинские сестры, и до смерти, когда нам предоставляют услуги могильщики, мы постоянно вовлечены в сеть транзакционных услуг со всеми люди, с которыми входим в контакт. Поэтому мы должны оценивать успехи или неудачи нашей жизни по тому, насколько успешно мы оказывали услуги нашим жизненным партнерам...
Многие важные стороны деловой деятельности имеют параллели в личной жизни. Клиенты по бизнесу соответствуют нашей семье, друзьям и сподвижникам. Корпоративная культура в бизнесе равнозначна нашей личной философии. Производство и услуги равнозначны нашей профессиональной и личной службе. Стратегические планы компании равнозначны нашим личным планам»[67].
Разумеется, недовольство своей работой, не говоря уже о приступах меланхолии, при таком жизненном подходе исключаются. Чжун Боюн убежден: чем выше качество услуг, предоставляемых человеком другим, тем более он счастлив как личность. Чтобы добиться успеха, полагает Чжун, предприниматель должен знать свои достоинства и недостатки, уметь избавляться от негативных эмоций и иметь четкий жизненный план. «На моем пути к познанию себя, – говорит Чжан, – я понял, что, если я немного постараюсь в деле оказания услуг... я обрету больше эмоциональной свободы для того, чтобы иметь возможность жить более красивой, творческой и осмысленной жизнью»[68].
Еще одно свидетельство примечательно тем, что оно принадлежит женщине – уроженке Гонконга, переехавшей в США, Джоанне Лау, владелице крупной фирмы, поставляющей электронное оборудование. Лау формулирует свое кредо в следующих словах: «Когда появляется благоприятный момент, используй его, берись за самое трудное задание и цени его как свое величайшее сокровище». Это означает, что предприниматель, по мнению Лау, должен ясно знать свои цели и возможности и быть творцом своей судьбы. Он должен «быть смелым и уверенным в своих знаниях. Не бояться того, что жизнь заведет его на неизведанную территорию, ибо никакое решение не бывает плохим, и каждый человек ответствен за свою повестку дня». Кроме того, деловой человек должен уметь «учиться всю жизнь и вкладывать всё в свое развитие и самообновление, обеспечивать себе карьеру благодаря расширению своего знания»[69].
Разумеется, все без исключения предприниматели Дальнего Востока подчеркивают важность корпоративной культуры и создания в коллективе атмосферы сердечной солидарности и взаимопомощи. Другая уроженка Гонконга, имеющая крупный бизнес в Китае, говорит:
«Корпоративная культура – важный фактор поощрения работников и увеличения производительности. Нужно, чтобы работники чувствовали, будто они трудятся заодно с компанией. Я прошу служащих относиться к своему начальнику и сослуживцам как к внутренним клиентам... Я поощряю служащих не просто приходить ко мне с вопросами, но и предлагать свои решения. Если их предложения разумны, я даю им ход. Благодаря этому моему служащие чувствуют себя моими партнерами»[70].
Это высказывание примечательно запечатленным в нем отходом от авторитарных традиций китайского управления. Но и оно не порывает с тем, что служит незыблемой общей почвой бизнеса и личной жизни в китайском обществе, а именно: жаждой учения и наращивания знания (в сущности, как мы увидим ниже, – самопознания), интересом к личному совершенствованию, причем совершенствованию именно нравственного порядка, воплощенному в качестве «услуг», оказываемых другим людям, с которыми данный человек имеет определенные отношения. Уважение общества оказывается здесь следствием и, соответственно, мерой духовного совершенства личности. Понятно в таком случае, почему даже практика медитации рассматривается в Китае как прямое продолжение деловой деятельности: ведь мерой «духовного просветления» в китайской традиции оказывается степень сообщительности личности с другими людьми, ее причастности к «всеобщему сердцу» человечества. Просветленный человек, по китайским понятиям, обязательно нравственен и пользуется в обществе авторитетом. А противопоставлять работу и жизнь для китайца есть симптом невежества и безнравственности.
По мнению тайваньского автора Цзэн Шицяна, расхожее противопоставление западного «индивидуализма» и китайского «коллективизма» во многом ошибочно. Поведение китайца регулируется – что хорошо видно и из процитированных выше суждений китайских предпринимателей – принципом «взаимности» отношений, то есть взаимопомощи, взаимного обмена услугами, причем не предполагающими равенства сторон[71]. Другой важный принцип и управления, и корпоративной стратегии в китайском социуме, с которым мы будем постоянно сталкиваться, состоит в ориентации не на отвлеченные идеи и принципы, а на события как таковые, конкретные обстоятельства практики, спонтанные жизненные «перемены». Искусство управления и стратегии по-китайски есть прежде всего умение «соответствовать переменам»; быть разумным в китайском понимании – значит сообразовываться с «текущим моментом». Отсюда традиционно свойственное китайцам недоверие и даже пренебрежение к неизменным законам и правилам. Каждый, кто бывал в Китае, знает, что начальники всех уровней в этой стране сплошь и рядом толкуют законы так, как им удобно, а простой китаец обычно вспоминают о законах тогда, когда не имеет других аргументов в споре. Из этого не следует, что в Китае царит полное беззаконие. Та же рассудительность и здравый смысл китайцев побуждают их не столько демонстративно нарушать или отрицать законы, сколько именно трактовать их в свою пользу. Речь идет о том, чтобы изменять в соответствии с обстоятельствами неизменную основу китайской жизни, что по-китайски называлось «изменением постоянного». Необыкновенная жизненность китайского уклада объясняется, собственно, наличием в нем тонкого механизма согласования формальных и неформальных законов человеческого общежития.
Теперь мы можем лучше понять подоплеку современных китайских теорий менеджмента, которым свойственны глобальные противопоставления западной и восточной концепции управлении. Довольно подробно такого рода оппозицию, а также само понятие менеджмента в китайской традиции разработал известный тайване-американский ученый Чэн Чжунъин. Последний выделяет пять черт «рационалистического менеджмента», который свойствен Западу:
1. Абстрактность, то есть стремление наложить отвлеченные идеи и понятия на реальность.
2. Объективизм, то есть восприятие вещей как объектов, независимых от воспринимающего их разума.
3. Механицизм: взгляд на мир как на систему объектов, управляемую неизменными законами.
4. Дуализм: противопоставление первичных и вторичных свойств, разума и интуиции, объективного и субъективного.
5. Абсолютизм: дедуктивный, линейный и однонаправленный характер управления.
Дальневосточной же цивилизации, по мнению Чэн Чжунъина, свойственна традиция «гуманистического менеджмента». Она тоже включает в себя пять черт, а именно:
1. Конкретность: объект менеджмента – конкретная целостная личность.
2. Субъективизм: способность выявить и сделать своей основой нерациональные функции человека.
3. Органицизм: принятие за точку отсчета живого организма в сложной целостности его существования.
4. Холизм, или недуальность: ориентация на цельность биологического организма и гармонизацию человеческих функций вместо противопоставления человеческого разума природе.
5. Релятивизм, или неабсолютивизм: ориентация на взаимодействие людей, уважение к воле и мнению других[72].
Что же касается традиционных китайских представлений об управлении и корпоративной стратегии, то здесь Чэн Чжунъин выявляет иерархию четырех уровней менеджмента.
Низший уровень соотносится с понятием «рука» (к которому отсылает латинская этимология слов «менеджмент», а также «манипуляция», «маневр»; русским эквивалентом термина менеджмент с этой точки зрения следовало бы считать слово «руководство»). Рука есть первое орудие человека. Соответственно данный уровень соответствует в субъективном плане определяемым культурой способам коммуникации, а в объективном – собственно техническим средствам и организационным формам.
Второй уровень – уровень «интеллекта», представленный в техническом умении и правилах деятельности организации. Ум воплощает принцип изобретательности, он способен комбинировать вещи и открывать новые возможности в окружающей действительности. В китайском языке есть словосочетание «ум-обезьяна». Речь идет о таком уме, который в любой ситуации быстро просчитывает варианты и выбирает способ действия, который кажется ему наиболее эффективным. Подобный ум, как напоминает судьба героя классического китайского романа «Путешествие на Запад», волшебной обезьяны Сунь Укуна, способен привести к духовному просветлению.
Третий уровень – это уровень «сердца», которое в китайской традиции охватывает и разум, и чувство, соответствуя, так сказать, сердечному, непосредственно переживаемому знанию. В объективном мире такое «сердце» соответствует общим принципам деятельности корпорации.
Наконец, высший уровень управления, которому, строго говоря, нет аналогов в западных теориях менеджмента, воплощается в главной категории китайской традиции – понятии «пути» (дао), чему соответствует «мудрость» как единство практического и теоретического знания, жизни и сознания. Мудрость и есть, по сути, жизнь, проникнутая сознанием и сознательно прожитая. В объективном плане «путь» воплощает высшую системность мышления и действия, в которой снимается противостояние идеи и вещи, действия и мысли, цели и средства[73].
Структура Великого Пути раскрывается в космологической модели, содержащейся в древнейшем китайском каноне «Книга Перемен»: в начале всего лежит Беспредельное – первозданная недифференцированная цельность всего сущего. Из Беспредельного исходит Великий Предел всего сущего, где единое становится неотличимым от единичности отдельных моментов существования. Великий Предел порождает Два Начала мироздания, которые обычно соотносят с силами Инь (женское, темное, пассивное начало) и Ян (мужское, светлое, активное начало). Из Двух Начал мироздания исходят Четыре Образа, которые ассоциируются с четырьмя сторонами света, четырьмя временами года и проч. Четыре Образа, в свою очередь, рождают Восемь Триграмм – восемь базовых графических символов мира. Все возможные комбинации триграмм (64 гексаграммы) представляют все разнообразие явлений мира. Таким образом, Великий Путь есть процесс постоянного развертывания изначального единства сущего в бесконечное разнообразие бытия и его возвращения к себе через принцип Великого Предела. Его основные принципы сводятся к взаимодополнительности и гармонии всего сущего в рамках единого процесса размеренного развертывания-свертывания бытия.
Китайская картина мира строится по модели Лейбницевой монады или голограммы, где каждая частица мироздания включает в себя всю полноту бытийственных свойств по принципу «все во всем». Или, как сказано в древней даосской книге «Чжуан-цзы», «тьма вещей – раскинутая сеть, и в ней нигде не найти начала». Подобный тип системы хорошо известен в традиционных культурах. Его можно назвать символическим, и он имеет семиологический аспект, который представлен в ориентации на постижение неизъяснимой полноты смысла, хранимой языком.
«Книга Перемен» содержит основные положения традиционной китайской космологии, которая включает в себя учение о пяти первоэлементах мира, или, точнее, пяти фазах мирового круговорота. Таковыми в порядке «взаимного порождения» считаются Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода. Чэн Чжунъин находит для каждой из указанных фаз соответствия среди различных аспектов управленческой деятельности, получая в итоге всеобъемлющую концепцию управленческой деятельности. В его истолковании эти соответствия выглядят следующим образом:
Свойство Земли – синтезировать, сводить воедино, и в менеджменте Земля соответствует планированию и выработке стратегии.
Свойство Металла – твердость, проницающая сила, и в менеджменте Металл соответствует контролю, принуждению.
Свойство Воды – изменчивость и свободное следование, так что в практике менеджмента Вода соответствует изменению курса, поискам новых возможностей.
Свойство Дерева – порождать и расти, и в общественной жизни оно соответствует производству и новаторству.
Свойство Огня – сплавлять вещи воедино, и в практике менеджмента он соответствует человеческому общению, согласию в коллективе[74].
Все пять перечисленных качеств – Срединность, Контроль, Изменчивость, Творчество и Координация – по-английски пишутся с буквы «С», отчего Чэн Чжунъин называют свою концепцию китайского менеджмента «теорией С». Чэн накладывает эту схему взаимодействия «пяти принципов» менеджмента на традиционную модель «взаимного порождения» пяти мировых стихий в их круговом движении: фаза Дерева, символизирующая творчество, переходит в фазу Огня (коммуникация, «человеческий фактор»), Огонь порождает Землю (единство, стратегия), Земля переходит в фазу Металла (контроль, руководство), Металл порождает Воду (адаптация к рынку), после чего цикл менеджмента возвращается к фазе Дерева[75].
Чэн Чжунъин даже прикладывает указанную схему к новейшей экономической истории Тайваня, описывая ее следующим образом: фаза Земли, или уравновешенности, соответствует земельной реформе как исходной точке модернизации тайваньской экономики, затем началась стадия Металла («сознательное и последовательное развитие стратегий»), перешедшая в фазу Воды (открытие Тайваня международной экономической системе), затем Тайвань вошел в фазу Дерева («мудрое использование человеческих ресурсов и согласование труда и менеджмента»), после чего наступила стадия Огня, соответствующая появлению высокопрофессиональных кадров и стремительному развитию информационных технологий.
Схема Чэн Чжунъина, по сути, импровизация, значение которой для теории менеджмента еще предстоит выяснить. Подчеркнем пока лишь, что Чэнь Чжунъин видит самобытность китайской концепции управления и ее самое большое достоинство в универсальной системности, связывающей воедино объективные и субъективные факторы управления. Осмысление природы этой системности требует нового взгляда на роль и значение культурного фактора в человеческой деятельности, ибо речь идет о системе, действующей в культурно специфической среде. Или, как сказано в той же «Книге Перемен», «без подходящего человека Путь не будет действовать на пустом месте». Китайские ученые, подобно Чэн Чжунъину, неизменно подчеркивают «гуманистический» характер управления в китайской цивилизации. Впрочем, в их работах встречаются и критические суждения о ценности традиционного наследия. Так, Фань Сигуй, автор сравнительного исследования западной и китайской теорий менеджмента, указывает три недостатка, свойственные китайской традиции управления:
1. Общий «гуманитарный» характер китайской трактовки политики и организации обусловил известную недооценку значения институциональных основ менеджмента. Между тем в Китае говорят: «Когда человек управляет человеком, будет смертельный гнев. Когда порядок управляет человеком, будет смертельная скука».
2. В китайской теории мал потенциал творческого развития, в ней отсутствуют инструменты, позволяющие гибко реагировать на изменяющиеся общественные и экономические условия хозяйственной деятельности.
3. Китайская традиция была прервана и теперь восстанавливается искусственным, в большей степени академическим путем[76].
На эти замечания легко, конечно, возразить, что всякая действительно живая традиция как раз и существует больше в потенции, реализуясь в соответствии с потребностями актуального существования. Кроме того, явно обозначившийся тупик западной теории менеджмента даже заставляет его теоретиков в поисках новых перспектив обратить взоры на Восток.
В порядке общего введения полезно кратко изложить принципы управления, содержащиеся в китайском военном каноне «Сунь-цзы» (V–VI вв. до н.э.). Положения «Сунь-цзы», относящиеся к руководству войском, с древности имели в Китае статус незыблемых норм управления и в наши дни широко используются в корпоративной стратегии восточных компаний. Уже в этой книге содержится ясное понимание трех важнейших аспектов управления, которые с присущим древнекитайским текстам лаконизмом определяются тремя понятиями.
Первое из них – это «число», то есть соблюдение принципа единоначалия и правильных количественных параметров соответствующих коллективов, благодаря чему «управлять большим войском становится так же легко, как управлять малым». Сюда же относится расчет средств, потребных для проведения той или иной (в каноне – военной) операции. Второй аспект – «люди», то есть правильное определение способностей и силы отдельных людей. Третий аспект – «ситуация», умение оценить обстановку и ее изменения в будущем, а главное – обеспечить более выгодные условия для себя. «Сначала обеспечь победу, а потом начинай войну», – гласит известный афоризм «Сунь-цзы».
Текст канона позволяет вывести в общей сложности 12 основных принципов мудрого управления. Здесь мы ограничимся их кратким изложением.
Первый принцип. Руководитель обязан прежде всего добиться согласия в подчиненном ему коллективе и безупречного доверия подчиненных к себе. Как сказано в китайских текстах, подчиненные должны иметь «одно сердце» и «одинаковые устремления с вышестоящими».
Второй принцип. Правильная организация, что включает в себя постоянный тренинг и разумный распорядок службы, который не должен быть слишком строгим или слишком мягким: первое делает подчиненных ненадежными, второе – распущенными; правильное соотношение компетентности и ответственности каждого служащего; правильное соотношение наград и наказаний: ни теми, ни другими нельзя злоупотреблять, ибо когда наказания слишком строги, подчиненные становятся инертными и озлобленными, а когда слишком много наград, подчиненные становятся нерадивыми.
Третий принцип. Обладать всей возможной информацией об окружающей обстановке, ибо только так можно оценить риски, определить свои возможности и выработать эффективный план действий.
Четвертый принцип. Соблюдать нормы поведения руководителя, который должен в равной мере избегать как отчужденности, так и фамильярности в отношениях с подчиненными, быть выдержанным и вместе с тем решительным, презреть корысть и не искать славы лично для себя. Согласно «Сунь-цзы», полководец должен обладать пятью качествами: знанием, доверием, добротой, мужеством и строгостью.
Пятый принцип. Правильно выбирать тактику и эффективно применять дипломатические приемы. Полководец должен уметь пользоваться интригами для того, чтобы обмануть или ослабить противника. Подчеркнуто мирная политика при необходимости может быть прикрытием военных приготовлений. Решающий удар должен, во всяком случае, готовиться втайне и застать противника врасплох.
Шестой принцип. Нужно уметь «следовать за противником», вынуждая его раскрываться и брать на себя инициативу в невыгодном для него положении. Такого рода бдительная пассивность позволяет экономить силы и резко повышает шансы на победу.
Седьмой принцип. Своевременность всех действий, которая часто означает способность опередить противника в ключевых моментах кампании: первым прийти на место будущей битвы и занять наиболее выгодную позицию, навязать противнику свои правила игры и вообще владеть инициативой: «вести противника, а не быть ведомым им».
Восьмой принцип. Правильное применение своих сил, что включает в себя несколько правил: умение в надлежащий момент действовать быстро и слаженно, опережая противника; умение в нужный момент быть пассивным, заставляя противника раскрывать свои планы и тратить силы; умение правильно действовать в зависимости от соотношения сил: имея превосходство в силе, можно наносить противнику лобовой удар, при равенстве сил следует разделить силы противника, а уступая противнику в силе, следует уклоняться от непосредственного столкновения с вражеским войском и всеми способами изматывать его. «Сунь-цзы» вообще требует воевать «не числом, а умением».
Девятый принцип. Действие в зависимости от обстоятельств, причем регулярные маневры должны сочетаться с нестандартными ходами таким образом, что противник становится неспособен предугадать мои действия. Но именно вследствие того, что действия искусного полководца полностью соответствуют обстановке, маневры его войска кажутся совершенно естественными, подобно непроизвольному течению вод.
Десятый принцип. Умение определять правильный момент для действия и оценивать пользу и вред каждого маневра. Старинный афоризм китайской военной мудрости гласит: «Действуй, когда полезно, и бездействуй, когда пользы нет». Следовательно, наносить удар нужно в наиболее уязвимое место и непременно наверняка.
Одиннадцатый принцип. Правильное ведение противоборства, что предполагает всесторонний учет обстоятельств противостояния в настоящий момент; умение быть твердым со слабым противником и уклончивым – с сильным; способность знать, когда нужно дать бой, а когда уйти от столкновения, когда нападать и когда обороняться; умение определять слабое место противника, а одержав победу, не ставить его в безвыходное положение, вынуждая на отчаянные действия.
Двенадцатый принцип. Неожиданность действия, когда тонкое чувствование ситуации (основанное на доскональном ее знании) позволяет действовать, используя как будто случайно представившиеся возможности: «нападать без подготовки, отходить без расчета». Тот же принцип неожиданности действия обусловлен умелым сочетанием стандартных и нестандартных маневров. Общее правило здесь гласит: «К войне готовятся по правилам, а одерживают в ней победу благодаря необычным действиям». И вообще, действия искусного полководца должны быть «извилисты, как течение Желтой Реки».
С вышеприведенным перечнем можно сопоставить список принципов китайской стратегии, составленный канадской китаянкой Розали Дун. Он тоже включает в себя 12 пунктов, а именно:
1. Важность стратегического поведения. 2. Превращение силы соперника в его слабость. 3. Обман с целью завоевания стратегического преимущества. 4. Понимание противоречий и использование их для получения преимущества. 5. Компромисс. 6. Борьба за полную победу. 7. Извлечение выгоды из неблагоприятных для соперника обстоятельств. 8. Гибкость. 9. Важность сбора информации. 10. Понимание взаимной зависимости различных ситуаций. 11. Терпение. 12. Стремление избежать сильных переживаний[77].
Приведенный перечень правил эффективного руководства остается пока что формальным и в известной степени даже загадочным. Что дает возможность идеальному полководцу китайского военного канона обладать как будто бы сверхъестественной интуицией правильного действия в непредсказуемом разнообразии вариантов? Ответ на этот вопрос содержится в китайском опыте духовного самопознания.
Китайская «наука сердца»
В китайской традиции политика сводилась к управлению, а управление трактовалось через близкое этому слову по звучанию и, главное, начертанию понятие «исправления», «правильного действия» (что, кстати, присуще и русскому языку). Таким образом, в Китае (и в других странах Дальнего Востока) первостепенное значение придается той простой, отлично знакомой каждому из нас из повседневной жизни, но слишком часто упускаемой из виду кабинетными учеными истине, что люди подчиняются не просто приказам и законам, но прежде всего моральному авторитету власти и что человеческая коммуникация осуществляется на фоне безмолвно-доверительного общения и благодаря ему. Эта истина с предельной ясностью и лаконизмом выражена в классическом изречении Конфуция:
«Если сам прям, то слушаться будут и без приказаний. А если сам не прям, то слушаться не будут, даже если прикажешь».
Немецкий социолог Н. Луман называет это внутреннее, даже неосознаваемое условие всякого сотрудничества и общественного единения «мета-коммуникацией»[78]. Я предпочитаю говорить о «чистой сообщительности», предстающей пределом всякого сообщения.
Указанный взгляд на управление как высшую и вместе с тем основополагающую форму человеческой коммуникации предопределил исключительное внимание китайцев к фактору «сердца», «сердечного общения» в политике. С древности искусство руководства людьми определялось в Китае как «искусство сердца» (синь шу). Знаменитый ученый и стратег древности Чжугэ Лян (III век) назвал свой трактат о полководческом искусстве «Книга сердца», и это название тоже стало традиционным для подобных сочинений. Высшей целью учения в Китае считалось «исчерпание», «доскональное постижение» сердца. Но такова же была и цель управления. Еще в конце XVIII века чиновник Ван Хуэйцзу начинает свои наставления коллегам-чиновникам Цинской империи с требования первым делом «досконально вникать в человеческое сердце»:
«Ученый человек не в состоянии лично заниматься всеми делами управления и должен поручать заниматься управлением помощникам. .. А в отношениях с помощниками основа всему – доскональное постижение сердца. То, что я называю здесь “доскональным постижением сердца”, не есть знание его замыслов, с тем чтобы угождать ему.... Нужно, чтобы помощник докладывал начальнику обо всем, что знает, и делал это исчерпывающим образом. Вот что такое истинное “постижение сердца”»[79].
Наконец, главной целью управления считалось «единение сердец» или наличие «одного сердца» (и синь) среди подчиненных или подданных. Естественно, здравомыслящие китайские мудрецы еще в древности не преминули обосновать эту цель мыслью о том, что «сердца» людей по своей природе одинаковы, и людям свойственно иметь одинаковые желания, симпатии и антипатии. В средневековом Китае появилось понятие «наука сердца» (синь сюэ), согласно которой сердце воплощает высшую правду человеческой жизни: в своем естественном, не затемненным человеческим умствованием состоянии оно дает полное знание о природе всех вещей, так что мудрецы всех времен имели и будут иметь «одно сердце», смысл же учения состоит не в запоминании словесных формул и правил, а в непосредственном постижении «правды сердца». С этой точки зрения «сердце» выступает средоточием духовно-телесной жизни человека, более того – оно является самим условием гармонии тела и духа и в этом смысле – фокусом, или «господином», личностного существования. Оно соответствует, так сказать, «сердечному сознанию», «сердечному пониманию», где мысль соединена с чувством и пребывает в согласии с ним. Что же касается теории организации, то здесь китайское понятие сердца во многом соответствует неформальной системе, обеспечивающей самую возможность доверия между членами организации и их совместного действия.
Вполне естественно, что «правда сердца» с древности мыслилась как условие и основа равенства всех людей. Со времен раннего средневековья эту идею особенно настойчиво проповедовал буддизм с его формулой: «вот это сердце и есть Будда». В эпоху позднего средневековья «наука сердца» нередко привлекалась для оправдания равенства общественных сословий в их исходном состоянии – так сказать, по полноте природы. Влиятельный конфуцианский мыслитель начала XVI века Ван Янмин утверждал, например, что «четыре класса народа» (так в старом Китае называли чиновников, земледельцев, ремесленников и купцов) «имеют разные занятия, но единый путь». Сущностью же этого пути является, по Ван Ян-мину, не что иное, как «исчерпание сердца»:
«Служилые люди и земледельцы досконально претворяют правду сердца в своих усилиях по воспитанию и совершенствованию себя, а полезные орудия и товары становятся их достоянием. Ремесленники и купцы досконально претворяют правду сердца, занимаясь полезными орудиями и товарами, и усилия по воспитанию и совершенствованию себя становятся их достоянием»[80].
Последнее суждение особенно примечательно, поскольку в нем занятие торговлей фактически ставится на одну доску с духовным совершенствованием. Со времен Ван Янмина подобный взгляд на коммерцию получил в китайском обществе широкое распространение. Современник Ван Янмина, богатый купец из Шаньси Ван Сянь, в своих наставлениях детям высказывает ту же мысль уже с точки зрения профессионального торговца:
«У купца и ученого разные занятия, но одно и то же сердце. Успешный купец производит богатства и ведет добродетельную жизнь... Один путь состоит в том, чтобы добиваться выгоды посредством добродетельного поведения. Другой путь состоит в том, чтобы добиваться славы и высокого положения посредством взращивания добродетели. Каков бы ни был избранный путь, дети такого человека должны восхищаться им и чтить его»[81].
В позднесредневековом Китае занятие торговлей уже не только не считалось унизительным, но на практике служило славе купеческой семьи. Среди образованной элиты появилось даже выражение «управлять жизнью» (чжи шэн), выражавшее идею в ее, так сказать, максимально широком смысле – как правильное и разумное распоряжение своей жизнью, забота о своем благосостоянии, в том числе, разумеется, и посредством торговли. Достижение этой цели предполагало бережливость и личную скромность, способность справедливо распределять богатства, отказ добиваться выгоды любой ценой. Корыстолюбие тот же Ван Янмин считал «утратой сердца». В середине XVIII века ученый Цюань Цзуван писал:
«Учение есть разумное распоряжение жизнью. Такое отношение к жизни означает не погоню за выгодой, а разумное суждение о должном и недолжном»[82].
Впрочем, к тому времени движение китайской мысли привело многих китайских ученых к оправданию человеческой индивидуальности и субъективных желаний.
Чисто внешне принцип «управления условиями жизни» напоминает понятие «биополитики», введенное М. Фуко, и сходство здесь, пожалуй, не только формальное. Конфуцианцы позднего средневековья в самом деле перенесли самоконтроль в область внутреннего опыта и стремились интериоризировать содержание общественной практики. Акцент на самоконтроле и сдержанности сближает конфуцианство с протестантской этикой, которую после М. Вебера принято считать одним из источников капитализма. Со времен Ван Янмина широкую популярность приобрел обычай тщательно отслеживать свое душевное состояние, отмечая в специальном дневнике моменты утраты контроля над собой. Что касается торговцев, то умение сдерживать свою жадность стало едва ли не главным звеном в цепи предписываемой конфуцианской моралью борьбы с проявлениями личной «корысти». Моралисты старого Китая не уставали повторять, что алчность – главный враг торгового человека, и тот, кто поддастся ей, непременно разорится. Отметим, что спонтанная и иррациональная природа страстей и желаний стала одной из главных тем даже художественной литературы в Китае того времени. Этой теме придавали, конечно, нравоучительное значение, хотя порой и несколько экстравагантным способом: сильная страсть могла послужить духовному прозрению[83].
Итак, сердце – принцип и среда человеческого сочувствия, или, точнее, мгновенной и непосредственной, предваряющей интеллектуальное знание сообщительности между людьми. Благодаря ему каждый существует для себя ровно в той мере, в какой существует для других. Сердце, собственно, и есть та «междучеловечность», Zwischenmenschligkeit, которая, по М. Буберу, составляет существо человечности в человеке. Точно так же относилась к человеку китайская – прежде всего конфуцианская – традиция, в которой главная добродетель жэнь графически являла сочетание знаков «человек» и «два», то есть обозначала некое безусловное отношение между людьми. В западной литературе понятие жэнь чаще всего трактуется как «гуманность» или «человеколюбие», но правильнее было бы говорить просто о «человечности». Как писал в XIII веке ученый Ян Цзянь, большой поклонник «науки сердца»:
«Праведное сердце воплощает великое единство, а люди сами отделяют себя от него. Сердце человека само по себе благо, само по себе все понимает, само по себе одухотворено. Сердце человека и есть праведный путь. Как можно доказать, что это так? Все люди наделены чувствами сострадания, стыда, уважения и способностью различать истину и ложь. Сострадание – это человечность, стыд – это справедливость, уважение – это ритуал, а различение истины и лжи – это знание. Всем этим наделены даже самые темные и неученые люди. Вот почему все люди едины с мудрецами древности, а также с Небом и Землей»[84].
Поскольку природа сердца неизменна и у всех людей одинакова, прочной основой правления, как считает Ян Цзянь, может быть только «служение всем сердцам» или «общему сердцу» Поднебесного мира.
Надо учитывать, что в китайской традиции сердце неразрывно связано с телесным существованием и обозначает некий предел, высшую форму внутреннего единства последнего. Так, согласно древнему конфуцианскому мыслителю Мэн-цзы, смыслом человеческой жизни или, можно сказать, жизни, достойной человека, должно быть развитие личных нравственных способностей (Мэн-цзы называет индивидуальность «малым телом») до такого состояния, когда сознание становится способным как бы вмещать в себя весь мир, сочувствовать со всем сущим, что в оригинале именуется «большим телом». Позднейшие комментаторы прямо отождествили «большое тело» с понятием сердца. Природа сердца, в китайском понимании, есть опыт «единотелесности мира» – то, что связывает всех людей даже помимо их разума. И сознание в человеческом организме китайцы, в полном согласии с логикой своих рассуждений, соотносили не с мозгом, а с токами крови.
Итак, «сердечный разум» как принцип всеобщей гармонии есть нечто постоянно меняющееся, уклоняющееся от себя: сознание ускользает от себя и никогда не присутствует в объективированном, предметном мире. Однако же именно в этом акте самоуклонения, самопотери, даже саморассеивания сознание обретает себя. Природа сознания, в китайском представлении, есть превращение, метаморфоза, удостоверяющая нечто вечносущее, в конечном счете – сама событийность бытия и, следовательно, вечноотсутствующая «таковость» существования, абсолютное само-подобие, отношение не-себя к не-себе или, говоря словами чань-буддийской сентенции, «выливание чистой воды в чистую воду». Действие же сознания есть не что иное, как самораскрытие абсолютной открытости, и эта открытость есть не просто сущее (неизбежно ограниченное), но извечно происходящее, даже приходящее и, следовательно, возвращающееся к себе. Это встреча самоопустошающейся пустоты с несотворенным зиянием еще только рождающегося мира. Как писал упоминавшийся выше Ян Цзянь, «сердце человека не имеет формы и сущности; оно так велико, что не имеет границ, и невозможно исчерпать его превращения».
Если реальность есть со-бытийность и, следовательно, «Одно (то есть сплошное, непрерывное, вездесущее) Превращение», то она не может не быть именно Путем, смычкой, по-средованием, промежутком между различными моментами существования; Великий Путь, согласно традиционной формуле, «пребывает между наличным и отсутствующим»; в нем нет ничего «данного», застывшего, предметного, а есть только про-ис-течение жизни, подобное воде, льющейся свободно и неудержимо из перевернутого сосуда, или, если взять другой классический образ, «вечно вьющейся нити». Это означает также, что (со)бытие Пути обладает как бы двойным дном, некоей сокровенной и доступной лишь символическому выражению глубиной – глубиной того, что скрывается в сокрытии, теряется в утрате и, стало быть, вовек не может быть сокрыто и утеряно. «Внутри сердца есть еще сердце, и оно существует прежде слов и образов», – говорится в древнем трактате «Гуань-цзы». А древний даосский философ Чжуан-цзы уподоблял высшую мудрость способности «спрятать мир в мире».
Действенная, операциональная природа реальности не позволяет разделить мир на субъект и объект и требует искать единство сущего в «полезности» (юн), каковая, впрочем, имеет не предметную, а символическую природу: это не что иное, как форма явления бытия и, следовательно, абсолютное событие, функциональность всех функций, обеспечивающая преемственность именно несопоставимого: «полезность все проницает», – говорит Чжуан-цзы. «Знание сердца» есть не что иное, как сообщительность, встреча, где нет субъекта и объекта, жеста и реакции на него, а есть спонтанная совместность, как говорили в Китае, «воздействия-соответствия» (гань-ин), предшествующая индивидуальному сознанию. Иными словами, сначала есть отношение отец-сын, мать-дитя, учитель-ученик, а потом есть индивид. Поскольку мудрый, проникшийся безграничной полезностью, не отделяет себя от мира, он ничего не может «знать», но его темное, внутреннее прозрение само-отсутствия «пронизывает» все планы бытия; в нем он «сердечно» со-общителен с миром. Знание мудрого не инструментально и вообще не предметно. Оно укоренено в самом себе и есть поистине само-сознание.
Разумеется, в конфуцианском контексте гармонизирующее взаимодействие, направляемое и регулируемое «сердечным сознанием», с неизбежностью происходит в рамках поведения и мышления, отвечающих нормам ритуала, так что и сам ритуал в Китае называли «телом сердца». Ритуальное действие воплощает силу трансформации вещей, но трансформации символической – как проникновение чистой воды в чистую воду. По этой же причине ритуал устанавливает «таковость» всего сущего и внутреннюю нормативность всякого действия. В этом смысле ритуал есть воплощение внутренней связи вещей, и он всегда истинен, тогда как его словесное объяснение – это всегда миф. Миф устанавливает подобия. В сердце ритуала, говоря словами Э. Левинаса, сокрыто «движение тождественного к Другому», такая «связь с Другим, при которой он достигнут, но не выглядит затронутым». Левинас называет подобное отношение «литургической смыслонаправленностью», отмечая, что она воплощает «устремление в бесконечную будущность»[85].
Теперь не покажется странным тот факт, что «сердце» как орган сочувственного знания способно «вмещать в себя» все сущее, и в отличие от человеческой субъективности не поддается определению, «пребывает за пределами того, что присутствует». Это означает, что «сердце» наделено способностью знать не просто подобное, но нечто «совсем другое». Китайские мыслители неизменно проводят резкую грань между «сердцем» как таковым и психическим содержанием сознания – субъективными эмоциями, намерениями, идеями, мыслями и проч. Китайская идея сознания неизмеримо шире сферы индивидуального самосознания и, поскольку она укореняет сознание в опыте телесного присутствия, всегда уже заданном мысли, принадлежит скорее спонтанности воображения, «божественного желания», темной интуиции всеединства бытия.
Итак, жизнь сознания рассматривается в китайской традиции в двух измерениях, или уровнях: в своем «истоке», предваряющем все сущее, «сердце» трактуется как «господин явлений», который пребывает в покое (вечно недостижимом, предполагающем, как и понятие гармонии, бесконечную внутреннюю глубину); природа «сердца», говорили в Китае, состоит в том, чтобы быть «убранным вовнутрь», пребывать в сокровенности. С древности эту бездну духовного опыта китайские учителя отождествляли с «сокровенно-мельчайшим» (вэй), «утонченно-сокровенным» (мяо) или просто «семенами» (цзин) вещей. Речь идет не о сущности или субстанции, а именно об «отношении», чистой «сообщительности», «совместности» сущего, которое, как утверждали уже даосские патриархи, способно лишь «внушать доверие».
Поскольку же реальность «сердца» есть не что иное, как чистое различение, внутренний предел вещей, «сердцу» свойственно пребывать в постоянном превращении, быть двигателем жизненных метаморфоз. В китайской литературе часто упоминается понятие «сердечный импульс» (синь цзи), который порождает все душевные движения и наклонности – изначально смутные, но все более проясняемые и проявляющиеся благодаря работе рефлексии. Эти устремления обозначались термином и, который указывал, собственно, на субъективно воспринимаемый динамизм жизненного процесса. Вот что говорится об этом в одном из трактатов, относящихся к духовным основаниям боевых искусств в Китае: