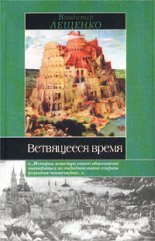Старые колодцы Черных Борис

Очерки
Иная жизнь
Далеко-далеко на востоке, в маленьком городе жил некогда Илья Павлович Митрохин, был он человек ординарный и тихий, в ординарности своей и канул бы в Лету, но случилось нечто, это нечто преобразило его быт, быт стал бытием.
В бытийном-то качестве Илья Павлович и заинтересовал меня, и не только меня, но и местечковых сожителей. А одно весьма патриотическое ведомство, вне забот коего устои народной жизни рухнут, посвятило Илье Павловичу специальное расследование, неприметное, – под стать предмету расследования. И все ближе к дому Ильи Павловича подступало дальнее погромыхивание.
Герой мой не придавал этому значения, потому что эпоха ввела посулы, схожие с нынешними. О правах человека напрямую не говорили, но косвенно как бы напоминали: живите спокойно, пришло желанное времечко. Но скоро погромыхивание обступило усадьбу, и Илья Павлович искренне подивился: о нем ли судачат и заботятся силы, судя по всему, доброжелательно настроенные? И если – о нем, то нельзя ли призрачный этот капитал пустить в оборот не для наживы, а на пользу дела?
А слава, перешагнув заплот огорода, пошла в раскат и в разлив по городу, так что Илья Павлович захотел вновь оказаться в безвестности и забвении, хотя, не новичок в жизни, он должен был давно смириться с превратностями судьбы, да и классика лучшие страницы посвятила непредсказуемости российских судеб. «Так, впрочем, чаще всего и бывает в нашей (видите, в „нашей“! – Б.Ч.) жизни. Целых лет двадцать человек занимается каким-нибудь делом, например читает римское право, а на двадцать первом – вдруг оказывается, что римское право ни при чем, что он даже не понимает его и не любит» а на самом деле тонкий садовод и горит любовью к цветам», – извольте, Михаил Булгаков, в романе «Белая гвардия».
Илье Павловичу Митрохину в конце концов приписали именно белый цвет, в то время как он был сиреневым с макушки до пят.
Искушенному читателю покажется – слишком поздно я раскопал эту историю. Скажу: вовсе не поздно, почти четверть века тому назад раскопал. А что выношу ее на свет именно сейчас, тому есть причины. Притом, кажется мне, в нынешних страстях обществу нужна пауза, передышка. Опамятование, если угодно. Авось цветочный рассказ мой хотя бы на час приглушит неумеренные стенания сограждан.
Но вернемся в ту давность, когда я работал в молодежной газете Приморья. Экзотическая Миллионка, теплые огни Золотого Рога, сухое вино, красивые женщины, нагишом купающиеся в ночных заливах, мало ли услад в юные годы. Но октябрь 1964 года пооборвал зеленые лепестки непрочной хрущевской оттепели.
Очерк об Илье Павловиче цензура сняла на третьем витке. То есть два отрывка явились свету, а потом Чернышев, первый секретарь крайкома, вызвал на ковер редактора и грозно молвил:
– Беляков начали славить?!
– Илья Павлович не беляк, – кротко отвечал редактор.
– Нам лучше известно, кто он! – И очерк «Гладиолусы» утонул в редакционном архиве.
Шли годы. Время от времени я просматривал старые записи в блокнотах, но всякий раз оказывалось, что не пробил час.
Весной этого года я вернулся в Приморье, чтобы восстановить в памяти забытую историю.
Отец Ильи – Павел Андреевич Митрохин служил объездчиком Иманского лесничества и ютился в небольшом домике под Иманом. Надворные постройки просты: баня, сенник, сарай для коровы, конюшня. Сыновья лесника, старший Илья и младший Ефрем, рано начали трудиться, сначала на домашнем подворье, а после по найму, у зажиточных.
В разгар национальной усобицы атаман Калмыков мобилизовал уссурийских казаков на трудгужповинность. Прихватив фураж, в таратайке, юный Илья на пятнадцатый день дунул дремучими лесами домой.
В 22-м Иманский ревком, зная, что на хате у Митрохиных прятались от калмыковцев окрестные жители, рекомендовал Илью, которому шел двадцать второй годок, стать управляющим таможней.
Когда раскаты Гражданской окончательно затихли, Илья Митрохин, сметливый от природы, стал счетоводом (бухгалтером – не хватило грамоты). В этом качестве он пробыл долго. Добросовестность и деловитость Ильи Павловича отметили сослуживцы и начальники, приняли его в партию, он посолиднел, женился, перебрался в город попрестижней – Уссурийск, выстроил дом на улице Пинегина. По заданию горкома выступал не раз с политкомментариями на текущие темы. Избрали Илью Павловича и в партбюро, здесь он тоже оставался деловитым и пунктуальным.
Но волны невиданной волевой энергии шли из центра России на Дальний Восток, и самая страшная волна докатилась.
Был взят опричниками командарм Василий Блюхер, затем в череде арестов взяли Ивана Петрова. Если Блюхера счетовод Митрохин знал по легендам и песням, то Петрова встречал ранее самолично, беседовал с ним, чаи пивали в молодости. У Ивана Григорьевича была незаемная слава: комиссар партизанского соединения, он отличился беспримерной храбростью при штурме Волочаевки (помните: «штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни»?).
В Уссурийск та страшная волна вошла вечером. Стояла оттепель, капало с карнизов. Сослуживцев Ильи Павловича, будто на военные сборы, собрали под ночь. Разумеется, позвали его самого. Оказалось, не сборы, а собрание, чтобы демократически осудить на распыл маршала Блюхера и комиссара Петрова. Представитель горкома с трибуны объявил маршала и комиссара врагами народа. К дикой невероятности добавил другую: «Пособники японского империализма», – наивный Илья Павлович не догадался, что патриотическим ведомствам спущена количественная разнарядка по японским агентам, и счет кровавый требовалось срочно открыть.
Собрание пошамкало губами и проштемпелевало: «Быть по сему. Враги и шпионы». Затем в городе согнали еще одно собрание: тут ветераны Гражданской, потеряв остатки достоинства, соглашались с нелепым обвинением в адрес героев.
На первом собрании Илья Павлович чувствовал себя потерянным, дома, вернувшись, горестно размышлял о происходящем, а на втором собрании неожиданно (для себя неожиданно) подал голос.
– Я не верю в то, что Иван Григорьевич Петров мог стать пособником японских буржуев. – Всего-то и сказал.
Слушая совершенно нормальную речь Ильи Павловича, собрание ветеранов впало в абсурдное настроение, а К-й Михаил Дмитриевич, приятель старинный, крикнул, как бы спасая Митрохина:
– Ты не в своем уме!
Но опричники считали, напротив – в своем. На Илью Павловича организовали донос, переправили в горком, и карусель закрутилась.
Отныне началась иная жизнь Митрохина.
Слепому понятно, Илью Павловича должны были взять. Если маршалов и комиссаров берут, то кто посчитается с ним, маленьким человеком? Илья Павлович приготовил сверток со сменой белья и насушил сухарей. Дни и недели ждал гостей, потом месяцы. Но в механизм государственной гильотины попал песок, жернова притормозили тяжелый ход.
Илья Павлович остался на уссурийских улицах под вечным надзором. Для окружающих невзятие приговоренного к взятию казалось не только загадочным, но и оскорбительным. Значит, могли и они остаться чистыми, непорочными, сошло бы и им с рук или не сошло? На всякий случай те, кто ранее с Митрохиным здоровался, здороваться перестали. Кто приятельствовал – более не приятельствовал. Родной брат Ефрем публично, на страницах газеты, отрекся от старшего брата.
Глухое одиночество скоро обняло служащего горфо. Он захандрил, затосковал, занеможил. В крайне болезненном своем состоянии не разглядел, однако, что так же захандрили, затосковали, занеможили и те, кто руку ему более не протягивал, кто обходил его на улице. Лица соседей и сослуживцев обескровились, голоса потускнели, речи утратили первородство. Психиатры, возможно, знают, как точно назвать эту болезнь, связанную с утерей лица. Но доверять психиатрам не следует…
Ноша отверженного на миру оказалась не по плечу иманскому казаку. Уж лучше бы взяли, распнули, растерзали. Душа невинно убиенных отлетает в рай. Бедный Илья Павлович бродил по двору, ничто не занимало его слабый ум. Он пробовал увлечься домашней суетой – руки не держали лопату, молоток не угадывал по шляпке гвоздя.
Не потеряв в достоинстве, Илья Павлович опадал в теле. Начались корчи в животе, судороги стали сводить ногу. Тут, добивая, вызвали его на профилактическую беседу, потребовали покаяния. Должно бы наоборот быть – перед ним покаялись бы, отпущения грехов испросили бы. Но нет. Под страхом смерти потребовали окончательного унижения. Он покаялся, в чем – плохо понимал, но покаялся. И к пятидесяти годам сделался семидесятилетним стариком. Милосердные эскулапы спровадили его на инвалидную пенсию, протянет-де недолго.
Встал и потребовал разрешения обыденный вопрос: не о том, как жить, а как доживать век. Матрена Фоминична, жена, тоже сама не в себе, советовала предать забвению прошлое (кабы было оно прошлым!) и стараться начать новую жизнь. Иной она не назвала её. Есть ведь дрозд на черемуховой ветке, свежий наст снега на огороде. Есть запах лебеды и укропа. Есть река Уссури, утоли мои печали, Уссури…
Между тем в городе все мало-помалу забывали да и забыли Илью Павловича, будто его и не было на этих улицах. Дети считали его блаженным, но не трогали старика, не обижали, не дразнили.
Однажды Илья Павлович приковылял на рынок. Там, стоя среди грубо сколоченных рядов, он увидел маковку церкви и ранних грачей, облепивших голые дерева. Еще не осознавая до конца, что с ним происходит, Илья Павлович прицепился к цветочным семенам, щедрой россыпью опавшим на прилавки. Он купил знакомое с детства – горемыки. Легло на сердце: горемыки…
И, когда притащился домой, не упал на топчан, а, перемогаясь, потеснил в оконных горшках герань, высеял горемыки, пролил мягкой водой. С нескрываемой радостью наблюдала за мужем Матрена Фоминична и улучила минуту, подсунула ему журнал «Цветоводство», ранее чуть ли не презираемый за отстранение, за уход. Илья Павлович наугад открыл, и повело к благодати: «Осенью у гладиолусов наступает период глубокого покоя», – такое могло быть сказано и про него, Митрохина. Он вчитывался в страницы и нигде не нашел упоминания о классовой борьбе или о происках империалистов. Австралийские мальвы и тюльпаны из Голландии нигде не объявлялись космополитами. Так Илья Павлович сделался читателем пустого, по прежнему его представлению, журнала. Эх, если бы он догадывался, куда стежка эта приведет…
Городские надомники подсказали адреса, и Илья Павлович списался с селекционерами-самоучками, отослал им семена окультуренных полевых цветов уссурийской долины, в ответ получил сорта срединной полосы России, посеял грядку, наблюдал за всходами. Иная жизнь обретала почву. А конвертики писем по цепочке шли с семенами самых диковинных растений (иногда письма были вскрыты наглой рукой и на живинку заклеены). Оказалось, страна – от океана до океана – жива, но жива цветами, птицами, березовыми околками, а идеология этой полевой, васильковой страны пустопорожня и холодна. Тут я ничего не выдумываю и не додумываю. На годы репрессий пал расцвет голубеводства. Не только мальчишки, отцы и даже деды, нутром знавшие, сколь легкомысленно занятие голубями, предались странной забаве. Они спасали душу вживе. Тогда же начался всплеск в цветоводстве, к лютикам и настурциям припали изможденные и измордованные народы необъятной державы. Современные Пимены в кельях не заметили поразительного перекоса в увлечениях россиян, во всяком случае, летописи молчат о перекосе.
Илья Павлович прежде всего оборудовал подвал, чтобы клубни и луковицы могли спокойно дремать в умеренной прохладе зимой. Он побродил по округе: собрал лафтаки стекла и утеплил крохотную оранжерею; утеплив, стал с конца января выносить туда горячую золу из поддувала, оттаивал и парил впрок почву. Все волоком, стеная, но силы начали прибывать. Матрена Фоминична принудила его, как маленького, пить каждое утро молоко (тогда еще не нанесли удара по городским подворьям), молоко исцелило недуги.
Самозванец-цветовод скрестил далекие сорта гвоздик, дождался результата. Новички оказались стойкими к ночным температурам, а лепестки долго не опадали в вазах (пришлось раскошелиться на простенькие вазы). Дом на Пинегина постепенно окутывала дымка: одежда и шторы, старый пружинный диван пропитались цветочной пылью. Запах, едва уловимый и нежный, поселился и реял в комнатах и на веранде. Когда Илья Павлович выходил в город, легкое облачко сопровождало его по улицам, входило в магазины и в дома, светилось над ним.
Уверовав в себя, в новое призвание, Митрохин решил покуситься на гладиолусы, царственный вид которых вынуждал его до сих пор держаться от них на почтительном расстоянии. Илья Павлович холил и лелеял гладиолусы, догадываясь, что человеческая неделикатность (правдивее сказать – произвол) чужды изысканным особям, и краткий их век возвышеннее долгого людского века. И замыслы их – у цветов не может быть умысла – миротворческие. Гладиолусы не предадут человека на заклание, не обманут, не донесут на него. Опричнина невозможна в хороводе цветочном. Поникнув головками, они молча и всегда в гордом одиночестве уходят в небытие, избегая круговой поруки и жертвоприношения. Да, целая философия открылась моему герою.
Дитя воинственного века, пленник ложных упований, Илья Павлович рискнул выпестовать новый сорт гладиолуса: темный, почти черный. Траурный цвет подсказал имя – убиенного Ивана Петрова. Есть же иван-да-марья, есть анютины глазки, почему бы не быть Ивану Стойкому? Но курился еще фимиам тоталитарному режиму, и пришлось Ивана Стойкого зашифровать псевдонимом неблагозвучным, зато прозрачным – «Волочаевский комиссар». Что и говорить, не обладал утонченным вкусом отставной чиновник горфо. Зато сути он остался верен.
Впервые вынеся труд свой на городскую выставку цветов, он снискал признание общественности, бросившей его в минувшие лета на произвол судьбы. Незлобивый Илья Павлович воодушевился, и через три года собрание цветоводов края приветствовало оригинальные сорта гладиолусов. Смущали лишь имена оранжерейных пришельцев. Но грянул 1956-й, разомкнул уста Митрохина, и таинственные имена-псевдонимы были рассекречены. Сразу вспыхнул, даже воспалился интерес к забытому на домашней деляне безумцу. Тотчас же и усомнились в безумии его. На волне эйфории Илью Павловича восстановили в партии и возвели в сан красного партизана, несуразный для человека, окончательно ставшего сиреневым. Но слава в раскат и в разлив пошла по Уссурийску, и дрогнул Илья Павлович, поддался пионерам, те нацепили ему на грудь алый бант, чтобы с бантом этим прошел Митрохин по первомайской площади. Вот еще один опрометчивый поступок.
Завистливые глаза следили за поднявшимся из пепла Митрохиным, зависть же, как известно, – лишь смягченная форма алчности. Завистники припомнили главное, что делало Илью Павловича чужаком в стае бескрылых: не писал доносов, не подлизывался, хуже того – оскорбил всех, не соглашаясь с коллективным приговором в адрес врагов… Теперь-то, может быть, и не врагов, но тогда врагами объявленных. И хуже некуда – удалился из мира в схиму, в домашний монастырь. В монастыре же вынянчил идею проникнуть в сектантские ряды ревнителей революционной чистоты (малое участие в той усобице они считали индульгенцией на всю долгую и греховную жизнь).
И затеялась новая карусель. Время действия заревое, похожее на нынешнее.
И сейчас повыползали из комфортабельных щелей ревнители чистоты массовой селекции народного сознания. Вы слышите их голоса? Пробу негде ставить на этих ревнителях. Конформисты, еще три года назад они не давали живым слова сказать живое и по согласованию с ведомством славили ничтожных кормчих и присных вокруг, бильярдные шары подносили им на дачах и, сомкнув бесталанные ряды, уничтожали благоуханный сад, в котором что ни цветок, то на выбор, как в оранжерее Ильи Павловича Митрохина: Виктор Некрасов, Александр Твардовский, Александр Солженицын, Андрей Сахаров, Андрей Тарковский, Мстислав Ростропович. И твой росток в тени великих крыл топтали каблуками…
Перед внезапно сошедшимися из ниоткуда завистниками художник Митрохин оказался безоружен. Матрена Фоминична дельно посоветовала расстроить ряды противников, поименовав подлыми именами выведенные сорта георгинов, но Илья Павлович счел предложение циничным. Правда, на рынке сами покупатели предлагали Илье Павловичу поднять цены на его, Ильи Павловича, знаменитый теперь товар; и давно было пора построить новую, просторную оранжерею, с печью, зольным сусеком, и купить бы Матрене оренбургский платок…
А ветераны сходились в секции, в штабы. Немощные в поступке, они непрерывно заседали и в протоколах исходили ядом. Процитирую подлинные образчики их речей:
«Илья Митрохин с занятием города Иман войсками атамана Калмыкова поступил в таможню…»
«И.П. М-н имел звание (ох, нравится им слово „звание“! – Б.Ч.) чиновника».
«Мне известно, что Илья М-н и его отец, притворившийся лесничим, состояли в активе калмыковской банды» (вот уже и «банды»! – Б.Ч.)
«Илья М-н чистку не проходил». Верно, верно – посредством доноса не прошел Илья Павлович чистки, за что и был вычищен из партии. Но стукач за давностью лет не помнит, а может быть, и не ведает о том.
«За антипартийное поведение М-н исключен из партии». Еще одна проговорка: нравственный поступок Митрохина, оказывается, антипартиен в силу своей нравственности.
Пожар разгорался на пустом месте, но языки пламени не были красными – они были того цвета, какими были с тридцать третьего, виноват, с двадцать девятого года – коричневыми и единственно коричневыми. Таковыми они являются и нынче: там, где провозглашается охота на ведьм, френчи или партикулярные платья охотников, отражая их субстанциальную сущность, всегда коричневые.
С истинным удивлением Илья Павлович обнаружил, что Гражданская война не закончилась для них, она желанна и необходима. Она – бессмертный дух Льва Троцкого! – перманентна. Надобно изыскать врага – инакомыслящего, инакоговорящего, инакоцветущего, даже инакоотцветающего, даже и молчащего инако; а нет подходящего – выдумать, сочинить и, коль не удалось потушить его во младенчестве, в курной избе под Иманом или на улице Шатковской в Урийске (не путать с Уссурийском), спалить коричневым напалмом и корни прочь из земли, а пепелище засыпать хлоркой, чтобы кровь невинная не проросла розой или гладиолусом.
Городские вертухаи с олимпийским спокойствием наблюдали за погоней и травлей. Вертухаи знали истинный подтекст травли (вознесшийся не в меру художник должен быть остановлен), и сама атмосфера преследования устраивала вполне – изничтожение художника шло от имени общественности. Надо бы, в духе времени, дать слово гонимому, но застеснялись. Илья Павлович попытался предать гласности чудовищные мотивы травли – цензор, сам страстный цветовод, отказал.
Ветераны приняли несколько резолюций. Пока я не прочитал эти резолюции, я продолжал реалистично воспринимать обстановку в городе; хотя дыхание абсурда веяло в лицо, не хотелось верить, что абсурд овладел Россией на всю глубину бесконечных ее пространств. Ну где-нибудь в Урюпинске – там понятно, господа Головлевы и поручики Киже по тем землям хаживали, оно и не в диковинку. Но в благословенном Краю Восходящего Солнца…
Я прочитал несколько заявлений К-го Михаила Дмитриевича (того самого, что крикнул некогда на собрании Митрохину: «Ты не в своем уме!»). Витиеватый слог и смысл ускользающий, но в одном заявлении прорвалось: «Почему И.П. убегает от наших имен, когда дает названия цветам? Мы тоже воевали, питались травой и по лесам скрывались» (простодушно-то как!). Человек в почете, пенсионер, всегда желанный на чиновных этажах. Но мало почета и этажей, устланных коврами, если старинный приятель твой, обретший призвание художника, – правда, подпольно обретший, в домашнем затворничестве, – плодит сомнительные метафоры на цветочном фронте: гладиолус, посвященный Рютину, тогда мало кому известному, называет «За правое дело», Сергею Лазо – «Несожженный»[1], – Вячеславу Молотову – «Не все коту масленица». Коробит слух? Но есть и другие названия, уже достаточно утонченные (вкус – дело наживное): «Очей очарованье», «Мартовский снег», «Вдали от забот»… И снова почти выкрики: «Не сдамся», «За себя постою».
Лист 28 (на Митрохина заведено «дело»). Протокол 14 заседания бюро секции ветеранов Гражданской войны и бывших красных партизан (и правда – бывшие, давно переставшие ими быть) при исполкоме.
«Постановили:
Признать странным, что Митрохин, выводя новые сорта цветов и присваивая им имена героев революции, делает это совершенно произвольно, по собственному выбору».
Лист 30.
«Слушали: заявление (внеочередное! – Б.Ч.) бывшего партизана К-го М.Д.
Постановили:
1. Секция категорически возражает против отдельных моментов в работе Митрохина по выращиванию гладиолусов и присвоения им имен отдельных товарищей. (А товарищи все на погостах, под крестами и звездами, и в номерных могилах, безымянные… – Б.Ч.)
2. Работу цветоводу И.П. Митрохину можно проводить, но только под контролем соответствующих органов, а не произвольно».
Карусель, более похожая на гильотину, остановилась, кажется. Сформулировано и принято историческое решение. Митя Карамазов воскликнул бы здесь (стихийный был человек): «У, жуткая вещь – реализм!»
Против собрания, распинавшего Василия Блюхера и Ивана Петрова, смог Илья Павлович встать тогда ватными ногами. Но абсурду цветовод сопротивляться не смог и занеможил окончательно.
Скоро случилось то, что и должно было случиться. Утром Митрохин вышел во двор и заметил строчку шагов, обошедшую вокруг теплицы. Следы были махонькие и с копытцем. Так могла бы овца встать на задние ноги и пробраться сюда. С надветренной стороны овца остановилась, ощупала передними копытами окна, содрала замазку в пазах, отогнула гвоздочки и вынула стеклины, поставила аккуратно к стене и улетела. Следы обрывались на обратной тропе, последние отточия были глубокими, так как надо было оттолкнуться перед отлетом.
Нашествие «овцы» произошло в начале ночи – отроческие стебельки цветов скукожились и оледенели. Труд нескольких лет жизни оказался уничтоженным в одночасье.
Илья Павлович, прежде чем силы покинули его, навестил двух старых женщин, немых соратников, раздарил клубни георгинов и луковицы гладиолусов, а также семена володушки и ирисов, попрощался молча, вернулся домой и умер.
Я бродил по Уссурийску с женщиной нового поколения. Завязь весны пьянила улицы города.
А женщина, с печальной складкой у рта, с замедленным взором, вместе со мной возвращалась в былое, которое было не ее былым…
Апрель – май 1989 года
Уссурийск – Владивосток-Иркутск
Весенние костры
В моем письменном столе хранятся ятаган, кривой турецкий кинжал – давний его подарок, путевые тетради и фотопленки его десяти экспозиций. Вернулись вещи ко мне при странных обстоятельствах. Сестра из дома прислала письмо. «Был перед госпиталем Питухин, – говорилось в нем. – Оставил свои бумаги и пленки. Сказал, что „ему (то есть тебе) будет интересно“. Он сильно сдал. Походы, видно, его измотали. Потом я запросила госпиталь. Мне ответили, что его с осложнениями перевели в другой госпиталь. Прошел год, и вот я пишу тебе».
Я вытребовал посылкой все к себе, и предчувствие тоже кольнуло меня, когда я прочитал в его дневнике: «Вся жизнь вместилась на вокзалах, я жил годами в поездах…Не оттого ли так устало мерцает огонек в глазах? Не оттого ли, оттого ли все тяжелее дома жить? Не оттого ли тянет в поле бессмысленно с ружьем бродить». Перемена в этом человеке, словно разбитом усталостью, так не вязалась с тем, прежним Питухиным, который некогда у Заболоцкого выписал стих: « И если смерть застигнет у снегов, лишь одного просил бы у судьбы я: так умереть, как умирал Седов»[2].
Я тут же написал во всякие военные инстанции, но ответа не дождался: диковинной, наверное, казалась моя просьба сообщить адрес офицера такого-то и, следовательно, дислокацию его части.
И вот случайная командировка на Дальний Восток снова привела меня на тихую улицу Шатковскую, в родимый город Свободный, где долгие зимние часы одинокого отрочества я делил с квартирантом, военным топографом Питухиным. Бывший наш дом был заселен чужими людьми, я не решился войти в него. Но под теми же березами, опушенными легким февральским снегопадом, я дал обещание написать о человеке, который был первым моим учителем.
Я встречал людей, апостольски следовавших по стопам своих учителей, исповедовавших их догматы неукоснительно и истово. Я встречал людей вообще без наследственной традиции, людей без веры, космополитов, не знающих родства. Те и другие – жалки. Первые – откровенные рабы; вторые – талантливые или бесталанные дилетанты в жизни, перекати-поле, склоняющие выи перед любым мало-мальски крепким характером, заушательски не соглашающиеся с господином случаем, но остающиеся игрушкой в его руках.
Я вернулся во Владимир. Стоял кроткий апрель. Клязьма еще не вскрылась, но снег уже сошел, высох; и в старом парке, где некогда Герцен с Натальей гуляли под липами, однажды я услышал запах первых костров. Жгли прошлогоднюю листву. Детвора со всех окрестных школ, осененная куполами Успенского собора, прыгала через огонь. Дворники в белых передниках, похожие на раздобревших снегирей, бесшумно и быстро сгребали новые кучи.
Помните ли вы свои весенние костры? Как, скинувши кепчонку,– помните? – вы разбегаетесь и что есть мочи отталкиваетесь от земли и, как Ваня-дурачок, поплыли, поплыли над костром.
Помните ли? – вы идете по улицам вашего небольшого дальневосточного города, и ничто для вас не существует, а лишь тот крепкий вечерний запах догорающих костров…
И еще – помните? – в постель вы ложитесь, совершенно измаявшись, а от белой простыни, от подушки тоже почему-то пахнет костром, прогревшимся тополем, мамой.
На Дальнем Востоке костры – давняя традиция, некий обряд освящения весны. Мы собирали хрусткую картофельную ботву, разжигали высокий огонь. Питухин, если он еще был в городе, не отказывался прыгать через костер первым. Когда он разбегался, белая рубаха пузырилась, и диво было видеть Питухина, выплывшего из огня живым и невредимым.
В мае мы ходили по городу с подгоревшими бровями, и сосед, дядя Петрован, чтобы образумить Геньку, моего приятеля, купил ему настоящие брюки под ремень. А до того мы ходили в сатиновых или теплых шароварах на резинке. И Питухин, пошептавшись с мамой, купил мне шерстяные брюки и подарил свой узкий скрипучий ремешок.
Чудной нам попался постоялец. Как и все офицеры, он много курил; у него была серая заношенная шинель – «ШЭКС», шинель экспедиционная; коньяк на ужин и иногда на обед. Но когда он нес льняную голову свою по провинциальному Свободному и серебряные погоны тлели на его прямых и сильных плечах, было в нем что-то похожее на Георгия Седова, когда тот замышлял дерзкое путешествие к Северному полюсу.
Владимир Михайлович Питухин попросился к нам на квартиру, когда я учился в пятом классе. С гарнизонными офицерами население восточных городов уживается хорошо и привычно. Офицеры обычно снимают маленькие флигели или комнаты и вскоре становятся почти своими в семье. И когда офицеров переводят в другое место – жизнь у них неоседлая,– то еще долго идут письма и всяческие поздравления, с днем рождения, с Рождеством и т д.
Так было и у нас. Во время войны в нашем городе была кавалерийская часть, на квартире у нас стояли тогда веселые и бесшабашные люди. Неподалеку была тогда база Амурской флотилии, город пестрел черными бушлатами и бескозырками.
Потом пришла пора исследователей, топографов и геологов. И в наш дом вошел Питухин. Девятая школа, где я коротал зимы в ожидании весенних костров, не много занимала у меня времени. Но пришел топограф Питухин, и время мое затрещало по швам. Питухин ввел жесткий распорядок дня; он обрабатывал результаты экспедиции, черкал что-то в толстой тетради в коленкоровом переплете, ходил молча часами. До поздней ночи в комнате горела самодельная настольная лампа. Я большей частью читал, но иногда получал от Питухина странные задачи на географической карте. Например. Экспедиция Н., вылетевшая самолетом, потеряла радиосвязь с землей на третьем часу полета. Место вылета – Новосибирск. Курс – строго на северо-восток. Определить широту и долготу квадрата предполагаемой катастрофы. Далее. Н. и двое уцелевших товарищей пошли на юг по компасу. Компас давал отклонение на одном градусе тридцать километров (компас оказался поврежденным при падении самолета). Средняя скорость движения группы – 10 км в сутки. Время движения – три месяца (компас уводил людей в тайгу, ненастная погода мешала хотя бы приблизительно вести отсчет по солнцу). Им пришлось зазимовать. Погиб еще один. Н. был в отчаянии. Но тут на них наткнулись аборигены-охотники. В каком это произошло квадрате, на какой восточной долготе и северной широте?
Вот это были задачи! Я и в топоотряд ходил смотреть на офицеров, обросших черными бородами, как на прообразы легендарного Н. Я стрелял на полигоне из стрелкового оружия не в фанерные мишени, а в медведей, в кабанов, в сохатых. Сладкий запах сгоревшего пороха туманил мне голову.
Вечерами в наших комнатах часто толпились офицеры. Приходил медленный и тяжелый Борейко[3] – так я звал его, а на самом деле Николай Михайлович Игнатьев; вбегал Леня Леонтьев, бедокур и непоседа; позднее появился Джага – так звали молодого лейтенанта Бориса Шампарова. Имя таежное «Джага» привязалось с легкой руки проводника в камчатской экспедиции, да и осталось. Говорили, полковник Никитин, начальник топографического отряда, так и звал его: «Лейтенант Джага».
Были и другие офицеры – теперь безымянные за давностью лет.
Джага в полевой сумке всегда имел запас коньяка. Он говорил, что это у него наследственная слабость. Леонтьеву приносили гитару, на кухне переставала стучать швейная машина «Зингер», к нам выходила мама. Мама любила казачьи песни, на которые Леонтьев был мастак.
Джага вздыхал, ему не повезло с проводником.
– Оказался угрюмым и жестоким. Знаете ли вы, что такое с пяти метров расстрелять в гнезде орлят? Они на крыло еще не стали, а он их в упор. Маяться пришлось весь маршрут.
«Угрюмый проводник», «маршрут», «увалы» – какой, в сущности, незатейливый язык, но сколько в нем притягательной силы для пятнадцатилетнего мальчишки в любую эпоху. Мне казалось, Пржевальский сойдет сейчас с портрета, присядет вместе с нами, пошебаршит усы и поддакнет Джаге.
Они все – Питухин, Игнатьев, Леонтьев, Джага – почти одновременно закончили Ленинградское топографическое училище, и много в их разговорах было примет города – Дворцовая площадь, Медный всадник, Нева… Они клялись, что вместе когда-нибудь соберутся и поедут на Иссык-Куль поклониться праху Пржевальского. Выполнили ли они свою клятву, не знаю, но в пленках топографа я неожиданно обнаружил три кадра: скромная могила Пржевальского, обнесенная железной оградой, памятник и уголок музея. Питухин читал стихи. Стихов он знал много (я не догадывался, что среди читаных были и его).
Запомнилось: «Мой старый фрак» Беранже и «К временщику» Кондратия Рылеева.
Питухин был потомственным помором. Как-то наш злополучный сосед, дядя Петрован, сильно ругался и назвал Геньку сволочью. Питухин усмехнулся:
– А ты знаешь, Годунов (такую кличку он дал мне), «сволочи» – это доброе слово. В Архангельской губернии мужики по суше ладьи свои волочили, и потому их звали сволочами.
Топографом он решил стать после армии, после фронта (на фронт он ушел добровольцем семнадцати лет, в сорок третьем). Ему повезло – не только потому, что училище было на Петроградской, но и потому, что еще был жив Берг. Питухин напросился на встречу к старику.
У Берга была большая и пустынная квартира – видимо, следствие блокадных лет, и Берг любил поговорить с будущими географами.
Лев Семенович Берг оставался живой легендой, наследником потрясающих успехов русской географической науки в XIX веке.
Окончив Московский университет с дипломом первой степени в 1898 году, он был практиком – зоологом, натуралистом и путешественником, а потом, когда здоровье не позволило кочевать, стал теоретиком и историком.
Еще в 1908 году за классическую монографию «Аральское море» он был удостоен Географическим обществом Золотой медали имени Петра Семенова-Тян-Шанского.
Берг садился в кресло напротив Питухина и говорил:
– Ну-с, продолжайте ваш рассказ. В прошлый раз я, к сожалению, не смог дослушать…– Берг был непоправимо ранен временем, ему шел восьмой десяток.
Курсант Питухин описывал Бергу природу Архангельского края, обычаи поморов, рассказывал о фронте.
Вскоре Берг умер. Питухин не смог принести цветы на его могилу, потому что началась страда экспедиций: чукотская, зейская, камчатская.
Все экспедиции, наверное, начинаются одинаково. Позднее мне приходилось участвовать в геологической и археологической партиях. У топографов начало было похожим. Много праздничной суеты, хлопот. Тусклые полевые погоны вдруг преображают офицеров; у них исчезает подпрыгивающая походка, потому что на ногах уже не сапоги, а мягкие ичиги. Плац в топоотряде пустеет. Озабоченные солдаты увязывают вещмешки, упаковывают продовольствие, чистят лошадей, лоснящихся нагулянным за зиму жиром. И в канун отправления отряда целая часть города, словно старинный посад перед уходом воинов, дымит кухнями, гремит ведрами у колодезных рам – готовит проводы, потому что уходят свои, кровные, родные, уходят на лишения; но как уходят – с гиком, в горьковатой веселости. И «Прощание славянки» на последнем построении медными трубами разрывает сердца горожан, и город как будто немеет.
Питухин уходил из города кротким и тихим. Однажды я подсмотрел в его дневнике: «Уходить из Свободного тяжело, будто из родимого дома. А в городе все так же будет дымить хлебозавод, разнося вокруг теплые запахи опары. Но идти надо – снова и снова, чтобы не зарастала тропа, проложенная не нами; увы, мы идем по проторенным тропам, но и то честь: идти вторым». Питухин осознавал себя наследником Роборовского, Потанина, Берга, но не декларировал этого. Он был так же одержим в поиске, он был так же неутомим в походах, хотя фронтовые ранения и профессиональные болезни все серьезнее осложняли его бытие. Он воспитывал свой интеллект, постигал культуру за домашним столом, и любимым изречением у него было: «После хлеба образование является первой необходимостью человека». Он знал, конечно, что офицеры – участники знаменитых и незнаменитых экспедиций в дебри Центральной Азии или в Полесье – воспитывались на Плутархе, Шекспире, Гёте. Они частенько не догадывались о противоречиях, раздиравших уклад Российской империи. Но, прозревая для себя в 14 декабря гибельный пример, они уходили – не убегали ли? – в дальние пределы и страны. Строки поэта как нельзя лучше передавали их немудрящую философию и жизненный идеал:
- Домик с зелеными ставнями,
- Снова согрей и прими.
- Грежу забытыми, давними,
- Близкими сердцу людьми.
Но каким исполином рядом с этими прекрасными, но камерными строками жил стих, громкоголосо читанный Питухиным тогда, в дальнем пятьдесят втором году:
– Сволочи! – Я бросаю слово в грязную одиночку, И ненависть лавой в груди моей клокочет, – стих о Греции. В Греции было тогда плохо. Казарменный режим душил мысль, поэзию, науку. И в запредельной России неведомый лейтенант читал этот стих, ненавидя тиранию, как ненавидит ее афинянин. Но за Грецией – вставала Россия, уставшая в безмолвии мертвых зон от Камчатки до Балтики. И доброе поморское слово «сволочи» в устах лейтенанта Питухина вдруг становилось острым.
Краем уха я слышал в разговорах топографов, что то ли уж век такой у нас: ядерная физика, химия,– географическая наука отошла на второй план, а топографическая служба, ранее приписанная непосредственно к Генеральному штабу, тоже переживает сложное время; или, сокрушались топографы, своими алмазами и нефтяными угодьями геологи затмили их, первопроходцев?
Но слышал я имя Арсения Кузнецова. Кузнецов был именно военным топографом. Он погиб, изыскивая трассу на Совгавань; карту нашли у него на груди; по этой карте пошли строители. Арсений Кузнецов жил в холодную пору тридцатых годов, но с величайшим достоинством нес звание военного топографа. Посмертное признание его подвижнического труда вошло в учебники и в легенды. Вспоминая Кузнецова, Джага вздыхал:
– Вот уже прожил гору лет, а еще ничего не сделано для бессмертия.
Джага был честолюбив. Леонтьев стучал длинными пальцами по портрету Пржевальского и говорил Игнатьеву:
– Тезка твой избрал тропу изгоя. Не о славе, не о бессмертии мечтал человек, а о свободе, потому как чем меньше человек имеет, тем он больше свободен.
Питухин в дымном и шумном застолье почти не принимал участия. Работник, постигший тщету скорого исполнения желаний, он понимал, что застолье – только приправа к серьезному, целомудренному опыту жизни. Я видел иногда улыбку, которой он сопровождал пылкие речи Джаги и резонерство Леонтьева. Но никогда он не попрекнул друзей своих обидным словом. Мне это было непонятно, и однажды я спросил его прямо, зачем он терпит беззаботность товарищей. Питухин рассмеялся:
– Эх, Годунов, не знаешь ты, какие это прекрасные люди. Они не получили классического образования, верно, но они добры, человечны, открыты. Они не отягощены большими заботами, но зато они искренни в участии. Притом, учти, они военная косточка, но бурбонами не стали, не поднаторели в доносах.
Вскоре, однако, я заметил, что бутылки из-под коньяка исчезли в нашей квартире. Питухин продолжал все так же вставать в пять утра и до ухода на службу в топоотряд успевал прочитать полкниги или исписать несколько страниц мелким бисерным почерком. А после службы снова садился к столу.
И настал черед Сихотэ-Алиньской партии. Шел 1956 год. Я заканчивал школу. В голове была сумятица от надвигающихся экзаменов по математике, безвестность будущего волновала. И Джага говорил не ко времени:
– Хочешь в экспедицию на Сихотэ рядовым?
Я, разумеется, хотел. По военному делу, по географии, по естествознанию у меня всегда было пять.
Я не задумывался тогда, какой это тяжкий, изнурительный труд – топография. Буколические дымки на привалах, лесные запахи, настоянные на дикой смородине и черемухе, прятали от меня непарадную суть этого труда.
В Сихотэ-Алиньской экспедиции Питухин вел дневник. Я заново перечитываю его страницы:
«Завтра утром мы встанем. Ты сядешь шить кимоно. А я в сапогах, заплатка к заплатке, пойду к Шаману. Это высокая и холодная гора. Мне надо положить ее на карту».
Строчки эти записаны последовательно, не столбиком, хотя они кажутся мне стихотворением. И еще одно, трудное признание:
«Тысячи красивых мужчин окружают тебя. А я живу в палатке, в длинной долине Сеенку. Ты лежишь в постели, слушаешь городские крики и хочешь закрыть окно. А я, упав на ветки стланика, осмысливаю бытие».
Владимир Клавдиевич Арсеньев как-то писал:
«Красота жизни заключается в резких контрастах, как было бы приятно из удэгейской юрты попасть в богатый дом…
После долгого питья из кружки дешевого кирпичного чая с привкусом дыма с каким удовольствием я пил хороший чай из стакана! С каким удовольствием я сходил в парикмахерскую, вымылся в бане и затем лег в чистую постель с мягкой подушкой».
Но пусть вас не обворожат счастливые, почти эпикурейские строчки, навеянные городом, его долгожданностью.
«Посох достал я с чердака,– написал в том апреле Питухин…– Я опробовал себя, трижды перепрыгнув через высокий костер на нашем дворе, далось мне это нелегко, молодость – признаемся в тридцать лет – ушла. Потому и достал я посох. Вот и начало нового годичного круга. Начну не спеша очень нужное в жизни движение».
«Движение» – почти формула, почти девиз.
Арсеньев прошел путь от села Троицкого на Амуре до Императорской, ныне Советской, Гавани по рекам Анюй, Тотто и другим в 1908–1910 годах. В 1927 году он почти повторил этот маршрут, на четыреста километров разойдясь с будущей тропой моего топографа. Но если первая экспедиция Арсеньева была снаряжена специально Русским географическим обществом в честь 50-летия со дня официального присоединения Дальневосточного края к России и ее руководитель уходил в путешествие, как поэт, то единственной задачей экспедиции Питухина было положить на карту речки, ручьи, низменности, горы, уточнить данные аэрофотосъемок, дать наименования. Черная, но необходимая работа.
Что мы знаем сегодня о Сихотэ-Алине? Что там живут остатки племени удэге, или туземцы, как называл их Арсеньев? Что там водятся тигры? Ну, а еще? И оказывается, все еще очень мало.
В долину Сеенку проводник-удэгеец отказался вести отряд:
– Моя туда не ходи. Там злой Шаман и сердитая вода дерется.
Отряд повел Питухин. Они продирались сквозь тайгу, шли через болота. Там, где тяжелая поклажа затягивала лошадей в топь, выручал Дзоциев, молодой двадцатилетний солдат родом из Дагестана. Дзоциев был человеком страшной силы, руки его легко ломали подкову. А длинная, сухая спина его несла груз в сто килограммов, если другие выбивались из сил. Дзоциева в отряде звали «батя», он был не по годам степенен и мудр…
Помимо экзотических красот и деловых записей, Сихотэ-Алиньский дневник позволил заглянуть в быт военной топографической экспедиции, увидеть ее будни.
С фотографий на нас смотрят юные бородатые люди: Харт, Матвеев, Белозубов, Абылгазиев, Попов, Бутыльский. Русские, татары, белорус, кавказец в одном маленьком отряде.
Харта-Растегина, в отряде его звали Паганелем (он не расставался с большой поцарапанной лупой и мечтал после армии стать зоологом), командировали с Романом Бутыльским на Шаман, самую высокую вершину северных отрогов Сихотэ-Алиня. Они должны были жить на вершине долгие недели, их наблюдательная станция измеряла высоту других, малых вершин и глубину урочищ и марей, потом эти измерения позволили составить карту рельефа.
Горное половодье, заполнив ущелья и тальвеги водой, отрезало надолго от отряда, и они перемигивались ночными кострами с нижней станцией. А в ненастье и костры молчали.
Питухин с большой симпатией описывает этих юношей. Бутыльский, к примеру, физически не мог существовать, не работая.
Харт по совету командира решил загадку странного ночного воя в окрестностях Шамана (этот-то вой и пугал случайных охотников в этих местах). Отыскав «эпицентр» воя, в жуткое место попал любознательный Харт: огромные скальные обнажения создавали перепад на пути сквозняков; попадая сюда, ночные ветры с моря отзывались утробным гулом, эхо кроило его по-своему, делая то пронзительным, то низким, как октава океанского лайнера.
Питухин сумел увидеть в Сихотэ-Алине не только экзотические картины природы. На месте бывших лагерей, где томились люди, в том числе и невинные, тысячи невинных, у оставленных, будто про запас, бараков он, сидя на пне, записывает исповедально: «Сподобился видеть тяжкие следы недавнего былого, молчал.» Многое роднит их, русских офицеров, но иной, дореволюционной эпохи, с нашими топографами. Энциклопедичность познаний, тон письма, доброта отношений в самом отряде. Как знать, может быть, позднее ими заинтересуются издательства – хотя бы специализированные: географическое или военное[4].
Ведь историей топографической службы, начиная с первого промера в 1868 году ширины Керченского пролива (между городами Тамань и Керчь) и до наших дней, мне, непосвященному, кажется, никто всерьез не занимался.
В нашей комнате, помимо иностранцев Ливингстона и Брема, Джеймса Кука и Нансена, стояли толстые тома отчетов и путевых дневников Лисянского и Крузенштерна, Беллинсгаузена и Потанина, Козлова и Витковского, Обручева и Певцова – представителей большей частью армии и флота. Поэтому не случайной оказалась работа Питухина «Страницы истории военно-топографической службы».
Одно удивляет, когда я заново просматриваю содержимое своего письменного стола: кто он, топограф – натуралист, поэт, историк?
Я знаю, он ходил по земле без компаса. По звездам узнавал время – с ошибкой в три-пять минут.
Он писал новеллы. Читая их, я вспоминал рассказы Сетон-Томпсона.
Он писал тайные движения женьшеня. В рукописях есть отдельная работа, она так и называется: «Женьшень».
А вот строчки из дневника под названием «Совесть»:
«Дайте мне право думать, что „совесть“ – категория худо исследованная. Опускаясь в пропасти и поднимаясь на вершины, теряя друзей и вновь обретая их, я часто останавливался в неведении и раздумье: совесть – какой хрупкий барометр. Малейшее движение воздуха – и уже колебания, и беспросветность, и безнадежность. Но вдруг столько солнца и тепла. На весь мир.
Как трудно становятся плохими люди, совестливые по своей натуре, с какими мучениями, с какими самоотречениями!
Но с каким возвышенным челом служат они потом своим идолам. Изредка, опускаясь в давние тайники, они плачут о невозвратимом и – ожесточаются».
Он отлично стрелял в цель.
Он любил слепые дожди. Он считал, слепые дожди помогают человеку не стареть. Об этом мне потом рассказывали топографы.
Я написал, что многое роднит Питухина с предшественниками по армейской службе.
Но я хорошо вижу в нем и новое. Он был начисто лишен барственности, попросту он уже не знал ее. В лесу он не мог идти налегке, поровну с солдатами делил поклажу, даже Дзоциев не мог у него отобрать рюкзак. Он и в дневнике признавался: «Делю тоску разлук тяжелых,– мне лучшей доли не найти,– по городам, станицам, селам с друзьями в избранном пути. Делюсь последней папиросой, единственным глотком воды…»
Из Сихотэ-Алиньской экспедиции я получил от него целое послание, уже на Иркутский университет: «Видишь ли, Годунов, история российского офицерства богата высокими и иными примерами. Именами иллюстрировать не буду, хотя можно поступить проще, взять героев литературных произведений – от Швабрина, Грушницкого, Алексея Вронского до Ромашова и Сани Григорьева, они дадут обширную картину нравственных поисков или бездуховности. Ты должен заметить, лучшие из них любили не мундир, полагали себя гражданами на военной службе. Но в час беды все они становились в ряды народного ополчения, чтобы застоять Отечество грудью или погибнуть. И в этом мы им наследуем.
Ты можешь кое в чем упрекнуть моих сослуживцев, но прежде ты должен понять эпоху, а потом и Джагу, и Леонтьева, и Игнатьева. Нам досталось суровое время. В военные годы мы знали, как мы нужны стране и как страна нуждается в нас. А потом, потом, Годунов, жить было тяжко – но мы избрали солдатскую лямку и не отреклись от нее. Я надеюсь, твоему поколению будет легче. Хотя все непредсказуемо и очень шатко в России»…
Однако я хочу цитировать дальше. Слишком долго это письмо дожидалось своего часа.
«Я рядовой человек, последний из могикан-географов, которому суждено нанести на карту сто ручьев и сто болот – так мало рядом с великанами, наследником коих я считаю себя.
Итак, смиряюсь – маленький человек. Но, может быть, с большим человеческим достоинством».
Нам не довелось больше встретиться. К тетрадям и пленкам была приложена записка, датированная 16 мая 1966 года:
«Мои бумаги побереги. Так, на всякий случай… В сорок лет гуляю по госпиталям. Ревматизм, полиневрит и прочая чертовщина. Отпылали мои весенние костры. А твои отпылали?
В. Питухин, армейский капитан, действительный член Географического общества СССР»
Чистая лампада
Прикасаясь к большому явлению в Искусстве, каждый должен давать себе отчет, имеет ли он право на прикосновение.
Один пил вино с художником и теперь имеет право сказать: «Мы пили вино высокими стаканами». Высокое вино.
Другой катался в лодке с художником.
Третий однажды на премьере видел автора, забрасываемого белыми цветами…
Я не был близким другом Александра Вампилова. Больше того, мы были иногда в антагонизме, ибо Вампилов не понимал, как это человек, вооруженный опытом прошлого, сохраняет веру в некое переустройство общества на нравственных началах.
Воспоминания мои будут субъективными.
Однажды в майский день мы вынесли стулья из редакции «Советской молодежи»[5] и, встав на них, ждали явления народу Фиделя Кастро Рус. Мы – это электрик Владимир Яналов, прораб Зоя Пшеорская, плотники Виктор Грошев и Александр Крымский. Было тепло. Кубинские и наши флаги трепетали над карнизами домов.
Толпа неистово взликовала, когда машина с Анастасом Микояном и Фиделем Кастро покатилась на нас. И Александр Вампилов сказал: «Массовое действо. Пора бросать чепчики».
Правда, «кричали женщины „ура!“ и в воздух чепчики бросали».
На четвертом курсе в университетской газете я печатаю рассказ «Юнкер Карецкий». Меня интересует эволюция юнкерского мятежа в Иркутске. Гражданская бойня.
Со мною знакомится Александр Вампилов, я приглядываюсь к нему – смуглый, полуизможденный парень в сером пиджаке. Он курит сигарету и скупо хвалит меня, или не меня, а юнкера Карецкого.
В январе глубоко личные переживания продиктовали этюд «Люся выходит замуж». Хочу напечатать его в молодежной газете, но девицы (тогда было много эмансипированных девиц в редакции) восстают. Меня выручает Вампилов. Он появляется в дверях, когда я готовлюсь назвать девиц дрянью. Он читает этюд, мы выходим в коридор. Он снова хвалит меня, на сей раз меня, называя этюд стихотворением в прозе.
Знакомство состоялось и окрепло. 27 февраля 1961 года запись в дневнике: «Вампилов – Санин. „Феодал с гитарой“. Чувство языка. Смеялся. Феодал с гитарой… Сцены из нерыцарских времен».
Когда возникло в Иркутске творческое объединение молодых, и Александр Вампилов спросил, почему я не поставлю на обсуждение свои рассказы, я ответил отказом: обстановка в Объединении претила мне. Там готовились и росли художники, они говорили о запахах, о цветах, о нюансах, о характере. Я не понимал поиска, начатого Вампиловым. «Стечение обстоятельств», тонкая и довольно смешная книжка, обещала поверхностного сатирика. Рассказы «Тополя» и «Станция Тайшет» казались вторичными. Увы, я торопился с выводами, но встреча на берегу Байкала приоткрыла глубину мышления Александра Вампилова.
Август 1962 года был горячим, как в прифронтовой полосе. Я избран секретарем комитета ВЛКСМ строительства Байкальского целлюлозного завода: у меня девятнадцать первичных организаций, промбаза, микрорайон будущего города. Я изучаю пешком строительство, но больше езжу на дежурных машинах. Солнце жарит дороги, пыль забивает легкие, но возле Управления строительства тишина – березовая роща водит хоровод, в кабинах спят шоферы. Ветра нет, но благодатная лесная тень спасает от жары.
Я иду от столбовой дороги к конторе, по тропе навстречу мне двигаются парень и девушка. Она светловолосая и вся в белом. Он тоже в белой рубашке, пиджак через плечо перекинут – Саня Вампилов.
Пасхальная эта картинка до сих пор перед глазами. В березовой роще сквозит солнце. Тишина. И идут двое, стройные и юные. Не люди, а символы на берегу прекрасного озера. (Я привык видеть грязные спецовки парней и неприхотливость в одежде девчат.)
Мы здороваемся и садимся на поваленное дерево. И спрашивает Вампилов:
– Ну, как твои, Боря, потешные полки?
Я ищу спасения в диалектических связях: потешные солдаты Петра, потом гвардия Преображенского и Семеновского полков, костяк армии и лоно вольнодумства. Каре на Сенатской площади.
Я отвечаю оптимистично:
– Потешные полки дерутся.
– Во славу уничтожения Байкала?
– Почему же – возрождения! Мы возродим жизнь на его берегах, построим дома и цеха. Мы позовем художников, чтобы достойно отобразить бодрую жизнь на этой земле…
– А источник вы сохраните? – Он даже не спрашивает, а констатирует.
Я молчу. Мне кажутся странными суждения пришельца в белом.
– Мы ищем пристанище – пожить, подышать озоном, – говорит Вампилов, разряжая неловкую паузу.