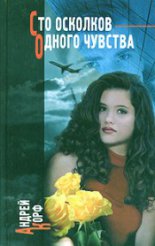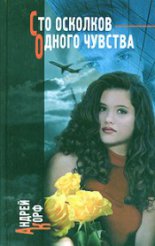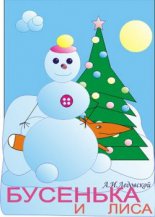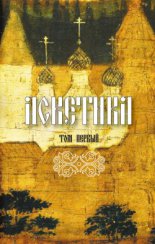Литературное произведение: Теория художественной целостности Гиршман Михаил

Введение
В 1978 году я получил письмо от одного из слушателей моего спецкурса по анализу литературного произведения:
«Наука нужна человеку, чтобы утолить жажду познания и чтобы не ждать милости от природы. Но что нужно науке от произведения искусства, которое есть и высшее знание, и высшая милость?
Все знают, что наука может не только улучшить нашу жизнь, но и уничтожить. Почему же мы не боимся, что наука может отнять у нас искусство?
Но предположим, что не отнимет. Ведь не перестали же мы любоваться солнцем и облаками после того, как узнали их структуру. Почему же, несмотря на многотрудные усилия ученых, они продолжают оставаться для нас Тайной? Может, потому, что мы ищем в них совсем иной смысл – смысл, который скрыт не столько в объекте, сколько в субъекте, в нас самих?
Никто не спорит, научный подход открывает нам немало интересного, но – увы – вовсе не то, ради чего было создано произведение искусства».
Я ответил на это письмо так:
«Как это часто бывает, начало ответа на Ваш вопрос находится в Вашем же письме: там, где говорится об ином смысле, который скрыт не в объекте, а в субъекте, в нас самих. А Вы уверены, что тот смысл, который скрыт в нас самих, всегда и во всем совпадает с теми „высшим знанием и высшей милостью“, которые дает искусство? Вы не думаете, что этот смысл может в чем-то принципиально не совпадать с пушкинским или шекспировским?
Вы спрашиваете: существует ли угроза того, что научный анализ может „уничтожить“ художественное произведение? Да, отвечу я, такая угроза существует. И в свою очередь спрошу Вас: а существует ли опасность вненауч-ного субъективистского произвола, „растаскивающего“ Пушкина и Толстого во множество своих обособленно-личных уголков, так что искусство, объединяющее людей, опять-таки уничтожается, перестает существовать?
Чем реальнее эта вторая, субъективистская угроза, тем важнее научное охранение: именно наука учит умению перенести центр тяжести исследовательского внимания с себя на предмет. Если же говорить специально о филологической науке, то она более всего учит пониманию другого в его подлинной сущности и специфике – пониманию, которое не может и не должно быть подменено самовыражением и самоутверждением. И чтобы приобщение к „высшему знанию“, которое дает искусство, состоялось, чтобы мы действительно нашли Пушкина в нас самих (а не самонадеянно превратили себя в Пушкиных), – необходимы учителя литературы, необходимы те, для кого научное изучение литературы является органической частью их жизни, их творческой деятельности.
Да, литературовед должен пройти между Сциллой безлично-объективистского и Харибдой вненаучно-субъективистского подходов, которые равно уничтожают искусство. И чтобы найти верный путь, очень важен, в частности, ценностный ориентир: не литература существует для литературоведения, а литературоведение для литературы. В ней источник возникновения литературоведческой науки, к ней же и возвращается научный поиск, помогая реальной встрече автора и читателя в единстве художественного произведения.
Можно сказать еще и так: научность сама по себе не гарантирует человечности, а человечность не обязательно требует научности. Но в науке об искусстве происходит обязательная встреча и взаимопревращение этих качеств. И жизненной реализацией научной теории является хотя бы чуть-чуть углубившееся понимание подлинной ценности и смысла („высшего знания и высшей милости“) художественного произведения и развивающееся на этой основе человеческое взаимопонимание».
Прошло 22 года, и автор только что приведенного письма, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории литературы и художественной культуры Донецкого университета А. А. Кораблев, работая над третьим выпуском своей серии «Донецкая филологическая школа„ 1 , обратился ко мне с новым письмом:
«Дорогой Михаил Моисеевич! Лет двадцать тому назад, отвечая на мой вопрос, Вы говорили, в общем-то, о том же, о чем теперь и я, достигнув Вашего тогдашнего возраста, говорю, отвечая на подобные вопросы. Но, помимо этой закономерности, время проявило и другую, вроде бы противоположную первой: вдруг (мне, по крайней мере) стало ясно, что ничего – в сущности – не изменилось за эти 20 с лишним лет: вопросы, несмотря на ответы, остались. Вопросы эти не только воспроизводятся каждым новым поколением, приступающим к литературе, – они воспроизводятся и во мне самом.
В том, что наука зачем-то нужна в делах искусства, я не сомневался с самого начала – это ясно из моего письма. А сомнения мои были (и остаются) о том, как реально осуществить то «целостное мировоззрение», к которому стремились и устремляли за собой и Соловьев, и Флоренский, и Бахтин и которое, по мере своих возможностей, пытаюсь осуществлять и аз, грешный.
Вопрос, иначе говоря, не в том, нужна или не нужна наука (разумеется, нужна), и не в том, сколько ее требуется для общей гармонии (чем больше, тем лучше), а в том, где ее место. Если наука оказывается главным объединяющим принципом, то мировоззрение, каким бы цельным оно ни казалось, оказывается только «научны», а никаким не «целостны», т. е. не «всеединым».
«Принцип диалогизма» как будто мог бы стать таким всеобъединяющим началом, но, как мне кажется, и сам этот принцип может оказаться (а так обычно и бывает) лишь вариацией одной из форм знания, научной, художественной, религиозной или какой-либо еще. Диалог, понимаемый рационально и методологически, – это та же наука и, следовательно, тот же перекос в сторону «научности», а значит, тоже редукции. И наоборот, диалог, понимаемый как «свободное», и прежде всего свободное от классической рациональности, перекликание всего со всем, – это тоже вариант мнимого «всеединства», поскольку совокупность и целостность – это все-таки не одно и то же.
Но если однозначно рациональное и однозначно иррациональное решения не приводят к подлинной полноте мировосприятия, а соединение этих принципов вызывает лишь эстетический разряд, то, может, стоит примириться с таким конфликтно-неразрешимым положением вещей и не искать всеобщего диалогического примирения?»
Ответ мой на этот раз был таким:
«Дорогой Александр Александрович! Спасибо Вам за напоминание о нашей давней переписке. В самом деле, при всех очевидных изменениях – и внутренних и внешних, – при несомненном движении и жизни, и мысли ( другой вопрос, куда движение), снова и снова возвращаются вопросы и поиски ответов на них. Возвращаются и воспроизводятся настолько, что я готов почти буквально повторить первую фразу моего старого письма о том, что начало ответа… находится в Вашем же, уже сегодняшнем письме: »…может, стоит примириться с таким конфликтно-неразрешимым положением вещей и не искать всеобщего диалогического примирения“. В этом подчеркнутом мною повторе очевидным становится какое-то сложное единство разных, но имеющих единый корень „примирений“, противопоставленных и взаимно обращенных друг к другу. А не подобны ли этому многократно обсуждавшиеся (в том числе и в наших с Вами разговорах) отношения научного и инонаучного с подчеркиванием опять-таки единого научного корня (знание!) и принципиальной множественности различных форм: знание объекта – знание и понимание субъекта, знание общих законов и их единичных проявлений – знание и понимание индивидуальности, индивидуальных закономерностей и индивидуальной причинности и т. п. А если, как Вы пишете, существуют научные, художественные, религиозные формы знания, то как соотносятся они с ненаучными (не ино, а не) верованиями, „разрядами“ эстетического бытия и созерцания? И главное: кто из них в большей степени может претендовать на „объединяющий принцип“ и „целостное мировоззрение“?
Диалогизм в том понимании, которое я разделяю и пытаюсь развивать, проясняет прежде всего отрицательный ответ на этот вопрос на основе двух взаимосвязанных утверждений: 1) „положительное всеединство“ есть; 2) это всеединство не может быть ни в ком, ни в чем, никак и нигде полностью воплощено, натурализовано, не может быть сведено ни к какой единственной сущности, ни к какой единственной форме его человеческого освоения. Стало быть, ни наука, ни искусство, ни религия, ни история и ничто другое не могут сами по себе претендовать на роль „главного объединяющего принципа“. Диалогическое согласие возможно лишь на путях общения всех этих и других суверенных форм человеческой деятельности без их смешения и поглощения друг другом.
Но кто, как и где может реально осуществить это общение, даже если принять в качестве диалогической аксиомы, что энергетические его предпосылки объективно существуют в самых глубинах бытия-сознания? Где искать положительного ответа на этот вопрос, даже если речь идет о переходе глубинных возможностей в человеческую действительность? Устой диалогического мировоззрения, по-моему, таков: объединяющими не могут быть общие принципы и общие виды человеческой деятельности. Реальный объединитель – только единственная человеческая личность лицом к лицу с другой и множеством других, таких же единственных. Ее единственно необходимое, в нужное время и в нужном месте сказанное слово, сделанное дело – и теоретически невозможное „всеединство“ пусть хоть на миг, но оказывается несомненным. И не наука, не искусство, не религия, а ответственный поступок сказанного слова и сделанного дела, поступок мысли, веры, эстетического творчества-созерцания, – именно и только ответственный поступок реально связывает обретение себя в себе, ответы на вопросы, кто я и где я, с обретением связи с другим. Связи как ответственности общения, которая предшествует и знанию, и вере, и эстетическому творчеству.
Одно из проявлений ответственности в том „конфликтно-неразрешимом положении вещей“, которое Вы так хорошо описали, можно найти, на мой взгляд, в творческой установке: разрешить невозможно, разрешать необходимо каждому на своем месте, в свое время и своим делом. Разрешать в том числе и на путях осознания своей „частичности“, своей причастности и своего участия в выборе пути: созидания или разрушения, согласия или разлада, усилия мира или насилия войны.
Выбор перед лицом неразрешимых конфликтов XX века не просто труден, он часто представляется реально невозможным тем более, что различные предлагаемые возможности оборачиваются очень опасными утопиями. Об этом, по-моему, одно из стихотворений Булата Окуджавы:
- Немоты нахлебавшись без меры,
- с городскою отравой в крови,
- опасаюсь фанатиков веры,
- и надежды, и поздней любви.
- Как блистательны их карнавалы —
- каждый крик, каждый взгляд, каждый жест…
- Но зато как горьки и усталы
- окончания пышных торжеств!
- Я надеялся выйти на волю.
- Как мы верили сказкам, скажи?
- Но мою злополучную долю
- утопили во зле и во лжи.
- От тоски никуда не укрыться,
- от природы ее грозовой.
- Между мною и небом – граница.
- На границе стоит часовой.
Диалогическое мировоззрение противостоит всяческим – и научным, и эстетическим, и религиозным – утопиям, но содержит в себе неутопическую надежду на то, что „часовой“ человеческой ответственности не уйдет со своего поста „на границе“. И Ваш вопрос о том, где ее (науки) место, я бы переформулировал: где место каждого из нас, ею (наукой) занимающихся, и насколько мы сможем исполнить свое, погранично-разделяюще-объединяющее человеческое дело».
Эта переписка дает, по-моему, возможность понять и почувствовать проблемные центры тех моих научных и учебных занятий, результаты которых собраны в этой книге. Что представляет собою произведение художественной литературы в своей специфической сути, каково его жизненное, человеческое значение, какими должны быть адекватные его природе научный анализ и интерпретация – и как соотносятся в этих процессах «сухая теория» и «древо жизни», литературоведческая специализация и целостное мировоззрение? В поисках ответов на эти вполне профессиональные теоретико-литературные вопросы в глубине их обнаруживается общежизненное человеческое содержание и значение.
В различных дискуссиях о литературоведческом изучении произведений неоднократно проявлялись четко сформулированные В. И. Тюпой «две крайности в области теории художественного целого»: «Одна состоит в том, что в качестве художественной целостности рассматривается не само произведение, а его сложно организованный носитель – текст; другая… усмотрение целостности не в художественно сотворенном произведении, но лишь в его неуловимом, „нерукотворном“ поэтическом мире. Онтология же литературного произведения… все еще нуждается в дальнейшей методологически основательной разработке„ 2 . Актуальной задачей современной теории литературы я считал и считаю преодоление этого онтологического разрыва, и в этом один из основных стимулов развития теории художественной целостности, которая представлена в данной книге.
Поэтический (художественный) мир – идеальное духовное содержание литературного произведения. Художественный текст – необходимая и единственно возможная форма существования этого содержания. А произведение в его подлинной сути – двуединый процесс претворения мира в художественном тексте и преображения текста в мир. Первоначальное единство мира и текста, их разделение, исключающее тождество, наконец, их взаимообращенность, переход друг в друга – в первой и второй частях книги аргументируются эти основания, дающие возможность говорить о литературном произведении как художественной целостности: образе целостности мира и человека, человеческого бытия и сознания, их единства, обособления и общения друг с другом на основе глубинной неразрывности.
Истоки теории произведения как художественной целостности можно особенно ясно увидеть при переходе от традиционалистской к индивидуально-авторской, или исторической, эпохе развития литературно-художественного сознания 3 . В первой части книги особое внимание обращается на то, как вызревают новые взгляды на литературное произведение в русской эстетической и теоретико-литературной мысли первой половины XIX века: именно в этот период переосмысливаются принципы жанрового мышления и суверенитет произведения как целостной эстетической индивидуальности осознается все более отчетливо.
Движение мысли о литературном произведении как целостности выдвигает в качестве одного из главных героев второй части книги категорию стиля как организующего закона и в то же время непосредственно воспринимаемого единства всех элементов художественной формы, в создании и эстетическом совершенстве которой проявляет себя целостная творческая индивидуальность. Стиль в его эстетическом значении делает непосредственно ощутимым переход от многообразия элементов, из которых состоит художественный текст, к единому миру, который не сводим не только к сумме элементов, но и к их системно-конструктивному взаимодействию. В отдельном слове он соотносится с принципиальным смысловым избытком, в этом слове воплощенном, но ему не принадлежащем. А во всем произведении стиль превращает текст в ту неразложимую на обособленные части целостную индивидуальность, которая только и позволяет говорить о творческом воспроизведении единства жизни в созданном автором художественном мире. Именно выражением этого единого (или едино-раздельного) и ни в какой «войне» неуничтожимого мира, в каждом моменте которого присутствует его творец, является стиль – способ бытия творческой индивидуальности, способ бытия человека-автора в его творении.
В качестве одного из наиболее пристально рассматриваемых носителей стиля при развертывании теории художественной целостности, представленной в этой книге, выступает ритм. Он объединяет всю речевую «поверхность» художественного текста, превращает простую последовательность внешне обозримых и непосредственно ощущаемых речевых элементов в последовательность значимую, в единство развертывающегося смыслообразующего процесса. Реализация стиля как выражения внутреннего единства и целостности произведения во многом связана с «проникающей» ролью ритма, с тем, как он взаимодействует с другими структурными слоями, «наполняет» их и своим порядком, и своим движением.
Ритм непосредственно соотносится с композиционной организацией художественного текста, как с упорядоченностью любого движения и с движением в любой упорядоченности. В то же время ритм объединяет слово и внесловесную реальность. Поэтому в ритмической композиции можно усмотреть своего рода пограничную область, где стилевое преображение текста может выступить наиболее выраженно. Этим обусловлено активное привлечение ритмической композиции для проверки теории в работе: при анализе и интерпретации литературных произведений как художественной целостности.
Аналитические опыты, собранные во второй части книги, – результат стремления раскрыть в закономерной организованности художественного текста стилеобразующие принципы, которые переводят текст в новое эстетическое качество, проявляют смысловую направленность, личностно-творческое содержание и значение всех внешних форм словесной выразительности. Стилевой центр, к которому направлен анализ, представляет собой основу объединения и общения автора – героя – читателя в произведении как художественной целостности.
Следующим шагом развертывания теории является представленная в третьей части книги конкретизация онтологической природы литературного произведения как бытия-общения, которое может быть адекватно осмыслено диалогическим сознанием. Здесь, во-первых, предпринята попытка на фоне существующей многозначности и моды на диалог выявить исток и первоначальную смысловую определенность онтологической трактовки диалога как одной из основ человеческого бытия и сознания. Во-вторых, предметом специального рассмотрения становится эстетический и теоретико-литературный потенциал диалогических идей, взаимодействие теорий диалога и художественной целостности. В-третьих, аналитический материал этой части книги содержит попытку ответа на вопрос о том, как бытие-общение может диалогически осознаваться, осуществляться и прочитываться в поэтике литературного произведения.
Целостность человеческого бытия эстетически выявляется в художественной целостности произведения искусства: в единстве, разделении и взаимообращенности мира – произведения – текста, автора – героя – читателя. С другой стороны, гарантом взаимосвязи художественной целостности и жизненной реальности и вообще реальным объединителем и «осуществителем» общения, как я уже говорил в одном из только что приведенных писем, является единственная, ответственная и отвечающая человеческая личность лицом к лицу с другой, столь же единственной и столь же ответственной. Обращенность к единственной личности становится внутренней установкой литературного произведения, и только при осуществлении такого контакта бытие-общение может стать духовной реальностью.
В последовательности и логической взаимосвязи трех частей книги я стремился обобщить свой опыт сорокалетней разработки теории художественной целостности и проверить, насколько в этом опыте проявляется адекватная своему предмету научная целостность: единство основных теоретических идей, их обособление, развитие и взаимообращенность друг к другу. О результатах такой проверки судить, естественно, читателю.
Примечания
1. См.: Кораблев А. А. Донецкая филологическая школа. Вып. 1. Донецк, 1998; Вып. 2. Донецк, 1999; Вып. 3. Донецк, 2000.
2. Тюпа В. И. Формула работы // Вопросы литературы. 1982. № 12. С. 72.
3. См.: Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994.
I. ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
Становление понятия «художественная целостность» и его современное значение
1
Если существует художественная литература, то существуют и литературные произведения – это представляется бесспорным. Но столь же бесспорно, что произведение осмысляется и даже называется в различные эпохи по-разному. «Поэтика» Аристотеля, как пишет Т. А. Миллер, автор вводного очерка к изданию этого труда в переводе М. Л. Гаспарова, – это «разговор о том, каким должно быть совершенное литературное произведение‚ 1 . Но самого– то этого понятия и специального слова, его обозначающего, в «Поэтике»» нет, а поэтическому произведению современного перевода («о том, как должны составляться сказания, чтобы поэтическое произведение было хорошим») 2 в оригинале соответствует «поэзия» (noiqoiq). Это, кстати сказать, сразу же проясняет плодотворность сопоставления двух путей осмысления литературных явлений: то ли, как нам привычно думать, литература состоит из множества литературных произведений, то ли художественная литература расчленяется на множество произведений, проявляя в каждом из них свою сущность. Во всяком случае, проблема единства литературного произведения возникает и развивается вместе с возникновением и развитием искусства слова во взаимосвязи движения поэтического творчества и научно-теоретической рефлексии, литературных явлений и литературоведческих понятий 3 .
«О поэтическом искусстве как таковом и о видах его‚ 4– таков основной предмет сочинения Аристотеля. И если родовым признаком искусства поэзии является «подражание», то свою видовую качественную конкретизацию оно получает в трагедии, комедии, эпопее («эпосе»), т. е. в поэтических жанрах, характеристика которых объединяет предмет, способ и средства подражания. Именно жанр определяет единство поэтического целого, и это становится одной из характерных черт многовековой эпохи литературно-художественного развития 5 , которую вслед за Э. Р. Курциусом в современном отечественном литературоведении определяют как «рефлективный традиционализм» (С. С. Аверинцев), «морально-риторическая система» (А. В. Михайлов), «эйдетическая поэтика» (С. Н. Бройтман) и др.
Закономерность: только жанровая определенность делает литературное произведение художественно значимым единством – особенно напряженно и отчетливо проявляется в классицизме, где вообще нормативность и традиционализм доводятся до предела в предчувствии последующих переломов и переходов к посттрадиционалистской эпохе. «Поэт-классицист не присутствует в своих произведениях как личность, – писал Г. А. Гуковский. – Его стихотворения соотносятся не с его индивидуальностью, а с идеей жанра, идеей истины в рационалистическом ее толковании и в ее разделенности в пределах жанровых схем. В стихотворении раскрывается не душа поэта, а над ним парящая надиндивидуальная истина понятия. Отсюда и отсутствие объединения стихотворений одного поэта в образе их автора, отсюда отсутствие лирического единства книги поэта. Оды, элегии, идиллии, духовные оды, сатиры – в каждом из этих жанров другая душа, и каждый из них подчинен другому закону слога, тона (теория трех штилей)‚ 6 . К этому только следует добавить, что жанр здесь – не просто схематичная норма и свод правил, а прежде всего определенный тип единства слова и внесловесной социально-культурной жизнедеятельности, определенный тип воплощения и создания в слове единства человеческой жизни в ее разумной устроенности и расчлененности.
Древний жанровый принцип единства слова и внесловесной жизнедеятельности, развиваясь и осуществляясь через античный традиционализм литературных канонов и правил, делает в новых общественно-исторических условиях соблюдение жанровых установок формой включения реально-действенной основы в слово, в словесное воплощение процессов «выработки» личности, «присваивающей», делающей своим содержанием общность жизнеотношения, поведения, чувства. Как писала Л. Гинзбург, «жанровая система охватывала по-своему важнейшие области жизни человека – общественной и частной. Она претендовала на универсальность и именно потому на право ограничивать круг предметов изображения. Поэт не придумывает тему стихотворения, он ее выбирает. Элегический поэт творит не тему, а вариацию, а вариация может стать большим произведением искусства‚ 7 .
Таким образом, «отдельность» произведения и поэтической личности – это «вариации», элементы жанрового единства, а жанр – средостение, объединение столько же индивида и общественного целого, сколько индивидуальности литературного произведения и бытия искусства в социуме.
Поэтому, скажем, выражение в одах Ломоносова общенациональных чувств и рецептов социального поведения не исключало и даже в определенной мере обусловливало то «освобождение индивидуума в поэтическом мире», о котором писал К. Аксаков: «Ломоносов был автор, лицо индивидуальное в поэзии, первый, восставший как лицо из мира национальных песен, в общем национальном характере поглощавших индивидуума; он был освободившийся индивидуум в поэтическом мире, с него началась новая полная сфера поэзии, собственно так называемая литература‚ 8 . Индивидуальность здесь не надстраивается над одой, не перестраивает оду, а «выстраивается» в ней на основе полного слияния с созидаемым жанром общим чувством и лирическим восторгом, объединяющим субъекта одического слова с его адресатом. Именно такое созидание общего – «высокого», торжественного и восторженного – чувства и «заражение» им определяют собой как общий витийственный жанр и пафос оды, так и конкретную значимость ее словесно-стихового воплощения – и это один из примеров, конкретизирующих типичное для данной эпохи жанрово-стилистическое единство произведения.
В судьбе литературного произведения и в формировании принципиально нового понятия о нем очень важную роль сыграла смена многовековой эпохи нормативного, жанрово-традиционалистского художественного сознания качественно иным этапом, возникновение которого связано с мировоззренческим, социальным и общекультурным переломом XVIII—XIX веков. Единство бытия, его божественная законосообразность и осмысленность подвергаются сомнению, все ранее сложившиеся социальные общности переживают кризис, каноны и нормы риторической культуры воспринимаются как мертвые схемы. Если раньше движение от целого к его частям опиралось на несомненную данность единства всего сущего, то теперь это единство становится все более и более сложной проблемой, требующей личностно ответственного разрешения противоречий между идеальной гармонией, заданной единосущностью бытия, и реальной раздробленностью действительности с множеством составляющих ее различных целых. В освоении этих противоречий особенно актуальным становится искусство с его установкой на выражение всеоживляющих внутренних связей многих и разных целых в реальном явлении художественного произведения.
В этой ситуации особенно актуальным для изучения становится процесс перехода от одной эпохи к другой. Наблюдая, как теоретически осваивается этот переход, можно увидеть категорию произведения в ее становлении, в исторически обусловленном движении содержания и объема понятия о художественном целом. В данном разделе главным образом идет речь о том, как вызревал новый взгляд на литературное произведение в русской эстетической и теоретико-литературной мысли первой половины XIX века. Именно в этот период переосмысливаются принципы жанрового мышления, и суверенитет произведения как целостной эстетической индивидуальности осознается все более отчетливо. Потому именно здесь могут проясниться содержательные основания, определяющие сущность литературного произведения как художественной целостности. Некоторые важные моменты дальнейшего развития этого понятия и перспективы его современной разработки рассматриваются в заключительной части раздела.
2
Вопрос о произведении как особом поэтическом целом является одним из центральных в русской романтической эстетике первых десятилетий XIX века. Чем более проблематичным по содержанию становится в эти годы бытийное жизненное целое, тем актуальнее оказывается понятие о нем, так же как невозможность исходить из заданного целого делают его не исходной точкой, а целью и идеалом индивидуального творчества. «Законы частей не определяются ли сами собою, когда целое направлено к известной цели?‚ 9– в этом вопросе Д. В. Веневитинова ярко выражен общеромантический акцент на творчество целого, которое предшествует частям и определяет их.
Где же и в чем источник этого целого? Вот один из типичных ответов на этот вопрос в афоризмах И. Я. Кронеберга, который опирался на опыт немецкого и русского романтизма: "Всякое произведение искусства происходит от одной идеи, подобно величественному древу, произрастающему от одного семени… Рассмотрение поэтического творения бывает идеальное, когда мы стараемся постигнуть поэтический дух в его целости. Ибо поскольку поэзия изображает внутренний мир человека в его целости, то разные явления его должны иметь между собою связь, и произведения поэта в отношении к нему то же, что планеты в отношении к солнцу» (с. 291—292). «Творение искусства исходит от духа», – продолжает И. Я. Кронеберг и так противопоставляет его «органичному творению» в природе: «В творениях природы начало, постепенное развитие, и конец, и полное бытие оных есть неприметный для нас момент кульминации их жизни; в творениях искусства нет ни начала, ни переменного развития, ни конца, а только полное бытие во всем его блеске» (с. 295).
Здесь очень важными для истолкования литературного произведения являются два момента: во-первых, «творению искусства» единственно адекватным по содержанию утверждается «полное бытие», во-вторых, воссоздать это «полное бытие» может только творящий идею поэтический дух.
Противоборство первоначального духовного единства и реального многообразия поэзия заключает в «сомкнутый», «эстетический мир», которым и определяется существование, смысл и ценность произведения искусства. «Основание изящного, – утверждает В. Ф. Одоевский, – находится в самом лишь произведении» (с. 179), но, с другой стороны, его (произведения) значимость и ценностная определенность связаны исключительно с этим «основанием» – «индивидуальностью духа» художника или тем «средоточием, из коего все явления представились бы ему в гармонической, живой целостности» (с. 182, 188). Потому основным содержанием понятия «произведение» становится здесь целостность «полного бытия» и снова и снова производящая эту целостность творческая духовная индивидуальность, «деятельность дарования», как писал П. А. Вяземский в одном из первых манифестов романтизма (с. 152), энергия и смысл этой деятельности.
«Сомкнутый эстетический мир» произведения искусства представляется в то же время как «всеохватный», и такое противоречие содержит в себе важную для развития этого понятия перспективу. Она порождает стремление преодолеть обособленность «эстетического мира» и раскрыть его специфику не на основе отделения и отрицания, а путем объединения и преображающего включения в него всех сторон человеческой жизни. Специфика и универсальность эстетического впервые осознаются как единство противоположностей в теории и практике немецкого романтизма. В русской поэтике эта идея становится одним из центров «Опыта науки изящного» А. И. Галича: «Человек, по единству существа своего, как малый мир, желал бы обладать совершенствами своей природы в совокупности; желал бы свое истинное и доброе, по себе нечто идеальное, созерцать в таких произведениях, которые увеселяли бы его чувства… Сия потребность духовно-чувственного существа раскрываться в таких явлениях, в которых и умственные и нравственные силы его находят одинаковую занимательность, называется эстетической, а самые предметы, по возможности удовлетворяющие оной, – изящными… посему изящное… относится ко всем силам человеческой природы, кои притом предполагаются не только раскрывшимися, но и беспрепятственно стройно действующими в приличном расположении» (с. 214—215).
На этой основе Галич впервые в русской эстетике развивает и детализирует одно из основных положений теории немецкого романтизма – идею «изящного организма». Романтический организм основывается на все более интенсивном утверждении вселенского и всечеловеческого масштаба как единственно адекватного для истинного искусства. Его глубинную основу определяет, как пишет Н. А. Полевой, «общий объем природы и человека… в современной полноте» (с. 347), для «строгого суждения» о нем необходимо «все человечество созерцать как единого человека» (с. 351). Именно такой ход мысли, сосредоточивающий человечество в едином организме одного человека, принципиально важен и характерен для этого этапа художественного развития. В нем отражаются реальные противоречия становящегося единства всемирной истории и все большей суверенности и самоценности каждого индивидуального существования. Происходит превращение ранее сложившихся сословно-корпоративных общественных целых в «части» формирующейся личности и формирование новой личностной целостности, по-иному соотносящейся с человеческим родом. Движение искусства и порождается стремлением, пользуясь очень выразительным словом Галича, «воссозидать» «единство неисчерпаемой жизни» в организме «изящного целого» (с. 231) 10 .
Такая универсальная полнота его содержания приводит к тому, что «изящное целое» не «истощается» ни «произведениями искусств», ни «произведениями натуры»: “…изящное касательно населяемых им областей раскрывается в полном блеске тогда, когда природа встречается с искусством и дает прекрасным его призракам прекрасную жизнь и душу» (с. 231). В первую очередь здесь обостряется и развивается противоречие искусственного и естественного – одно из тех фундаментальных противоречий, которыми движется жизнь художественного произведения и его теоретического осознания. Очень важна и намечаемая Галичем перспектива разрешения этого противоречия в уникальной полноте жизненного осуществления «изящного целого».
Еще более определенно такая жизненная полнота, объединяющая «изящный предмет», «чувство, какое он в нас производит», и «силу, какою он сотворен», утверждается в диалоге С. Шевырева. Предмет диалога – «единый закон для изящного», и раскрывается он как единая «душа», которая обнаруживается и внутри «изящного предмета», и внутри творца, и внутри воспринимающего зрителя. И не просто обнаруживается, но формирует единое целое, в котором взаимопревращаются друг в друга творец и воспринимающий его творение: «Когда же ты поймешь закон красоты, когда разгадаешь сию тайну художника, тогда, отдавши себе отчет в его произведении, ты как будто снова пересоздашь его, ты будешь сам творить» (с. 511). С другой стороны, общение с прекрасным предметом и прояснение его глубинного закона – «души» – истолковывается Шевыревым и как общение с самим собой – потому «в познании самого себя надлежит искать закона для изящного», а этот «единый закон, действуя различными путями, приводит нас к единому всеобъемлющему чувству – к согласию с самим собою и со всем миром, нас окружающим» (с. 514—515).
Однако чем более расширяется и углубляется представление о субъективно-духовном художественном целом, тем неизбежнее становится возврат на этом новом уровне к вопросу о его объективной основе. Если в крайностях концепции подражания человек оказывался не творцом, а лишь исполнителем высшей – Природной или Божественной – воли, то теперь природа и даже вообще объективная реальность человеческого существования лишается каких бы то ни было перспектив внутреннего развития и обращается лишь в объект восприятия, проникновения, открытия творческой индивидуальности, ее духовной энергии, все из себя порождающей субъективности. Развитие внутреннего содержания «эстетического, сомкнутого мира» порождает тенденцию к его разомкнутости в реальный ход жизни. Одно из первых отчетливых выражений этой тенденции можно увидеть у Н. И. Надеждина, в его попытке наметить диалектику перехода «единства и неизменности» человеческой природы и многообразия ее явлений в аналогичные отношения единого мира искусства и бесчисленного множества произведений и периодов художественного развития, в которых «сокращенно выражается общее направление современного просвещения, общий дух современной жизни» (с. 418).
В суждениях Надеждина о новом этапе развития искусства интересен не умозрительный синтез классицизма и романтизма, а путь конкретизации этого нового этапа в объединении трех характеристик: всеобщности, естественности и народности – они и призваны раскрыть оригинальность современного периода. Именно через естественность и народность и намечается переход от всеобщности и универсальности к индивидуальным выражениям бесконечного многообразия и новизны. «Всеобъемлющий взгляд на жизнь, к коему очевидно стремление современного гения», предполагает, в логике Надеждина, «нисхождение изящных искусств в сокровеннейшие изгибы бытия, в мельчайшие подробности жизни, соединенное со строгим соблюдением всех вещественных условий действительности» (с. 454—455).
«Всеобъемлющее единство» процессов и результатов «современной художественной деятельности» наиболее отчетливо представлено, по мнению Надеждина, в романе, «где эпическая изобразительность проникается лирическим одушевлением, где жизнь представляется во всей полноте живой драмы» (с. 452). А частным требованием, необходимым для существования и действенности этого «всеобъемлющего единства», как раз и является его естественно-природное и народно-историческое своеобразие. Однако, провозглашая это своеобразие, Надеждин все же интересуется им гораздо меньше, чем всеобщностью, да и «первообраз красоты» мыслится им абсолютным и неизменным (с. 478). Поэтому многие его теоретические характеристики до конкретности произведения просто не доходят – для этого нужен гораздо более активный контакт теоретического размышления с живым процессом литературной жизни, с историческим развитием художественной практики.
Решающий поворот в становлении понятия о литературном произведении как художественной целостности осуществляется на стыке эстетики и критики авторами, особенно близкими к реальному движению литературы: И. В. Киреевским и В. Г. Белинским. Но прежде чем непосредственно обратиться к их суждениям, надо сказать о двух важнейших предпосылках становления данного понятия: о высших достижениях философии художественного произведения, представленных в эстетике Шеллинга и Гегеля, и о тех качественных переменах в художественной практике, которые служили плодотворной основой для нового взгляда на произведение и которые наиболее отчетливо выражены в творчестве Пушкина.
3
Центр философии искусства, утверждает Шеллинг, – «не искусство, как данный особенный предмет, но универсум в образе искусства„ 11 . Именно здесь основа выделения, или, говоря языком немецкого философа, конструирования художественного произведения в его самостоятельном значении и ценности. У Шеллинга выражен своего рода предел, противостоящий многовековому взгляду на произведение как на «часть» или вариацию чего-то более общего: поэзии, жанра и т. п. Теперь же, наоборот, все исходит из произведения, напрямую соотнесенного с универсумом, поскольку он «построен в боге как абсолютное произведение искусства» (с. 85).
Универсум именно построен как произведение, так что в этом понятии основным является акцент на деятельность, на творческую «способность индивидуации»: «божественное творчество объективно выявляется через искусство, ибо последнее коренится в том же воплощении бесконечной идеальности в реальном, на котором основано и первое. Превосходное немецкое выражение „способность воображения“ (Einbildunskraft) означает собственно способность воссоединения, на которой на самом деле основано всякое творчество» (с. 85). Произведение искусства и строит «воссоединение» идеального и реального, бесконечного и конечного, сознательного и бессознательного, познаваемого и созидаемого – только благодаря такому воссоединению оно и может предстать как «особенная вещь»: “… в истинном универсуме для особенных вещей может быть место лишь постольку, поскольку они вбирают в себя неделимый универсум и, таким образом, сами суть универсумы» (с. 88).
От первоначального единства мирового абсолюта к внутренне обусловленному саморазвивающемуся обособлению его проявлений и к столь же необходимому их творческому воссоединению – такова, по Шеллингу, логика развития содержательной основы понятия «произведение искусства».
Основным достижением Шеллинга и становится развертывание диалектики «особенного произведения искусства»: «…раз искусство может объединяться только в индивидууме, но притом всегда абсолютно, то дело сводится… к синтезу абсолютного с особенным» (с. 177). Речь идет именно о развертывании диалектической характеристики как всеобъемлющей и всепроникающей. Она определяет, во-первых, процесс создания, порождения произведения искусства как единичной действительной вещи, «через которую в идеальном мире абсолютное становится реально-объективным» (с. 160). В творческом «продуцировании» гения разрешается противоречие абсолютной, божественной сущности и конкретного человеческого существования, возвышающего в произведениях искусства эмпирическую необходимость до абсолютной: «Гений отличается от всего, что есть лишь талант, тем, что последний обладает только эмпирической необходимостью, в конечном счете представляющей случайность, между тем как первый – абсолютной необходимостью. Каждое подлинное произведение искусства абсолютно необходимо: такое произведение искусства, которое одинаково могло бы быть и не быть, этого имени не заслуживает» (с. 162—163).
Во-вторых, эта диалектика творчества развертывается в диалектику бытия, объединяющего процесс и результат «продуцирования» гения. Шеллинг конструирует здесь противоположности поэзии и искусства: поэзия облекает бесконечность бытия в конечное жизненное явление – символ универсума, а искусство делает конечное и определенное («прекрасное») художественное создание воплощением бесконечного и всеобщего («возвышенного») содержания. Двуединый и двунаправленный процесс творчества преображает нераздельность и неслиянность поэзии и искусства во внутреннее единство содержания и формы поэтических произведений – созданий «органического духа» (с. 461). С другой стороны, фундаментальное противоречие особенного и абсолютного проявляется в каждой из этих противоположностей как противоречие наивного и сентиментального в поэзии и манеры и стиля в искусстве.
Важнейшими характеристиками произведения искусства у Шеллинга являются: в сфере значения – символ, где «ни общее не обозначает особенного, ни особенное не означает общего, но где то и другое абсолютно едины» (с. 106), а в сфере бытия – организм, который «есть всецело форма и всецело материал, всецело деятельность и всецело бытие» (с. 219).
Именно универсальностью внутренней жизни, заключенной в таком организме, целостностью создающего его и живущего в нем бытия и смысла определяется самостоятельность художественного произведения, его обособленность и замкнутость. Вот как эти общие характеристики разъясняются Шеллингом применительно к поэзии: "Поэтическое художественное произведение подобно всякому другому должно быть абсолютностью в особенном, некоторым универсумом, небесным телом. Это возможно не иначе как путем обособления речи, в которой находит свое выражение произведение искусства, от целокупности языка. Но это обособление, с одной стороны, и абсолютность – с другой невозможны без того, чтобы речь заключала в самой себе свое собственное независимое движение и тем самым свое время… этим она отмежевывается от всего остального, причем следует определенной внутренней закономерности… Стихотворение вообще есть некоторое целое, содержащее в себе самом свое время и свою энергию, представляя таким образом нечто обособленное от языка в целом и полностью замкнутое в себе самом" (с. 341, 343).
При глубокой характеристике внутренней жизни произведения, которое не смывается общим потоком временного движения именно потому, что запечатлевает этот поток внутри себя, в своей внутренней закономерности, – все же диалектика внешнего и внутреннего здесь намечается лишь в самом общем виде. Однако не следует недооценивать при этом глобального историзма Шеллинга, его противопоставления древнего и нового искусства с точки зрения основополагающей для художественной целостности диалектики абсолютного и особенного. Глубока и значительна мысль философа о том, что «мифология не может быть созданием ни отдельного человека, ни рода (поскольку последний есть только собрание индивидуумов), но лишь рода, поскольку он сам есть индивидуум и подобен одному отдельному человеку» (с. 114).
Такой взгляд на первоначальное единство родового и индивидуально-личного в исторически первичной форме существования «самостоятельного мира» и «поэтического целого» (с. 105) развивается в дальнейшем отграничении от мифологии и искусства древнего мира «новой поэзии», которая «уже не есть поэзия для особого народа, оформившегося в род, но поэзия для всего рода человеческого и должна строиться… из материала всей истории последнего со всеми ее разнообразными красками и звуками» (с. 144—145).
И чем более новое время становится миром всего человеческого рода, тем более оказывается оно и миром индивидуумов: "…новый мир является миром индивидуумов, миром распада именно потому, что в нем господствует общее" (с. 147). Здесь корень обострения проблемы художественной целостности именно как взаимосвязи единства, множественности и единственности отдельного художественного произведения и проявляющейся в нем диалектики универсальности и оригинальности: "…основной закон поэзии есть оригинальность (в древнем искусстве это имело отнюдь не такой смысл)… пока история не воспроизводит мифологии в общезначимой форме, остается основное требование, чтобы сам индивидуум создавал себе свой поэтический мир, а поскольку общая стихия нового времени – оригинальность, то вступает в силу закон, по которому чем произведение оригинальнее, тем оно универсальнее; только от самобытности необходимо отличать узкое своеобразие" (с. 148—149).
Так намечается Шеллингом еще один, действительно очень актуальный аспект развертывания диалектической природы художественного произведения: отражение в нем противоречий существования и проявления индивида в человеческом роде и рода в индивиде. «Здесь коллективен индивидуум, как у древних – произведение», – пишет Шеллинг, сопоставляя Шекспира и Гомера. Но мысль эта может быть интерпретирована и более обобщенно. Художественное целое древнего искусства – это жанровое целое, которое в самом деле как целое создается многими и составляет своего рода «коллектив» индивидуальных вариаций, реализующих канон или норму. Художественная целостность искусства нового времени все в большей и большей мере развивается, обособляется и создается как конкретное целое отдельным индивидуумом, но лишь постольку, поскольку он оказывается не абсолютной «единицей», а проявлением человеческого рода в неповторимой духовной индивидуальности, внутренняя «коллективность» которой способна преобразовывать различные человеческие существования в личностное единство.
Но при всей мощи диалектических характеристик произведения у Шеллинга они все же страдают отвлеченностью от реального процесса развития искусства и связанной с этим абстрактной абсолютизацией тех двух начал, борьба и синтез которых конструирует произведение искусства, определяя его сущность и целостность. Более конкретно и систематически диалектическая природа художественного произведения раскрывается Гегелем. Идеальное содержание искусства, особенные формы его исторического развития и единичность реального существования, «действительное внешнее бытие» – все это обретает определенность, по логике Гегеля, только в понятии художественного произведения.
В соответствии с таким ходом мысли Гегель утверждает необходимость теоретического движения не от видов искусства и жанров к реализующему их конкретному художественному произведению, а, наоборот, от природы произведения как исходной точки и основания классификации всех художественных – в том числе и жанровых – форм. И одна из основополагающих характеристик этой исходной основы заключается в том, что «мы должны понимать художественное произведение… как организм», в единичности которого может воплощаться «целостность различных форм искусства», а с другой стороны, элементы такого организма могут «становиться самостоятельным целым» 12 .
Производящая из себя все, в том числе и произведение искусства, гегелевская «абсолютная идея» столь же абсолютно духовна, как и универсум Шеллинга, но она более внутренне динамична, одним из ее смысловых центров оказывается именно конкретность развития в саморазвивающемся многообразии ее различных воплощений, – с другой стороны, искусство с «живой индивидуальностью» его созданий максимально способствует такой конкретизации. Потому в уже сложившемся у Шеллинга представлении о произведении как организме и замкнутом мире Гегель особенно акцентирует именно содержательную конкретность, внутреннее развитие и глубинную неделимость этого мира: "… завершенность и замкнутость в поэзии мы должны понимать одновременно и как развитие, членение и, следовательно, как такое единство, которое, по существу, исходит из самого себя, чтобы прийти к действительному обособлению своих различных сторон и частей … как бы ни был велик тот интерес, то содержание, которые поэзия делает центральным моментом художественного произведения, оно в равной мере организует и все малое, – подобно тому, как и в человеческом организме всякий член, каждый палец образует изящнейшее целое и как вообще в действительности любое существо представляет замкнутый внутри себя мир" (т. 3, с. 364).
Духовное единство объективного мира и внутренние связи его переходят, согласно гегелевскому толкованию произведения, в форму «реального явления», в его внутреннюю, органически развивающуюся жизнь: "…поскольку произведение искусства представляет все в формах реального явления, то единство, чтобы не нарушить живой отблеск действительности, само должно быть только внутренней нитью, связывающей все части с видимой непреднамеренностью в органическую целостность" (т. 3, с. 367). Художественное произведение представляет собою, с такой точки зрения, «то индивидуальное единство, в котором всеобщее и целостная индивидуальность должны быть просто тождественными, самоцелью для себя, замкнутым целым» (т. 3, с. 371).
«Целостная индивидуальность» является одной из основополагающих и очень плодотворных характеристик художественного произведения. Прежде всего, именно в ней обретает гораздо большую, чем у Шеллинга, конкретность представление о содержании и форме произведения: «То обстоятельство, что конкретность присуща обеим сторонам искусства: как изображаемому содержанию, так и форме изображения, – как раз и является той точкой, в которой они могут совпадать и соответствовать друг другу» (т. 1, с. 76). И если художественное произведение представляет собою «индивидуальное формирование действительности, обладающее специфическим свойством являть через себя идею» (т. 1, с. 79), то, с другой стороны, «лишь подлинно конкретная идея порождает истинный образ, и это соответствие их друг другу есть идеал» (т. 1, с. 81). "Идеал, – разъясняет Гегель, – представляет собой отобранную из массы единичностей и случайностей действительность, поскольку внутреннее начало проявляется в этом существовании как живая индивидуальность" (т. 1, с. 165).
Таким образом, целостная индивидуальность представляет собою первоначальное единство, саморазвивающееся обособление и глубинную неделимость абсолютного духа и его явлений в многоразличии человеческих существований и «формирований действительности».
В жизни целостной индивидуальности и осуществляется взаимопереход противоположностей, коренное преображение предметов и явлений действительности в духовное содержание, а словесного материала – в форму поэтического произведения, где языковой знак преображается в плоть духовного представления: «…поэтическое становится поэтическим в узком значении слова только тогда, когда оно действительно воплощается в слове, обретая в нем законченность» (т. 3, с. 390). Именно «живой человек», «говорящий индивид» – это формирующий центр произведения, субъект преображения знака в плоть целостного смысла: "…речь не выступает здесь… сама по себе, независимо от художественного субъекта, но только сам живой человек, говорящий индивид является носителем чувственного присутствия и наличной реальности поэтического создания" (т. 3, с. 418).
Человек, проявляющийся как целостная индивидуальность, – таков центр содержания и формы произведения как художественного целого: «„Новым святым“ современного искусства становится Humanus – глубины и высоты человеческой души как таковой, общечеловеческое в радостях и страданиях, в стремлениях, деяниях и судьбах» (т. 2, с. 318), и это общечеловеческое содержание предстает в художественном произведении как реально объединяющее множество индивидов. В противовес «коллективу индивидуумов» Шеллинга Гегель утверждает, что дух существует только как «единичное действительное сознание и самосознание» и поэтому «необходим для единого в себе произведения искусства единый в себе дух одного индивида» (т. 3, с. 431—432). Но внутренним его содержанием может быть «дух эпохи», «дух нации» – это "субстанциональное и действенное начало, но само оно только тогда выявляется как что-то действительное в качестве произведения искусства, когда постигается индивидуальным гением одного поэта, который доводит до сознания и раскрывает этот всеобщий дух и его содержание как свое собственное созерцание и создание" (т. 3, с. 431). И как «свое другое» по отношению к «единичному действительному сознанию и самосознанию» выступает общезначимое содержание и действие художественного произведения, позволяющее Гегелю сказать, что оно – «всеобщее достояние, как бы произведение всех» (т. 4, с. 78).
Диалектика человеческого рода и индивида в целостной индивидуальности порождает одновременную и взаимосвязанную актуализацию понятий: поэтическое произведение и поэтический род. Именно и только теперь – у Шеллинга и особенно у Гегеля – литературный род оказывается не «способом подражания», а определяющей характеристикой мира, созидаемого произведением и в произведении: "В отношении органического единства и расчлененности художественного произведения существенные различия вносят как особенная форма искусства, из которой происходит художественное произведение, так и определенный род поэзии, в соответствии с особым характером которого оно формирует себя" (т. 3, с. 368).
«Любое произведение искусства представляет собой диалог с каждым стоящим перед ним человеком», – пишет Гегель (т. 1, с. 274), однако тут же утверждается объединяющий всех истинный идеал и всеобщий интерес, которые преодолевают и снимают «частное своеобразие» индивида и публики, как и отдельной исторической эпохи и культуры. Так, «истинная субъективность» и «истинная объективность» являют собою тождество противоположностей и совпадают в «согласующемся в себе и завершенном мире», который образует художественное произведение (т. 1, с. 273—274): «Даже те, кто не смог бы создать такого произведения, находят в нем выраженной свою собственную сущность. Подобное произведение оказывается, таким образом, истинно всеобщим. Оно получает тем большее одобрение, чем более исчезает в нем особенность его создателя» (т. 4, с. 153). Конечно, общезначимость здесь абсолютизируется, стушевывая историческую многоликость содержаний и форм развивающейся действительности и личностное многообразие человеческих индивидуальностей. Но в то же время напряженность диалектического сопряжения полюсов: я и все – в гегелевской целостной индивидуальности раскрывает очень существенную жизненную основу художественного произведения, духовный источник становления и существования его внутреннего мира, который опирается на первичное единство всех и каждого, их неизбежное обособление и общение на основе все-таки сохраняющейся глубинной неделимости в абсолютном духе.
4
Отечественная теория литературного произведения была очень внимательна к опыту западноевропейской эстетики, французской и особенно немецкой. Но основным стимулом ее развития являлась, безусловно, художественная практика первых десятилетий XIX века и происходящие в ней коренные изменения в статусе отдельного литературного произведения.
Может быть, наиболее отчетливо такую взаимосвязь можно увидеть в судьбе стихотворения и переменах в значении этого термина. В первых поэтиках XVIII века стихотворение в большей степени означает «сочинение стихов», нежели «сочинение в стихах», и доминирование жанрового мышления непосредственно отражается в соответствующих названиях поэтических книг. В них абсолютно преобладают жанровые имена: «Оды», «Новые оды», «Философские оды или песни», «Нравоучительные басни», «Элегии» – вот типичные варианты. «Стихотворение» же если и появляется, то чаще всего лишь в одном из разделов этих жанровых сборников: разделе «Смесь или разные стихотворения».
На сломе жанрового мышления в начале XIX века чаще появляются названия, во-первых, лишенные жанровой определенности, а во-вторых, более личные: «Плоды трудов моих» К. Калайдовича, «Мои свободные минуты» Л. Кричевской, «Мои безделки» Н. Карамзина, «И я автор» И. Бахтина и т. п. И лишь в 20-х годах название «Стихотворения» возникает все чаще: именно так именуют свои сборники, в частности, Пушкин, Баратынский, Дельвиг. А в следующем десятилетии возникает резкий и явный перелом: если до этого меньше четверти всех выходивших книг назывались «Стихотворения», то в 30-е годы – почти две трети 13 .
В основе происходящих перемен не только утрата былой действенности четкой жанровой иерархии и классификации поэтических форм, но прежде всего реально возрастающая суверенность отдельного стихотворения. В нем все полнее и определеннее проявляется коренная ситуация лирического рода: личности необходимо сосредоточить жизнь в едином мгновении, в предельной конкретности которого художественным усилием открывается мгновенно осознаваемое состояние мира. Именно сосредоточение и воплощение мира в лирическом миге делают стихотворение самостоятельным художественным целым, и с наибольшей ясностью и определенностью новую жизнь стихотворения осуществляет поэзия Пушкина.
Может быть, один из самых замечательных и очевидных примеров – лирическое мгновение стихотворения «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), которое вмещает в себя и воспевание счастливого мига, и воспоминание о нем, и его, казалось бы, полную утрату, и воскресение, когда:
- Душе настало пробужденье:
- И вот опять явилась ты,
- Как мимолетное виденье,
- Как гений чистой красоты.
- И сердце бьется в упоенье,
- И для него воскресли вновь
- И божество, и вдохновенье,
- И жизнь, и слезы, и любовь.
"То, что с самого начала является и остается только лишь чем-то утвердительным, является и остается безжизненным. Жизнь движется вперед, переходит к отрицанию и его боли, и лишь посредством уничтожения противоположности и противоречия она является для самой себя утвердительной", – писал Гегель (т. 1, с. 104—105). В поэзии целостность «утвердительной жизни» субъекта обретает конкретность существования, неотрывного от реальной действительности так же, как неотрывны с первых строк общепоэтическое «чудное мгновенье» и конкретно-жизненное, даже биографическое «передо мной явилась ты» – отзвуки этого зачина в рифмах проходят через все стихотворение, проявляя и жизненную многоплановость, и смысловые границы формирующегося в нем единства.
Оно действительно охватывает не просто разные, но и прямо противоположные состояния человеческой души и жизни, так что, казалось бы, неразрешимое противоречие жизни и смерти чудного мига все же разрешается в финальном утверждении. «И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь» – это не пять перечисляемых однородных членов, «частей», а повтор синонимических выражений жизненной целостности, полноты чудного мгновенья человеческой жизни. Преходящий миг и нетленный мир – эти коренные противоположности бытия гармонически согласуются в поэтическом целом.
Ни реальная Анна Петровна Керн, ни идеальная Мадонна Рафаэля не могут исчерпать пушкинского «гения чистой красоты», хотя и нераздельно в нем отражаются. Эта «бездна пространства» включается в художественное целое лирического стихотворения Пушкина так, что противоположности общечеловеческой истины и красоты и индивидуально неповторимой действительности объединяются в органической жизни поэта, претворяющего биографическую реальность в идеальную целостность личности. Плотью существования этой идеальной целостности становится стих, который, «как тело человека, есть откровение, осуществление души-идеи». И как преображаются и общие мысли, и биографические факты, раскрываясь в своей истине и красоте, в своем подлинно человеческом, поэтическом содержании, так же совершенно новую жизнь обретает в произведении Пушкина и стихотворный язык, все сложившиеся приемы, формы и особенности стиховой организации: этот стих, «явивший собою что-то небывалое, не похожее ни на что прежнее… был представителем новой, дотоле небывалой поэзии» 14 .
А внешне тут, казалось бы, совсем нет ничего нового. Наоборот, и четырехстопный ямб, и кольцевая композиция, и трехчастность ритмического движения, и другие отдельные особенности стиха не были изобретением Пушкина, так же как «чудное мгновенье», «мимолетное виденье» и даже «гений чистой красоты». Но все эти свойства, особенности и элементы поэтического языка еще не есть поэзия, они сами по себе не образуют поэтического целого, которое и было у Пушкина истинно новым. Оно не сводится ни к стиховой композиции, ни к смысловому восхождению к подлинным духовным ценностям жизни, ни к смене душевных состояний лирического героя. Поэтическое целое возникает лишь при встрече и взаимном преображении этих частей в единый организм – в союзе «волшебных звуков, чувств и дум» его внутреннего мира они обретают принципиально новое существование и значение. И кольцевая композиция, переставая быть техникой, становится воплощением жизни души, ее сна и пробуждения, воплощением такого духовного подъема, который возвращает то, что невозвратно и неповторимо.
У Пушкина художественное целое прежде всего соотносится именно с отдельным произведением, а не с жанром, и одно из проявлений этой смены масштабов – в способности создавать в произведениях образы различных жанров и преобразовывать разные жанровые традиции в элементы складывающегося нового – нежанрового – целого. Так, например, в «Анчаре» воссоздается эпический сюжет баллады и притчи, их событийное содержание трансформируется в доминирующем лирическом монологе, центр которого именно в том, «как субъект высказывается» (Гегель), в его правдивом и точном слове, в его голосе, который противостоит силе зла и воплощает высокое достоинство, силу духа и свободу – важнейшее свойство личности поэта.
Теперь уже не личность и воплощающий ее своеобразие стиль входят как элементы в жанровое целое, а, наоборот, жанр становится одной из основ складывающегося личностного единства, в системе взаимосвязей и диапазоне жанровых характеристик которого непременно выделяется в то же время определенная родовая доминанта.
По точному определению Ю. Н. Тынянова, «принцип, которым Пушкин руководствовался в своей критической и художественной деятельности, – это принцип рода – не столько как совокупности правил, успевших стать традицией, сколько того направления, в котором следуют этой традиции, – род как главный организующий и направляющий фактор, доминирующий над всеми отдельными элементами художественного произведения – и видоизменяющий их» 15 . В сочетании родовой доминанты со стилевой цельностью наиболее ясно проявляется принципиально новая художественная суверенность отдельного произведения, которое становится образом мира, явленным в слове. Жанровый принцип организации художественного целого уступает здесь место принципиально иному – я предлагаю назвать его личностно-родовым.
Различие этих двух принципов художественного мышления и творчества можно почувствовать, например, в размышлениях о «Борисе Годунове» П. А. Катенина: «Отдельно много явлений, достойных уважения и похвалы, но целого все же нет. Лоскутья, из какой бы дорогой ткани ни были, не сшиваются на платье; тут не совсем история и не совсем поэзия, а драмы и в помине не бывало» 16 .
И в самом деле Катенин не находит в «Борисе Годунове» того жанрового целого, которым он продолжает мыслить, отнюдь не сводя при этом жанр к внешней форме и условным правилам. Наоборот, для него это именно содержательная общность и определенность, связанная с главенствующим для Катенина разделением поэзии «по векам и народам» (с. 51). Столь же определенно требует жанр и локальной сферы раскрытия человека в действии – вот как объясняет Катенин свой взгляд на единство драматического содержания: «В содержании истинно трагическом я не знаю, кому и над чем забавляться, но в содержаниях полутрагических, без сомнения, дело может быть перемешано с бездельем; только искусство потребно, чтобы переходы от одного к другому, и в действии, и разговоре, были неприметны… То ли, я спрашиваю, во многих шекспировских пьесах, где иногда две половины, благородная и карикатурная, почти без связи между собою…» (с. 160).
Разножанровые – например, трагические и комические – элементы, по логике Катенина, можно соединять друг с другом, но лишь в том случае, если образуется из этого соединения какая-то новая жанровая же определенность. А в «Борисе Годунове», ориентированном как раз на шекспировскую полноту и многоликость в воссоздании жизненного целого, такой жанровой содержательной определенности Катенин, естественно, не находит. И многоликость воспринимается критиком как «отрывки» и «лоскутья», а новый центр, их объединяющий, не улавливается. Точнее, чуткий читатель, Катенин говорит об этом центре, даже начинает с него, но в его системе жанрового мышления это лишь часть, элемент – слог. Именно с похвалы слогу начинает свое рассуждение Катенин: «Самое лучшее в нем слог» (с. 310). Но для Катенина это всего лишь частность, а для Пушкина стиль – центр целого, личностное объединение судьбы человеческой – судьбы народной в авторе-поэте, воссоздающем историю, озвучивающем безмолвие ее истинного творца.
Личностно-родовой принцип организации художественного целого реализуется, в частности, в принципиально новой мере выявленности родовой природы произведения в его внешней форме – стихах или прозе. Только на этом этапе литературного развития отношение поэзии и прозы осознается как внутреннее противоречие искусства слова, а не противоположность искусства и не искусства. Именно Пушкин осуществил в своем творчестве классическое разграничение и внутреннее определение поэтического и прозаического художественных произведений как разных типов художественного целого. На этой основе выявилась содержательная связь самых что ни на есть материальных и «поверхностных» свойств стихотворной и прозаической речи с духовными глубинами лирического и эпического содержания и различием «субъективной» и «объективной» целостности бытия – основы жизни литературного произведения, его особого мира.
Литературный род и отдельное художественное произведение, человеческий род и отдельная человеческая индивидуальность – таковы противоположные полюса поэтического целого, творчески сопрягающего идеальную полноту бытия и реальное существование здесь и сейчас живущего человека. «Мне не спится» – вот одно из типичных пушкинских начал, сразу же ухватывающих живую конкретность реального жизненного мига. Но послушаем, что этот миг в себя вмещает:
- Мне не спится, нет огня;
- Всюду мрак и сон докучный.
- Ход часов лишь однозвучный
- Раздается близ меня.
- Парки бабье лепетанье,
- Спящей ночи трепетанье,
- Жизни мышья беготня…
- Что тревожишь ты меня?
- Что ты значишь, скучный шепот?
- Укоризна, или ропот
- Мной утраченного дня?
- От меня чего ты хочешь?
- Ты зовешь или пророчишь?
- Я понять тебя хочу,
- Смысла я в тебе ищу…
Эти «стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», творчески обращают реальный, преходящий миг к неизведанному миру и создают форму их интенсивного общения, обращенности таинственного мира и реального человека друг к другу. После проясненных стихотворением вопросов с их нарастающей энергией завершение: «Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу» – несет в себе живое противоречие. Это и последнее слово человека, обращенное к постигаемому миру, – и благодаря этому своего рода финальный ответ мира вопрошающему человеку: неустранимые поиски смысла, творчески осуществляемые, удостоверяют, что смысл в мире может быть найден, что мир в последней глубине разумен. И единство стихотворения как поэтического творчества, как сочинения стихов и стихотворения как отдельного произведения, как сочинения в стихах – это не просто мысль о мире и тем более не готовый, раз навсегда данный смысл, а творческим усилием создаваемое поэтическое целое и заключенный в нем мир. Мир этот представляет собою внутреннее пространство постоянного порождения поисков смысла, где только и может осуществляться реальный человек, обретая свое, никем и ничем не заменимое слово в этих общих поисках. Но и смысл может быть найден и утвержден как существующий только индивидуальными творческими (или сотворческими) усилиями реальной человеческой личности.
И вот здесь-то становится очевидным, что изящная отделка стихов, их художественное совершенство могут сделать субъективное ощущение единства и глубинной разумности мира таким, что оно выйдет за пределы этого субъективного опыта и станет фактом сознания других людей, – и если это происходит, то самое существование художественно совершенных творческих созданий удостоверяет объективную реальность существования гармонической полноты и целостности бытия, к творческой мощи которого причастен каждый человек.
В пушкинском поэтическом целом равно несомненными и равно достойными являются идеальная мировая и человеческая общность и реальная человеческая индивидуальность. Они, повторю еще раз, равнозначимы, равноценны и принципиально несводимы друг на друга и друг к другу. А гармония поэтического целого, натянутая тетива тугого лука, – это поле напряженного согласия таких обращенных друг к другу противоположностей и благодаря этому поле порождения многообразных культурных смыслов, реализующих разнообразные возможности разумной человеческой жизни каждого на своем месте, в своей социальной среде, в своем сословии, в своей стране, – обобщенно говоря, в своем доме и в конкретно-бытовом, и в символически-бытийном значении этого слова.
Вспомним финал пушкинской «Барышни-крестьянки», завершающей эпический цикл «Повести Белкина». В этом счастливом финале участвуют все и всё: вражда, примирение и расчет родителей, романтическая поза, серьезное увлечение и готовность к решительному поступку Алексея, содружество барышни-крестьянки, Лизы и Насти, весь литературный и бытовой маскарад. Но в то же время маскарад этот оказывается вроде бы и ненужным: финал ставит всех на свои места – сословные, семейные, всяческие иные, – и все при этом довольны и счастливы. Такая развязка, названная Ахматовой «игрушечной», приобретает совсем не игрушечное значение в контексте всего цикла, в процессе всей полноты движения, ведущего к этой развязке. Ведь полнота эта одновременно и счастливо объединяет, и счастливо возвращает к себе, в свой «дом» всех участников события и всех рассказчиков-слушателей от «первого поэта» до девицы К. И. Т. Человеческая общность со сказочным благополучием реализуется в рамках естественной, органичной ограниченности, в рамках социальной, национальной, индивидуально-личной самобытности.
Содержание эпического целого «Повестей Белкина» – общая жизнь разных людей, разных сословий, разных социальных и профессиональных групп в национально-народном единстве, общая жизнь родового человеческого «мы», которое пробуждает сознание и совесть, формирует человечность каждого. Участие в неделимой на обособленные части общей жизни – это в то же время путь человека к самому себе и к своему дому. На этом пути единственная, естественно ограниченная индивидуальность оказывается в то же время обращенной к другим, способной их слушать и слышать, проявляя таким образом красоту и достоинство человека как человека.
Пушкинское осуществление суверенности литературного произведения, которое оказывается способным вобрать и представить в себе целостность мира и отдельного человека и быть благодаря этому самостоятельным художественным целым, стало главным практическим истоком теории произведения в работах И. В. Киреевского и В. Г. Белинского.
5
Киреевский развивает сложившееся и в немецкой, и в русской романтической эстетике представление о поэтическом творении, созданном художником так, что творец и воспринимающий охвачены одной воображаемой жизнью: "Создания истинно поэтические живут в нашем воображении, мы забываемся в них, развиваем неразвитое, рассказываем недосказанное и, переселяясь таким образом в новый мир, созданный поэтом, живем просторнее и счастливее, нежели в старом действительном" 17 .
Творческое постижение опыта поэзии Пушкина позволило Киреевскому не только утвердить особую подлинность этого воображаемого мира, но и углубленнее раскрыть его противоречия. Собственно поэтическое творчество «нового мира» Киреевский более всего связывает с первым периодом творчества Пушкина, и особенно с поэмой «Руслан и Людмила», где поэт «не ищет передать нам свое особенное воззрение на мир, судьбу, жизнь и человека, но просто созидает нам новую судьбу, новую жизнь, свой новый мир» ( с. 45). На смену этому периоду приходит другой, байронический, где господствует мысль и противопоставляющая себя общему ходу жизни человеческая индивидуальность, которая «всем предметам дает общие краски своего особенного воззрения и часто отвлекается от предметов, чтобы жить в области мышления» (с. 46 —47). Наконец, тенденцию к самобытному разрешению этого противоречия Киреевский видит в третьем «русско-пушкинском» периоде: «Отличительные черты его суть: живописность, какая-то беспечность, какая-то особенная задумчивость и, наконец, что-то невыразимое, понятное лишь русскому сердцу; ибо как назвать то чувство, которым дышат мелодии русских песен, к которому чаще всего возвращается русский народ и которое можно назвать центром его сердечной жизни» (с. 53).
Поэтическую всеобщность и уникальную мыслящую индивидуальность соединяет «соответственность со своим временем» и народность (с. 55). И характерно, что в размышлении об этом периоде почти совсем не присутствуют ранее активно действующие характеристики воображаемого мира – акцент переносится на «способность забываться в окружающих предметах и текущей минуте» (с. 54), на воссоздание драмы жизни с суверенностью каждого ее действительного момента. Именно так обосновывается утверждение, что Пушкин рожден для «драматического рода»: «Он слишком многосторонен, слишком объективен, чтобы быть лириком; в каждой из его поэм заметно невольное стремление дать особенную жизнь отдельным частям, стремление, часто клонящееся ко вреду в творениях эпических, но необходимое, драгоценное для драматизма» (с. 54).
Противостояние поэтической всеобщности и неповторимой мыслящей индивидуальности призвана разрешить поэзия действительности как единое внутренне противоречивое целое: «…неужели в этом стремлении к жизни действительной нет своей особенной поэзии? Именно из того, что Жизнь вытесняет Поэзию, должны мы заключить, что стремление к Жизни и к Поэзии сошлись и что, следовательно, час для поэта Жизни наступил» (с. 85).
Многообразие противоречий идеала и действительности, внедряясь в поэзию, «сомкнутую в своем бытии», особенно обостряет проблему внутреннего единства художественного произведения: именно «недостаток единства интереса» в пушкинской «Полтаве» (с. 64), как и отсутствие «средоточия для чувства», «одной составной силы», в которой бы «соединялись и уравновесились все душевные движения», в поэме Баратынского «Бал» (с. 70) выделяет критик в качестве главных творческих трудностей, так и не преодоленных, по его мнению, в этих произведениях. В общей характеристике поэзии Баратынского намечается наиболее плодотворный, с точки зрения Киреевского, путь разрешения таких трудностей: «…муза Баратынского, обняв всю жизнь поэтическим взором, льет равный свет вдохновения на все ее минуты и самое обыкновенное возводит в поэзию посредством осветительного прикосновения с целою жизнью, с господствующей мечтой» (с. 69).
Целое жизни в «осветительном» соприкосновении с предельной конкретностью обыкновенной минуты – таков масштаб истинно поэтического создания. Одним из лучших развертываний этого понятия является анализ гармонии содержания и формы в произведениях Баратынского: «Вся правда жизни предъявляется нам в картинах Баратынского в перспективе поэтической и стройной; самые разногласия являются в ней не расстройством, но музыкальным диссонансом, который разрешается в гармонию… в самой действительности открыл он возможность поэзии, ибо глубоким воззрением на жизнь понял он необходимость и порядок там, где другие видят разногласие и прозу… Так, часто не унося воображения за тридевять земель, но оставляя его посреди обыкновенного быта, поэт умеет согреть такою сердечною поэзией, такою идеальной грустью, что, не отрываясь от гладкого, вощеного паркета, мы переносимся в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную» (с. 110—111).
Опыты быстротекущей действительности и общечеловеческая жизнь объединяются в существе поэзии и существовании поэтического произведения, – и не просто объединяются, а передают друг другу свои качества, так что действительность обретает новую значимость, а общечеловеческое предстает как «индивидуально-определенное, историческое» (с. 86). Произведение как художественная целостность оказывается здесь выражением первоначального единства поэзии и действительности, их конфликтного разделения и, несмотря ни на что, сохраняющихся нераздельности и неслиянности.
Внутренняя логика размышлений о литературе и литературном произведении подводит к необходимости углубления именно взгляда на действительность и в ее реальном существовании, и особенно в ее движении, историческом развитии. Только так может быть найдена жизненная основа разрешения противоречий эстетической «сомкнутости» поэтического бытия и его разомкнутости в реальность человеческого существования. Именно новая концепция действительности в первую очередь порождает плодотворное развитие взгляда на художественное произведение в «движущейся эстетике» Белинского.
Сквозным, проходящим через все работы Белинского – при несомненном многообразии переломов в его творческой эволюции – является утверждение обращенности произведения искусства к мировой целостности, ко вселенной, сосредоточенным выражением которой «в сокращении, в миниатюре» являются все роды поэтических созданий. «Искусство есть выражение великой идеи вселенной в ее бесконечно разнообразных явлениях… Все искусство поэта должно состоять в том, чтобы поставить читателя на такую точку зрения, с которой бы ему видна была вся природа в сокращении, в миниатюре, как земной шар на ландкарте, чтобы дать ему почувствовать веяние, дыхание этой жизни, которая одушевляет вселенную, сообщить его душе этот огонь, который согревает ее» 18 – таково первоначальное поэтически возвышенное выражение этой мысли в «Литературных мечтаниях». Воспринятая от романтической эстетики, она развивается, конкретизируется, переосмысляется, но никогда не теряет своего вселенского масштаба.
С этим связана еще одна общая черта всех размышлений Белинского о литературном произведении: взгляд на него как на порождение и воплощение единой общей идеи, «которой оно обязано и художественностью своей формы, и своим внутренним и внешним единством, через которое оно есть особый, замкнутый в самом себе мир» (т. 2, с. 251). Но в общности этой особенно рельефно высвечивается движение у Белинского гегелевской идеи от чистой и отвлеченной мысли к внутренней сущности действительности при все более самобытном и глубоком понимании именно действительности.
Наиболее важным источником осмысления сущности и специфики произведения искусства в его связях и отношениях с реальной действительностью как раз и явилось для Белинского творчество Пушкина. Именно в размышлениях о нем Белинский намечает путь к осмыслению глубинного общечеловеческого содержания «пафоса художественности», внутренней взаимосвязи «чувства изящного и чувства гуманности» в единстве поэтического произведения (т. 6, с. 492).
Акцент на общечеловеческом содержании и значении художественного произведения перекликается с утверждением исторической необходимости «начать сознавать себя человечеством»: "Если человечество уже начало сознавать себя человечеством – значит, близко время, когда оно будет человечеством не только непосредственно, как было доселе, но и сознательно. То, что мы называем человечеством, не есть какая-нибудь реальная личность, ограниченная в самой духовности ее материальными условиями и живущая для того, чтобы умереть: человечество есть идеальная личность, для которой нет смерти… " (т. 7, с. 87, 92).
С другой стороны, это общечеловеческое содержание «пафоса художественности» рассматривается Белинским не как отвлеченная и вечная абстракция и не сопрягается напрямую с творческой индивидуальностью Пушкина, а обретает пусть самую общую, но все же очень важную социально-историческую конкретизацию в определениях «идеальной значительности» войны 1812 года и «среднего дворянства» – сословия, в котором почти исключительно выражался прогресс русского общества и к которому принадлежал Пушкин (т. 6, с. 377). Но такая связь содержания литературного произведения с обществом и национальной историей немедленно порождает конфликт идеального художественного совершенства и реального состояния изменяющейся общественной действительности, – конфликт, отражение которого критик усматривает в позднем творчестве Пушкина: «… избранный Пушкиным путь оправдывался его натурою и призванием: он не пал, а только сделался самим собою, но, по несчастию, в такое время, которое было очень неблагоприятно для подобного направления, от которого выигрывало искусство и мало приобретало общество» (т. 6, с. 289).
Оставим пока в стороне явные противоречия в оценке общественного значения «пафоса художественности» вообще и творчества Пушкина в особенности. Обратим внимание в первую очередь на проявляющуюся здесь реальную проблему: если «общество находит в литературе свою действительную жизнь, возведенную в идеал, приведенную в сознание» (т. 6, с. 498), то чем сложнее отношения идеала и действительной жизни, тем острее противоречие между идеальной целостностью совершенного художественного организма и его обращенностью в несовершенную текущую реальность, ее факты, проблемы, перспективы.
Первоначально эта проблема разрешатся у Белинского гегелевской концепцией «замкнутого в самом себе» мира художественного произведения как одного из «обособлений общего духа жизни в частном явлении»: «Сущность всякого художественного произведения состоит в органическом процессе его явления из возможности бытия в действительность бытия… Творческая мысль, запав в душу художника, организируется в полное, целостное, оконченное, особенное и замкнутое в себя художественное произведение. Обратите все ваше внимание на слово „организируется“: только органическое развивается из самого себя, только развивающееся из самого себя является целостным и особым с частями, пропорционально и живо сочлененными и подчиненными одному общему» (т. 3, с. 84, 87—88). В замечательной статье о «Герое нашего времени», откуда взяты эти фрагменты, художественное произведение осознается как «индивидуальная общность» и сущность его выводится не только из замысла художника, его «творческой концепции» (т. 3, с. 102), но первоначально из «возможности бытия». Однако в отличие от Аристотеля и в соответствии с Гегелем эти возможности принадлежат не действительной природе, а духу – искусство мыслится как "воспроизведение разумной действительности", действительность неразумная остается лишь объектом преобразования «сообразно с законами… необходимости» (т. 3, с. 130) в замкнутый и самодостаточный мир литературного произведения.
Дальнейшее движение мысли Белинского о литературном произведении прежде всего определялось тем, что у критика существенно менялась концепция действительности. Она понимается как объективно развивающийся мир, охватывающий все многообразие различных реальных явлений. Различные жизненные возможности теперь все в большей и большей мере возвращаются самой действительности, а идеи оказываются не производящей основой, а внутренней сущностью действительных явлений. Соответственно, и идеальное художественное целое мыслится теперь как «осуществление возможности, скрывавшейся в самой действительности»: «Идеалы скрываются в действительности; они – не произвольная игра фантазии, не выдумки, не мечты; и в то же время идеалы – не список с действительности, а угаданная умом и воспроизведенная фантазией возможность того или другого явления» (т. 7, с. 48). Таким образом, центральным в определении литературного произведения становится теперь сущность действительности – истина, которую напряженным творческим усилием необходимо открывать, развивать и показывать миру: «Нужен гений, нужен великий талант, чтобы показать миру творческое произведение, простое и прекрасное, взятое из всем известной действительности, но веющее новым духом, новой жизнью» (т. 7, с. 27).
Понятно, что гегелевская замкнутость не согласуется с такой концепцией действительности. Замкнутость, однако, не просто отрицается Белинским, а переосмысливается так, что суверенность художественного целого как раз и определяется выявлением в нем жизненной сущности: «Хорошо и верно изложенное дело, имеющее романический интерес, не есть роман и может служить разве только материалом для романа, то есть подать поэту повод написать роман. Но для этого он должен проникнуть мыслию во внутреннюю сущность дела, отгадать тайные душевные побуждения, заставившие эти лица действовать так, охватить ту точку этого дела, которая составляет центр круга этих событий, дает им смысл чего-то единого, полного, целого, замкнутого в самом себе» (т. 8, с. 360). И такая замкнутость тут же развертывается в утверждении обращенности искусства ко всем сторонам и явлениям «единой и цельной» жизни: «Искусство есть воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир: может ли оно быть какою-то одинокою, изолированною от всех чуждых ему влияний деятельностью?» (т. 8, с. 361).
В самом строении, внутреннем движении только что приведенной фразы из статьи «Взгляд на русскую литературу 1847 года» проявляется диалектический ход мысли Белинского. «Как ни дробите жизнь, она всегда едина и цельна», – только что сказал Белинский, этот единый мир существует как объективная реальность, и в этом смысле искусство его «повторяет». Но чтобы «повторить» неповторимую в своем движении и постоянном самообновлении целостность мира, его надо как бы вновь создать, надо воспроизвести действительность, т. е. произвести вновь такое индивидуальное явление, которое, не будучи тождественно реальным фактам, в то же время выразит их глубинный смысл и ценность, покажет внутреннюю сущность жизненных явлений.
Таким образом, в «движущейся эстетике» Белинского определились характеристики литературного произведения как художественной целостности, основанной на творческом воспроизведении действительности и непосредственном раскрытии всеобщего человеческого значения и сущности жизни в «индивидуальной общности» «повторенного, как бы вновь созданного мира». Выявились и противоречия, направляющие дальнейшее движение этого понятия, и необходимость все более глубокого сопряжения в нем идеального масштаба всеобщей мировой гармонии и конкретной единичности реального, действительного существования.
Полюс идеальной сущности искусства, внутреннее содержание которого – «бесконечное уважение к достоинству человека как человека», и полюс реальной действительности, далекой от этого идеала и вместе с тем внутренне связанной с ним, оказываются единством противоположностей в содержании и форме литературного произведения и понятии о нем. Глубинным жизненным фундаментом этого понятия являются мир, человек и их постигаемая, исторически развивающаяся взаимосвязь.
Целостность бытия сосредоточенно и концентрированно выявляется в художественной целостности, в мире произведения искусства как «сокращенной вселенной», «вселенной в миниатюре». В нем воссоздаются всеобщие противоречия и отношения человеческого бытия в его историческом развитии. Сущностные отношения человека и мира раскрываются в конкретном индивидуальном явлении, созидаемом произведением искусства.
В произведении, обретающем статус самостоятельного художественного целого, необходимо присутствуют три смысловых плана: общечеловеческий, конкретно-исторический, индивидуально-личный. И не просто присутствуют, но взаимораскрываются друг в друге так, что преодолевается обособленность, отдаленность друг от друга вечных и неподвижных сущностей, исторического движения и единичного существования. Наоборот, в произведении художественной литературы проясняется подлинный масштаб человеческой истории и многомерность социальности от всего человеческого рода до отдельного индивида, а историческая координата осмысляется с точки зрения общечеловеческих ценностей. Именно поэтому в художественном целом удается сохранить и выразить не только отдельный момент исторического развития, но и связь времен.
6
Попытаюсь теперь обобщить рассмотренный теоретический опыт и наметить некоторые современные перспективы развития идей о литературном произведении как художественной целостности. Становление этого понятия связано прежде всего с прояснением самостоятельной значимости художественного произведения и его содержательной связи не только с какой-либо определенной социальной, психологической, исторической и какой-либо иной действительностью, но прежде всего с не укладывающейся ни в какой реально-исторический масштаб полнотой бытия. Эта идея, несомненно, сохраняет свою актуальность и нуждается в анализе ее дальнейшего развития.
В связи со сказанным надо принципиально развести понятия «целостность» и «целое», ибо если они, как это часто бывает, содержательно хотя бы в основном совпадают, то по крайней мере в одном из них нет необходимости. Если целостность ориентирована на полноту бытия, «мировую целокупность», то осуществиться эта полнота может только во множестве различных целых, «имеющих начало, середину и конец». Можно ли усмотреть здесь просто две разновидности одного и того же целого, так сказать, «большого» и «малого»? Ведь отдельное, временное, то, что приходит и уходит, и то, что есть и пребудет вечно, – это разнородные содержания и разнокачественные системы отсчета. И если их нельзя привести к общему смысловому знаменателю и простой одноименности, то следующий возможный ход мысли: решить вопрос, какое же из них истинное, подлинное целое, радикально отрицающее другое в таком качестве. Или последнее целое полноты бытия единственно реально, а все остальное – части, моменты, если не фикции; или реально только лишь множество отдельных, конкретных целых, а единое и неделимое бытие относится лишь к области умозрений и философских конструктов? И в том, и в другом случае нет необходимости в понятии «целостность».
Другое дело, если бытие, единое, неделимое и принципиально неосуществимое в своей полноте ни в каком отдельном целом, порождает множество разноликих и разнокачественных, самостоятельных и самоценных целых, – тогда необходимо понятие для выражения внутренней связи, предшествующей разделению и включающей в себя первоначальное единство, саморазвивающееся обособление и глубинную неделимость единого – множественного – единственного. Тут-то и обнаруживается место для целостности.
Таким образом, целостность человеческого бытия представляет собою первоначальное единство, саморазвивающееся обособление и обращенность друг к другу на основе глубинной неделимости полноты бытия, многочисленных и различных социально-этнических общностей и индивидуального существования каждого здесь и сейчас живущего человека в его конкретной историчности и неповторимой единственности. А понятие «художественная целостность» становится актуальным постольку, поскольку можно говорить о творческом воссоздании целостности человеческого бытия в произведении искусства. И как производное от полноты бытия понятие «целостность» является в этой логике содержательно-порождающим основанием конкретного определения целого и части, так и целое литературного произведения и его значимые элементы конкретизируются на основе порождающего по отношению к ним понятия «художественная целостность».
Произведение художественной литературы, конечно же, не рассказывает о целостности бытия и не показывает ее как некий изображаемый объект или заранее готовое целое – это принципиально невозможно. Оно творчески осуществляет и воссоздает эстетическое явление полноты бытия, так что коренные свойства-отношения бытийной целостности становятся непосредственно воспринимаемыми и предстают как первоначальное единство, саморазвивающееся обособление и глубинная неделимость автора – героя – читателя, художественного мира – произведения – художественного текста, значимого элемента – структуры – целого произведения.
Автор – герой – читатель, пожалуй, с наибольшей отчетливостью представляют единую целостность в трех целых, равнодостойных, равно и взаимно необходимых, несводимых друг к другу, образующих поле интенсивно развертывающихся взаимодействий. Такой подход позволяет на единой основе объяснить и развить в специальных исследованиях систему уникальных свойств-отношений автора – героя – читателя. Во-первых, это сочетание единой сущности и триединой личности, не сводимой ни к одному и тому же личностному содержанию, ни к трем разным индивидам, – это единство человечества, народа и уникальной индивидуальности в превышающей все их отдельные реализации внутренней, личностной взаимосвязи. Во-вторых, необходимо осмыслить сочетание совместного и нераздельного существования автора – героя – читателя с обособлением и взаимодействием их внутренне разделяющихся и обращенных друг к другу позиций, образующих субъектную организацию литературного произведения 19 .
Актуально понятие «художественная целостность» и для прояснения отношений художественный мир – произведение – художественный текст. Возникновение художественной целостности как первоэлемента, как «определяющей точки» (Гёте) творческого создания одномоментно и нераздельно содержит в себе мирообразующий и текстообразующий исток, и смыслопорождающую направленность, и формоорганизующую перспективу. Эта перспектива саморазвивающегося обособления, развертывания и завершения художественной целостности в творческом создании естественно ставит вопрос о понятии, наиболее адекватно передающем целое этого создания. Критика традиционной связи такого целого с произведением ведется в современной науке с двух сторон: с точки зрения художественного (поэтического) мира и с точки зрения текста. С позиции текста как наиболее адекватного определения словесно-творческого целого произведение представляется, как пишет Р. Барт, «традиционным понятием, которое издавна и по сей день мыслится по-ньютоновски» 20 . А с точки зрения поэтического мира произведение предстает лишь как материальный продукт специализированного вида литературной деятельности – продукт, принципиально не способный вместить в себя целый мир 21 . Эта критика с двух сторон, безусловно, очень поучительна, ибо проясняет то поле напряжения, в котором находится устремленная к наиболее адекватному определению «своего» целого литературоведческая мысль.
Но особенно интересно то, что в движении каждого из понятий, предлагаемых для определения творческого целого создания искусства, в свою очередь намечается характерное раздвоение. Барт в статье «Семиология как приключение» так противопоставляет текст литературному произведению: «…это не эстетический продукт, а знаковая деятельность; это не структура, а структурообразующий процесс» 22 . Но ведь эти характеристики не в меньшей мере, чем произведению, противостоят и тексту, когда он понимается как особым образом организованная семиотическая структура, как, например, у Ю. М. Лотмана в его ранних работах 23 .
А вот аналогичный пример в движении понятия «художественный мир». «Мир, – пишет А. П. Чудаков, – если его понимать не метафорически, а терминологически… в число своих основных компонентов включает: а) предметы (природные и рукотворные), рассеянные в художественном пространстве-времени и тем превращенные в художественные предметы; б) героев, действующих в пространственном предметном мире и обладающих миром внутренним; в) событийность, которая присуща как совокупности предметов, так и сообществу героев» 24 . Но ведь эта характеристика изображаемого мира явно противостоит трактовке поэтического мира как целого, объемлющего и изображаемый мир, и его изображение 25 .
Происходящие сходные разделения различных понятий проясняют глубинную проблему определения погранично-объединяющего содержания в том «едином, но сложном целом» (М. М. Бахтин), каким является творческое осуществление художественной целостности. Именно это понятие может быть, на мой взгляд, основой обоснования и раскрытия погранично-связывающей роли литературного произведения как двуединого процесса претворения изображаемой действительности в художественный текст и преображения текста в форму существования, воплощения художественного мира.
Произведение действительно находится в современном литературном сознании между двумя полюсами: духовным поэтическим миром и материальным текстом. Его осмысление может предохранить от «магнитной ловушки» – абсолютного разрыва духовной и материальной «половинок» и метания между ними в поисках утраченного целого. Но тут же надо сказать и другое: мыслить произведением как целым – это значит постоянно осознавать в нем напряжение противоположных содержаний, не поддающихся упрощенному отождествлению или эклектическому смешению.
Проблема заключается в том, что теоретический внешний взгляд на текст как на объект аналитического изучения и внутреннее читательское пребывание в художественном мире не могут быть сведены друг к другу однозначными причинно-следственными отношениями. И чем бесспорнее воплощение жизненной реальности в «неживом» тексте, тем яснее творческий характер произведения. Оно не готовый результат для потребления, а воплощенный творческий процесс, не раз навсегда данный ответ, а заданный вопрос, заключающий в себе путь для каждый раз нового и самостоятельного решения. Между композицией текста и структурой воплощенного в нем жизненного мира всегда есть «зазор» – преодолевается он не просто заранее готовыми знаниями и теориями, а переходом этих знаний в здесь и сейчас происходящее созерцание, понимание и творческое воссоздание всего разделенного.
В свете художественной целостности становятся доступными для исследовательской конкретизации и такие важные характеристики литературного произведения, как: 1) двуединство процессов развертывания художественной целостности в каждом значимом элементе и завершения художественного целого в созданном произведении; 2) «неготовость» составных элементов произведения, которые не являются заранее, а лишь становятся художественно значимыми; 3) отсутствие заданной иерархичности отношений элементов и целого.
Последний момент, пожалуй, особенно важен. В строении литературного произведения с принципиально не иерархическими внутренними отношениями воссоздаются такие связи универсальной всеобщности и уникальной индивидуальности, которые противостоят любым формам одностороннего возвышения, абсолютизации и обожествления как любой человеческой общности, так и отдельно взятого индивида. Это касается и неплодотворности обожествления человечества в целом: во всяком случае человечество и конкретная человеческая личность относятся друг к другу не как часть и целое, но как равноценные и равнозначные целые – художественная целостность в идеале проявляет именно такую их взаимосвязь.
Литературное произведение в посттрадиционалистскую эпоху, как правило, не укладывается в однозначное жанровое определение, в нем переплетаются и взаимодействуют различные и порой разнородные жанрово-стилистические традиции. Понятие о произведении как художественной целостности содержит в себе не только возможность, но и эстетическую законность, даже необходимость полижанровости и полистилистики. А с другой стороны, целостность противостоит абсолютизации как единства, так и множественности: в свете художественной целостности преодолеваются какие бы то ни было заранее заданные в произведении внешние границы эстетического разнообразия, но утверждается его внутренний предел. Он основывается на том, что при всех разнородных сочетаниях и обособлениях разделяющихся целых сохраняется индивидуально-творческий центр произведения и глубинная неделимость эстетического бытия, в нем осуществленного. В этом центре соединяется универсальная обращенность к полноте бытия и уникальность индивидуально-творческой позиции авторского сознания, так что скрепляющей основой мира оказывается индивидуально-неповторимое человеческое бытие, целостная индивидуальность.
Художественная целостность выступает не как организующий принцип, навязывающий элементам произведения схему их организации, своего рода «идею порядка», а как нечто внутренне присущее этим элементам, точнее, присущее процессу и энергии их взаимодействия. Взаимодействие здесь оказывается первичным, отражая не первичность человеческой общности, а первичность общения, когда общение онтологично и предшествует разделению общающихся. Воплощение полноты бытия в художественной целостности равно противостоит в этом смысле и утопической человеческой всеобщности, которая исключает индивидуальную свободу, и абсолютно обособленному индивиду как единственной реальности человеческого существования.
В произведении как художественной целостности равно несомненными целыми являются человечество, народ и конкретная человеческая личность. Они принципиально несводимы друг на друга и друг к другу. Целое произведение – это поле напряженного взаимодействия этих обращенных друг к другу содержаний и благодаря этому поле порождения многообразных культурных смыслов, реализующих разнообразные возможности человеческой жизни каждой индивидуальности на своем месте в пределах своей конкретной историчности и органичной ограниченности.
Но тут же надо сказать и о том, что полнота бытия и реальная органичная ограниченность человеческого существования в жизненной действительности, являясь полюсами произведения как художественной целостности, принципиально неслиянны и противостоят друг другу в его единстве. И возможность проявлять полноту бытия в произведении искусства внутренне связана с осознанием ее неосуществимости в рамках реальной действительности: целостность бытия проявляется на предельной границе, которая определяет и принципиально превышает все реальные формы человеческого существования и в то же время противостоит какому бы то ни было обожествлению человека, народа и человечества.
Произведение и здесь проявляет свою погранично-связывающую природу, выступая в данном случае как один из основных факторов культуры.
Жизнь культуры и представляет собою историческое развертывание границ и связей полноты бытия, бесконечного мира, живущего бесконечное время, и конечных форм человеческой природы и человеческого существования, так что существование это оказывается снова и снова осмысляемым и осмысленным, а смысл – осуществляемым и осуществленным.
Художественное произведение определяется законами, принципиально превышающими любую конкретную культуру, оно является формой превращения целостности бытия – мира, общества, личности – в поле порождения культурно-исторических и индивидуальных смыслов. Произведение искусства заключает в себе множество возможностей, а каждая отдельная культура представляет исторически конкретные реализации этих возможностей.
Во множестве таких культурно-исторических реализаций образующие художественную целостность внутренние противоположности (мира – текста, целого – элемента и др.) могут развертываться в различные системы отношений и меняющихся доминирующих признаков, которые дают возможность для различных историко-типологических разграничений и классификаций. Сошлюсь, например, на развиваемое И. Р. Деринг-Смирновой и И. П. Смирновым, вслед за Д. С. Лихачевым, разделение первичных и вторичных художественных систем: первые склонны по преимуществу рассматривать текст как мир, а вторые – мир как текст: «Суть этой дихотомии в том, что все „вторичные“ художественные системы отождествляют фактическую реальность с семантическим универсумом, т. е. сообщают ей черты текста, членят ее на план выражения и план содержания, на наблюдаемую и умопостигаемую области, тогда как все первичные художественные системы, наоборот, понимают мир смыслов как продолжение фактической действительности, сливают воедино изображение с изображаемым, придают знакам референциальный статус» 26 . Важно только подчеркнуть производность этой дихотомии, основанной на формах превращения внутреннего единства во внешние различия разномасштабных целых, которые исторически изменяются, тогда как художественная целостность в том понимании, о котором здесь говорится, всегда возвращается, но каждый раз в новом, индивидуальном воплощении.
Разнообразные систематики и типологии могут быть построены на основе изменяющихся отношений элементов и целого – в частности, здесь отчетливо проявляется двуединство синкретизма и синтеза, которое вообще играет очень важную роль в существовании и развитии литературного произведения. Развитие это проявляется, с одной стороны, в выделении и обособлении элементов ранее существовавших художественных единств и превращении их в новое целое, а с другой – в стремлении заключить в эти новые формы старые целые, переводя их на роль составных элементов. Кажется, что не только каждая дробь хочет стать и становится единицей, но она еще и хочет превратить прежние единицы в свои собственные дроби. Впрочем, здесь не вполне подходит количественный учет по принципу: часть – целое, ибо в этих взаимопереходах осуществляется движение художественной целостности, необходимой формой воссоздания которой может стать, например, фрагментарность текста. Во всяком случае, историческая поэтика отношений: элемент – целое, язык – текст, текст – художественный мир, автор – герой – читатель, произведение – жанр – род – стиль и др. – все это актуальные и перспективные направления дальнейших исследований.
Также требует к себе исследовательского внимания конкретизация основных характеристик художественной целостности в структурно-композиционном строении литературного произведения, например в «ромбической» модели отношений его слоев или уровней: от первоначального единства ритма к обособлению фабулы и сюжета, изображаемых событий и их субъектов, а также событий и субъектов их словесного изображения, а затем к преображению этой множественности в личностное единство (или триединство) автора – героя – читателя с их суверенной совместностью, взаимообращенностью и глубинной неделимостью.
Наконец, очень актуален вопрос о специфической позиции литературоведа – исследователя литературного произведения как художественной целостности. Произведение воспроизводит связь между целостностью бытия и конкретным жизненным целым индивидуального существования, воспроизводит оно и необходимость осмысления, сознания этой связи – в частности, связи между познанием произведения и пониманием того, что осмысляется произведением. Изучать произведение и понимать нечто произведением – эти вообще-то разные сферы деятельности необходимо связаны у литературоведа, который всегда ищет меры между ними и тем самым определяет и уясняет свое место и свое сознание, проясняя область и границы профессионального литературоведческого знания и осознанного незнания.
Д. П. Бак в недавней статье, специально посвященной этой проблеме, критикует и концепцию целостности, и концепцию поэтического мира, полагая, что в одном случае теоретизм и чисто познавательное отношение к словесно-бытийной целостности, а в другом полное погружение в самодостаточный «поэтический мир» не позволяют «обнаружить специфическое и уникальное место… литературоведа». Сам же Бак формулирует позитивное решение следующим образом: «На литературоведа возложена особая миссия: не просто зеркально, предельно адекватно отразить, передать целостность произведения, но вернуть завершенный, вычлененный из жизненного потока результат встречи трех участников эстетического события в сферу реального ответственного поступка-дела. Только таким образом будет восстановлена и подтверждена „архитектоника действительного мира“, или, иначе, „архитектоника целостного переживания мира“» 27 .
Но ведь это резюмирующее заключение со ссылками на «философию поступка» Бахтина очень хорошо формулирует общечеловеческую задачу – эта задача вообще всякого живущего здесь и сейчас человека – читателя литературного произведения. Очень бы хотелось думать, что есть возможность считать литературоведа человеком по преимуществу, и отнести данную задачу в первую очередь к нему. Но я сомневаюсь в такой возможности и предпочитаю формулировку, перефразирующую хрестоматийно известные стихи: «Литературоведом можешь ты не быть, но человеком быть обязан». А уж если становишься литературоведом, неизбежны, по-видимому, и чисто познавательное отношение, и усилия, направленные на то, чтобы в каждой конкретной историко-культурной и индивидуально-творческой ситуации прояснить связь и переход знания своей части в участие в целостности, которая превышает любое конкретное целое.
Осмысление художественной целостности связано также с идеей органичности 28 и сверхорганичности художественного произведения в его противопоставленности как механизмам, конструкциям, так и природным организмам. Это отражается, в частности, в интенсивных поисках теоретического разграничения целостности со смежными ей, но инородными качествами цельности, системности, завершенности, связности и т. п. 29 Целостность прежде всего указывает на возможность произведения сосредоточенно выявлять в своей художественной реальности полноту бытия, закономерности существования и развития мира в целом. Поэтому художественная целостность должна соотноситься с «началами» и «концами», с «первой» и «последней» мировой целокупностью в различных формах ее жизненного выявления во множестве целых, обращенных друг к другу на основе единого, развивающегося и в последней глубине своей неделимого бытия, во внутренней связи природной органичности и сверхприродного, культурно-творческого общения и созидания.
Иное дело – характеристика и конструкции, и организма с точки зрения их организованности, системные характеристики любого отдельного целого. Целостность человеческого бытия и цельность (системность, завершенность, связность и т. п.) текста – единство и борьба этих противоположностей осуществляются в литературном произведении и во многом определяют его смысловую многомерность и структурную сложность, чем вызывается многообразие подходов и дискуссионных проблем в современной теории литературного произведения.
В частности, в тех направлениях, которые выдвигают в качестве теоретической доминанты понятие «текст», художественная целостность вообще не является актуальной, цельность же текста в структурализме акцентируется, а в постструктурализме и деконструктивизме становится все более и более проблематичной на фоне принципиального множества организационных трансформаций и смысловых преобразований. Связь же литературного произведения с целостностью бытия сторонники этих направлений считают излишней философизацией, в принципе неплодотворной для поэтики.
С другой стороны, в современной науке все более активно утверждается мысль о том, что текст не охватывает произведение в его целостности и событийной полноте, которая, как писал Бахтин, «включает и его внешнюю материальную данность, и его текст, и изображаемый в нем мир, и автора-творца, и слушателя-читателя. При этом мы воспринимаем эту полноту в ее целостности и нераздельности, но одновременно понимаем и всю разность составляющих ее моментов»30.
Художественное произведение в своей полноте «событийно» именно потому, что оно представляет собою каждый раз снова и снова осуществляемое событие создания – созерцания – понимания художественной целостности: «образа мира, в слове явленного» (Б. Пастернак). Это не готовый мир и не готовый, раз и навсегда воплощенный и доступный для потребления смысл, а форма непрестанного человеческого общения и порождения в нем поисков смысла. Произведение – это «орган» и «поле» смыслотворения, и заключенный в его границах процесс смыслообразования проявляет себя в снова и снова возобновляемых попытках интерпретировать 31 , выразить этот образующийся смысл. Таким образом, событийная полнота произведения воссоздает не первичность какой бы то ни было человеческой общности, а, как уже говорилось, первоначальность общения равноправных и равнодостойных человеческих целых – и в этом еще одна из конкретизаций понятия «художественная целостность»32.
Конечно, нам никуда не уйти от «разделения труда»: кто-то создает художественное произведение, кто-то другой его изучает, анализирует, кто-то третий применяет результаты анализа в педагогической практике. Между тем теория целостности позволяет и в этом множестве увидеть творческое единство мира и человеческого рода: оно проявляет себя как неделимая на обособленные части жизненная драма, в которой именно на границе общения авторов, режиссеров, актеров, зрителей и интерпретаторов человеческой истории проясняется их глубинная бытийная целостность.
Ею производятся искусство и наука, и потому создание, восприятие, изучение, преподавание художественной литературы может всякий раз на основе ранее созданного пытаться вновь возвращать эту целостность в глубинной едино-раздельности творческого процесса. В нем отношения автора, героя, читателя, исследователя, преподавателя становятся не только межличностными, но внутриличностными, и тем самым раскрывается духовное единство многих разных людей и многомерность каждой личности. Произведение как художественная целостность – это орган постижения творческой природы бытия, орган формирования человеческого созерцания и понимания, человеческой мысли и чувства в их первоначальном единстве, саморазвивающемся обособлении, глубинной неразрывности и общении друг с другом.
Примечания
1. Аристотель и античная литература. М., 1978. С. 71.
2. Там же. С. 112. Я благодарен М. Л. Гаспарову за разъяснения, связанные с переводом этой фразы.
3. См. об этом подробнее: Михайлов А. В. Проблема исторической поэтики в истории немецкой культуры. М., 1989.
4. Аристотель и античная литература. С. 111.
5. Об основных этапах развития литературно-художественного сознания см.: Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994.
6. Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946. С. 108.
7. Гинзбург Л. Я. О лирике. М., 1974. С. 53.
8. Аксаков К. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. М., 1843. С. 62.
9. Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. М., 1974. Т. 2. С. 192. Далее ссылки на этот том приводятся в тексте с указанием страницы.
10. Характерно с этой точки зрения принадлежащее А. И. Галичу определение романа как «идеала искусства», «где… представленное самому себе человечество как главнейший предмет, обрабатываемый идеальным искусством, раскрылось во всевозможных направлениях общественной и частной жизни: …дух поэта, образованный наукою, искусствами и опытами, может следовать мыслью за развитием, в котором сам принимал или мог принимать участие, но… не смея по знанию своему придерживаться того, что представляет ему ежедневный опыт, удаляется в собственную свою область, то есть в область фантазии, и здесь в исторической жизни вымышленного или вымышленной жизни исторического героя дает видеть характер и дух целого человечества, как оно развивается в своих силах при содействии внешних обстоятельств» (с. 273—274).
11. Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966. С. 67. Ссылки на это издание далее приводятся в тексте.
12. Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 8. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
13. Данные о названиях сборников взяты из диссертации А. С. Когана «Типы объединения стихотворений в русской поэзии XIX в.» (Донецк, 1987).
14. Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1981. Т. 6. С. 263.
15. Тынянов Ю. Н. Поэзия. История литературы. Кино. М., 1977. С. 415.
16. Катенин П. А. Размышления и разборы. М., 1981. С. 215. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.
17. Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 51. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте.
18. Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1976. Т. 1. С. 60. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
19. См. разработку проблем субъектной организации произведения в трудах Б. О. Кормана и его школы. Соотношение понятий «автор» и «художественная целостность» раскрывается в ряде работ Н. Д. Тамарченко, например в его книге «Целостность как проблема этики и формы в произведениях русской литературы XIX века» (Кемерово, 1977).
20. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 417.
21. См., напр.: Федоров В. В. Поэтический мир и творческое бытие. Донецк, 1994. С. 5—8.
22. Мировое древо. М., 1993. С. 82.
23. См.: Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. М., 1972.
24. Чудаков А. П. Слово-вещь-мир. От Пушкина до Толстого. М., 1992. С. 8.
25. См. указанную выше работу В . В . Федорова.
26. Деринг-Смирнова И. Р., Смирнов И. П. Очерки по исторической типологии культуры. Salzburg, 1982. С. 9.
27. Бахтинский сборник. II. Бахтин между Россией и Западом. М., 1991. С. 257.
28. Об органичности произведения см.: Вайман С. Т. Гармонии таинственная власть. Об органической поэтике. М., 1989.
29. См. об этом: Тюпа В. И. Художественность литературного произведения. Красноярск, 1987; Шатин Ю. В. Художественная целостность и жанрообразовательные процессы. Новосибирск, 1991; Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения. М., 1995.
30. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 404.
31. Об интерпретации и анализе см.: Бореев Ю. Б. Искусство интерпретации и оценки (Опыт прочтения «Медного всадника»). М., 1981.