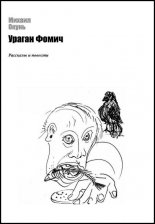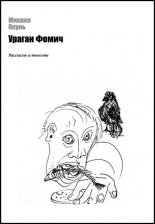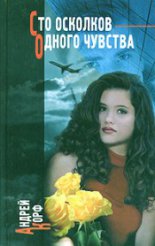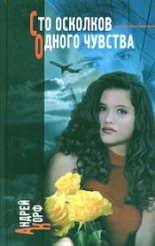Живу беспокойно... (из дневников) Шварц Евгений

2 июня
И вернулся Миша из-за границы. И снова пошла наша жизнь, все усложняясь и усложняясь, своим чередом.
4 июня
Когда Театр комедии переехал в Москву, встречались мы довольно часто... В декабре двадцатого числа в 44 году отпраздновали мы двадцатилетие их свадьбы. Был Федин и мы с Катериной Ивановной... мы этот вечер провели весело. Что-то от света и огня ранних лет нашей молодости все теплилось. И Миша смеялся.
6 июня
Все мы стареем. Когда я представлял себе старость, то не боялся. Представлял, что изменяюсь внешне, и все тут. А стареть-то, оказывается, больно. Сваливается то один, то другой из моих сверстников. Мне все кажется, что это какое-то недоразумение, вот-вот все разъяснится, в мое время старики были вовсе не такие. И в самом деле – разве старик Миша? Вот идет он по улице навстречу, – такой Же длинный, такой же тощий, с той же тонкой шеей, только у основания распухшей, воротничок расстегнут. Ему пятьдесят восемь лет, но он так же беспомощно хохочет, как в молодости, когда я поддразниваю его. Года полтора назад вызвали нас в военкомат, как в былые годы, – на учебу. Какие же мы старики? Потом писателей выделили. Мы стали ходить, согласно приказу, на лекции в Дом писателя. Но райвоенкомат не успели известить об этой перемене, и мы получили строгий приказ явиться туда и объясниться. Вся наша жизнь прошла под знаком мобилизаций, явок, переосвидетельствований, и мы к подобного рода повесткам привыкли относиться вроде как бы к зовам судьбы. В данном случае было все ясно, – недоразумение. Да и мы не призывники. Пришла повестка в субботу. Являться с объяснениями приказано было в понедельник. Миша звонил мне по телефону трижды, примерно каждые десять минут, повторяя одно и то же: «Мне гораздо удобнее идти сегодня, чем в понедельник. Давай пойдем и выясним это дело». И он пошел в военкомат в тот же день, повинуясь его могучему зову, как всю жизнь, – какой же это старик! Теперь, правда, в июле прошлого года, сняли нас с учета. Но каждый раз, когда вижу я длинную тощую фигуру с головой, чуть склоненной набок, в глубокой задумчивости, – разом оживают во мне веселые и печальные чувства двадцатых годов. И я не чувствую возраста, как, впрочем, и всегда. Как не чувствует его и Миша. Некогда.
10 июня
Союз писателей стоит дальше в телефонной книжке. Появился он на свет в 34 году и вначале представлялся дружественным после загадочного и все время раскладывающего пасьянс из писателей РАППа. То ты попадал в ряд попутчиков левых, то в ряд правых, – как разложится. Во всяком случае, так представлялось непосвященным. В каком ты нынче качестве, узнавалось, когда приходил ты получать паек. Вряд ли он месяца два держался одинаковым. Но вот РАПП был распущен. Тогда мы еще не слишком понимали, что вошел он в качестве некоей силы в ССП, а вовсе не погиб. И года через три стал весь наш Союз раппоподобен и страшен, как апокалиптический зверь. Все прошедшие годы прожиты под скалой «Пронеси господи». Обрушивалась она и давила и правых, и виноватых, и ничем ты помочь не мог ни себе, ни близким. Пострадавшие считались словно зачумленными. Сколько погибших друзей, сколько изуродованных душ, изуверских или идиотских мировоззрений, вывихнутых глаз, забитых грязью и кровью ушей. Собачья старость одних, неестественная моложавость других: им кажется, что они вот-вот выберутся из-под скалы и начнут работать. Кое-кто уцелел и даже приносил плоды, вызывая недоумение одних, раздражение других, тупую ненависть третьих. Изменилось ли положение? Рад бы поверить, что так. Но тень так долго лежала на твоей жизни, столько общих собраний с человеческими жертвами пережито, что трудно верить в будущее. Во всяком случае, я вряд ли дотяну до новых и счастливых времен. Молодые – возможно...
Сценарный отдел «Ленфильма». С ним отношения непонятны. Единственное место, где я бывал груб и неуступчив, – это «Ленфильм». Я с трудом выношу, когда требуют поправок, а сценарный отдел только этим, собственно, и занимается. В ателье напряжение и спешка, в костюмерной, гримерной, диспетчерской – звонят, спешат, слепят светом, или кричат у телефонов, или спорят с художником или с актерами. И только в сценарном отделе тихо – не то как в оранжерее, где выращивают цветы, не то как в классе во время контрольной работы. Или это та зловещая тишина, когда экзаменующийся запнулся. Это последнее – вернее всего. С одной разницей: экзаменатор знает еще меньше экзаменующегося.
«Советский писатель» – издательство. Я с ним не встречался до этого года, пока не вышло решение: печатать сборники пьес. И вот я сдал туда свой сборник. И стал ждать.
В сборник мой вошла пятая часть пьес, что я написал, и один сценарий[568] . Месяца через полтора меня вызвали в издательство. И вот после очень большого промежутка времени приехал я в Дом книги, чтобы поговорить об издании своей книги. Дом Уошеров, который давно упал, но никто этого не замечает[569] . Штатные работники выполняют, нисколько не смущаясь и не пугаясь, работу призраков. Я в течение двух часов добивался с помощью редактора единообразия. То есть: чтобы все ремарки были набраны одинаково, стояли в одном и том же порядке, чтобы... не помню уж всех крохоборческих и третьестепенных требований, которые сводились все к одному – к типографскому единообразию. Хорошо, впрочем, было то, что никто не требовал, чтобы я переделывал текст пьес. Кончив работу, спустился я во второй этаж, где теперь – там, где в двадцатых годах размещалась бухгалтерия Госиздата, – устроили отделение книжного магазина. Тут теперь отдел художественной литературы, детской книги и так далее. И вот я увидел зрелище, испугавшее меня. Множество сборников, под названием «Пьесы», стояли, как памятники.
На полках, за спиною продавщиц. Фамилия автора едва видна. «Пьесы», «Пьесы», «Пьесы» – и никому они не нужны. Это испугало меня. Приехавши домой, попросил я, позвонив в издательство, переменить название книги, взяв для этого любое заглавие пьесы. Там согласились. Книга будет называться «Тень». Через два-три месяца, совсем недавно, прислали мне корректуру. И – о, ужас! – в верстке! За это время могущественная и на самом деле существующая типография скрутила призрачных обитателей Дома книги. Верстка! Значит, я не могу править рукопись, увидев ее в печати. А именно тут многое становится окончательно ясным. Править можно было только в пределах двух-трех слов. Общее, призрачное безразличие к существу дела и загадочная, потусторонняя придирчивость к мелочам.
12 июня
Смирнов Владимир Иванович – один из самых привлекательных людей. Он обладает врожденной душевной лояльностью... Ему вчера исполнилось шестьдесят девять лет, но глаза глядят живо – темные под седыми бровями, и душа живет, не цепенеет, как жила в молодости. Он внимателен, как в путешествии.
13 июня
Он академик, математик, резко отличается от крупных ученых подобного чина знаниями и в чуждых как будто бы ему областях. Володя Орлов его встретил на пароходе и познакомился. Кто-то ему сказал, что Владимир Иванович – профессор. Всю дорогу они говорили о символистах – Володина специальность, – и он решил, что Владимир Иванович несомненный литературовед. Одному удивлялся: как же так вышло, что, по роду занятий зная всех специалистов в своей науке, мог он пропустить такого знающего, а главное – понимающего. Вовсе не обязательно это подлинное знание в чужой области, но необыкновенно привлекательно и человечно. О живописи, скажем, Владимир Иванович никогда и ничего не говорит, что резко отличает его от многих других профессоров, собирающих Шишкина и Маковского и восхваляющих этих живописцев, прищурив один глаз и делая неопределенные движения пальцами. Зато музыку, которую Владимир Иванович любит, знает он до тонкости. Научился играть на рояле самоучкой. Но когда играл в четыре руки с Рабиновичем Николаем Семеновичем, человеком в своей области непреклонно строгим, тот удивился, как понимает Владимир Иванович Малера. Все знания Владимира Ивановича естественного происхождения, исходят от подлинного желания, от невыдуманных, истинных душевных потребностей. И поэтому он начисто лишен свойственной многим ученым чисто бабьей уверенности, что он и во всех областях все понимает. Знает Владимир Иванович многое и в философии. И все это, возглавляя чуть ли не семь кафедр и какое-то большое количество научных институтов, и читая чужие диссертации, и преподавая... Ходит он быстро, глядит остро; играя на рояле, забывает все, – бородка вперед, плечи вздрагивают, губы шевелятся, глядит строго, как на молитве или в самый высокий миг любовного свидания. Рассеянным я его не видел. Однажды зашел разговор о том, что многие до старости видят во сне экзамены. Я спросил его. «Мне до такой степени легко это давалось, что я не вижу их во сне». И, при своей занятости, всегда он о ком-нибудь хлопочет.
14 июня
Тарле Евгения Викторовича видел я раза три в моей жизни. Он успел уже замкнуться в условные формы: академик, большой ученый. Так, вероятно, принимали при дворе. От всего, что он говорил, веяло ледяным холодом чистой формы. Впрочем, исходило это не от сознания своего величия, а от смертельного страха. Он был в свое время арестован и приговорен к смерти, а потом освобожден. И жил в поле зрения того, от которого зависели и честь, и позор, и жизнь, и казнь. Был он, казалось, милостив сегодня, но что ждет тебя завтра за одно слово, за одну букву? Я узнал его благодаря знакомству своему с Богдановичами. Тарле с незапамятных времен, еще до революции, был влюблен в Татьяну Александровну. Я был тронут, когда она, седая, бабушка уже, сказала как-то с удовольствием и гордостью: «Ох, достанется мне от Евгения Викторовича за то, что вышла я в такую гололедицу». Незадолго до этого Татьяна Александровна упала на улице и повредила руку. Году в 49-м или в 50-м в Союзе писателей состоялся вечер памяти Татьяны Александровны. И академик Тарле выступил с докладом. Скованный и замороженный, говорил он об одном: о патриотизме покойной. Ни редакции «Русского богатства», где они встретились, ни долгой и сложной жизни, ни привязанностей: патриотизм и все. Как радовалась Татьяна Александровна, уже больная, умирающая, победам русского оружия. Верю. И не могло быть иначе. Но ведь качество радости ее было особое. А в докладе несчастного, трагически замерзшего академика не отличить ее было от генерала Богдановича[570] .
15 июня
Я его ни в чем не обвиняю. Рассказываю только, во что может превратиться человек возле черного пламени и возле абсолютного нуля административных высот.
23 июня
Уварова Лиза. Характер трудный, склонный к самомучительству. И к мучительству. Когда встретил я ее впервые, тридцать с лишним лет назад, была она очень хорошенькой, очень молоденькой тюзовской актрисой. Она и Капа Пугачева были красой и гордостью театра. Лучшими травести.
24 июня
Сегодня шесть лет, как веду я эти тетради ежедневно. В августе 55-го я думал было, что придется бросить писать, – болел. Но перестать писать показалось совсем уж уныло. И я, несмотря на строгий режим, заполнял положенные две страницы. Писал сначала авторучкой, потом перешел на вечное перо. Подарила Надя Кошеверова. Шестилетие пришлось как раз на троицу.
Возвращаюсь к «Телефонной книжке». Теперь Лиза Уварова совсем другая. Уже давно рассталась она с ролями травести. Впрочем, и в молодости, в 29 году, сыграла она роль старухи Варварки в пьесе моей «Ундервуд». Я настоял на том, чтобы ей дали эту роль. Мне казалось, что она отличная характерная актриса. Она сыграла маленькую роль в каком-то некрасовском водевиле[571]по случаю какой-то памятной даты. И я твердо уверовал в то, что она характерная. В «Ундервуде» играла она отлично. Теперь, по общему мнению, она актриса острохарактерная, «гротесковая», как написали в последней рецензии, и играет она уже не в ТЮЗе, а в Театре комедии[572] . Играет она много. Умна. Владеет французским языком. Комната обставлена с необыкновенным вкусом. И просто. Небольшая, но отличная библиотека. Самостоятельна материально. Кроме театра работает на радио. Золотые руки. Она бутыль из-под чернил, похожую по форме на старинный штоф, расписала маслом так талантливо под екатерининский, что весело смотреть. И вряд ли хоть минуту в своей жизни была она счастлива. Ни когда была она женою Гаккеля[573] , ни в замужестве за Чирковым. После каждой премьеры – в молодости – плакала она, что провалила роль, и ее общими силами утешали. Но вряд ли она хотела утешений. Она из той породы женщин, что, уставши, не отдыхают, а принимаются мыть полы в доме или стирать белье. Они свои раны не залечивают, а раздирают. Она теперь одинока. Но, и окруженная близкими, умела мучиться. А теперь комната ее, на которую так приятно смотреть, для нее – вечный застенок, где она и палач, она же и жертва. Мучает она и всех, кто подвернется, – искаженная, изуродованная душа. Не хочется говорить о ней подробнее, потому что к таким старым знакомым привязываешься в конце концов. Да еще она только что сыграла в моей пьесе[574] . Да еще и праздник сегодня. Закончу на этом об Уваровой, хоть мог бы и продолжать.
25 июня
За это время я дважды подписал верстку сборника пьес, который выпускает «Советский писатель». Но надо бы писать новую. И не тянет. Вокруг все как будто сдвинулось и зашевелилось, но нет уверенности, что чиновники, мастера неподвижности, не приведут все в привычный вид... Пьеса как будто бы имеет успех[575] . Но если брань меня задевает, то похвалам я не верю.
И все-таки смутное, привычное, необъяснимое чувство радости, почти восторга пробивается вдруг среди туч. И я жду.
4 июля
Фаддеевы Дмитрий Константинович[576]и Вера Николаевна[577]– люди дважды уважаемые; таинственная одаренность их кажется мне непостижимой и непостигаемой, чуть ли не божественной. Они математики – шапки долой! И музыкальны – прошу встать. Впрочем, музыкально, таинственно, одарен только Дмитрий Константинович. Он, не бросая математики, кончил консерваторию по классу рояля и утомленными своими глазами по растрепанным нотам просто и легко читает с листа, без малейшего напряжения. Ноты ему помощники, а не враги, которых требуется преодолеть. Почти каждую субботу в течение сумеречного периода моей комаровской жизни с осени 49-го по 54 год – наступал праздничный вечер. С дачи Смирнова извещали: сегодня в семь часов музыка. В большинстве случаев число слушателей не превышало двоих: я и Вера Николаевна. Я сидел позади музыкантов. Вера Николаевна напротив меня у кафельной зеленоватой печки. Она могла любоваться и Владимиром Ивановичем, и собственным мужем. Первый сидел за роялем слева. На стул он подкладывал, по невысокому своему росту, толстую нотную тетрадь, кажется, бетховенские сонаты. Долговязому Фаддееву и так было удобно. С первых же тактов играющие уходили в музыку, как в воду, как в среду, сильно изменяющую их свойства. Нисколько не казалось смешным, что Владимир Иванович то подпрыгивает, то вбирает голову в плечи, то откидывает вверх назад торжественно. А Дмитрий Константинович все покачивался и покачивался. Иногда среда поглотившая исчезала. Музыканты допускали ошибку. Тут они останавливались и, наскоро условившись, с какого такта начинать, снова благополучно одолевали трудное место и, сойдя с мели, погружались в свою стихию. Удивительно менялась, слушая музыку, Вера Николаевна. Она походила на курсистку-бестужевку. Лицо принципиально некрасивое, строгое. Судила и рядила беспощадно и храбро. Несла иногда, как и подобает курсистке, такое, что нельзя было не вступать с ней в спор. И притом отчаянный. Музыку любила до того, что первенца своего назвала Людвиг[578] , в честь Бетховена, что тоже раздражало. Однажды пожаловалась: «У мальчика абсолютный слух. Мы так мечтали, что он пойдет в консерваторию, в дирижерский класс, а он выбрал физику!»
5 июля
И когда начинали в четыре руки наши музыканты, словно таяло осуждающее выражение ее лица. Вера Николаевна казалась теперь застенчивой, нежной, даже умной. Она слушала музыку не как общественница разглагольствует, а как «ангел богу предстоит». Дмитрий Константинович высок, худ, выражение глаз серьезное, несколько странное, – у него что-то неладное со зрением от переутомления. Говорит несколько косноязычно, как Василий Алексеевич Соколов, учитель математики в нашем реальном училище в Майкопе. Отец лучшего моего друга Юрки Соколова. Не то картавит, не то не выговаривает несколько букв. И мне чудится, что это не единственное сходство с Соколовыми у Фаддеевых. Есть прелестное явление природы – талантливая и уравновешенная русская семья. Если бы не вызывающая ярость агрессивная простоватость Веры Николаевны, то целый ряд признаков этого явления ощущался бы ясней. Фаддеев ни разу за все пять лет нашего знакомства не сфальшивил. Все, что он говорил, соответствовало его мыслям, его представлению или ощущению. Я не могу себе представить, что он изображает профессора, видит себя со стороны и любуется: «Я декан! Ай да я! Я выдающийся. Мы, ученые!..» и тому подобное. От врожденного отсутствия позы он, как таковой, стоит против предмета и смотрит на него не с условной, а с естественной точки зрения, без посредников. Поэтому об искусстве он тоже всегда говорит интересно. Или не говорит. Не притворяется.
Вера Николаевна, несмотря на то, что вечно я раздражаюсь, слушая ее – у нее не умозаключения, а приговоры, – чем-то и внушает уважение. Хотя бы душевной свежестью. Вечная студентка. Она основной двигатель семьи. И гараж построен благодаря ее энергии. И достраивается дача в Комарове. Она ведет дом. Детей их я знаю мало, но впечатление они производят хорошее. И такие резко ограниченные характеры, как у Веры Николаевны, необходимы для того, чтобы быть хорошей воспитательницей. Одеваются муж и жена не то чтобы небрежно, а не придавая этому значения; Свойство среды. И хорошие спортсмены – гребут, гоняют на велосипедах, путешествуют.
15 июля
Чивилихин Анатолий Тимофеевич, один из самых привлекательных людей в нашем Союзе писателей. Честен органически, как бывают люди музыкальны или черноволосы. Худ. Застенчив. Лицо малоподвижно, за что Ольга Берггольц, когда находится в состоянии воинственном, называет его Буратино. Но душа его глубоко уязвима и нежна. Когда выдвинули его неисповедимые судьбы в секретари ССП, мы обрадовались, но в меру. Каждый понимал, что слишком уж он хороший человек для того, чтобы держать в страхе злодеев... Талантливый ли он поэт? Для меня это несомненно. Но именно честность натуры дает ему развернуться в полную силу, когда он пишет свое. А это удается ему не часто. Но голос у него свой.
16 июля
На букву «Ш» – одни Шварцы, родня, о которой так много знаешь, что никакого открытия не сделаешь, рассказывая. И люди все разные, но близость с ними одинаковая, словно принудительная. Но все это не имеет отношения к делу. Начну. Антон Шварц – был самым близким из родных. Нас объединяло время, среда, в которой мы выросли, достаточное сходство, чтобы понимать друг друга, и разительное несходство, чтобы друг друга удивлять. Самым поразительным для меня была Тонина уравновешенность. С самых ранних лет. Отец часто вспоминал, как двухлетний Тоня, когда его спрашивали: «Понимаешь?» – отвечал вяло и хладнокровно: «Понимаю». И помню я его, вероятно, с этого же времени. Мы сидим во дворе, на стульях, которые кажутся мне очень высокими. В руках у каждого по шоколадке, которые мы друг другу показываем. И что-то голубое связано с этим воспоминанием: Тонина шапочка с помпоном, вроде матросской, или голубые обертки шоколадных плиток, или ясное небо. Шоколадные плитки – с фокусом – дернешь за белый язычок, и собачка, нарисованная на обложке, откроет глаза. В те же времена, или годом позже повели нас на Красную улицу в какой-то магазин – там показывали фонограф. От аппарата шли резиновые трубки с костяными наконечниками. Мне вставили эти холодные наконечники в уши, и я услышал какой-то отвратительный, нечеловеческий голос, и перепугался, и бросился бежать. Фонограф помнил и Тоня. Это – первое общее наше воспоминание. В 1904 году, летом, жили мы в Одессе. Мама решила кончить курсы массажа. На обратном пути остановились мы в доме дедушки, возле кирхи. К этому времени жизнь у меня стала сложной. И Екатеринодар тех дней окрашен уже не одной краской. И тут мы с Тоней подружились. Он был так же уравновешен и спокоен и поражал меня богатством своего языка.
17 июля
Я помню екатеринодарский их двор, пыльный, с деревьями, желтеющими не от осенних холодов, а от избытка жары, преждевременно стареющими. Соседские мальчики по фамилии Канатовы. Тоня, как самый спокойный и цельный, руководил нами, а мы с удовольствием подчинялись. Иногда игра прерывалась. Муравьи строем ползут, ползут, двигаются куда-то вверх черным ручейком по светлой коре какого-то дерева. Вернее всего пирамидального тополя. И мы обсуждаем, куда они спешат. И выясняется, что Тоня знает о муравьях больше всех нас. Толково, уверенно и спокойно он рассказывает, а мы слушаем с тем страстным вниманием, которое всегда просыпается, если мы остаемся в пределах своего мира, и которое умирает от малейшего насилия. Взрослые постоянно внушают: «Слушай, что тебе говорят». Тоне и в голову не приходит требовать внимания. Он рассказывает естественно, а мы естественно впитываем то, что он говорит. Таков мирный перерыв игры.
18 июля
Мы встретились через восемь лет – в тринадцатом году, весной. Мне было шестнадцать с половиной лет. Тоне – семнадцать. О том, как сидели мы на высоких стульях, он не помнил, фонограф – как через туман, но разговор на заборе запомнил твердо. За эти годы я бесконечное количество раз. слышал о нем. Рос я нескладным, раздражал этим отца – человека здорового, красивого, рослого, вспыльчивого, страстного и цельного. И каждый раз, побывав в Екатеринодаре, он попрекал меня Тоней. Тоня – прекрасно декламирует. Круглый пятерочник. Году в двенадцатом, возвращаясь из Анапы, побывал я у его родителей. И Беллочка рассказывала о сыне еще подробнее и восторженнее, чем папа. И о его учении. И о его успехах. Однажды у них обедал известный миллионер Юкелис. И он предложил Тоне, рассказав какой-то анекдот: «А ну, переложи это на стихи – дам пять рублей», и Тоня, выскочив из-за стола, побежал к себе и через пять минут вернулся со стихами, от которых старик Юкелис пришел в восторг и заплатил обещанную сумму. Тони не было. Он гостил за границей у бабушки в Наугейме. К моему удивлению, по большой шварцевской квартире бегала маленькая, нежная девочка – лет трех. Тонина сестренка. О ее существовании я и понятия не имел.
19 июля
К тому времени отношения со взрослыми у меня до того усложнились или скорее упростились, что я пропускал мимо ушей все их разговоры, если они не направлены были непосредственно ко мне. Они жили своей жизнью, а я своей, в достаточной степени сложной, и говорили мы на разных языках. Я их не осуждал за это. Напротив, склонен был часто считать себя виноватым, но понимал, что и это не поможет нам понять друг друга и объясниться. Вот отчего пропустил я мимо ушей, что у Тони родилась сестренка. И не придавал значения похвалам по Тониному адресу. Не сердился на них. И с интересом поехал погостить к ним весной тринадцатого года. Тоня прислал мне открытку, в которой звал меня, и кончал ее богато: «Sic volo, sic jubeo»[579] . Я был реалист, так что латинскую эту цитату перевел мне папа. Конечно, Тоня оказался совсем не таким, как описывали старшие. Худенький, узкоплечий, бледный, с ясно выраженными шварцевскими чертами лица – не семитическими, а хамитическими: полные губы, густая шапка жестких волос. Глаза глядели спокойно и достойно. Язык его рядом с моим был все так же богат, так что в первый день склонен был я обвинить его в страшном грехе – в неестественности. Главный недостаток, которого с детства приучала меня бояться мать. Но, к своему удивлению, вслушавшись, понял я, что за непривычной манерой выражаться скрывается понятный и близкий мне смысл. Я был варварски самоуверен. Шел по своим путям, но мы быстро поняли друг друга.
20 июля
Тоня был куда образованней меня, но вместе с тем мальчик, спрашивающий, может ли хороший еврей попасть в рай, не умер в нем, а вырос. Время было скептическое и эстетическое. Екатеринодар яснее ощущал влияния нынешнего дня: туда приезжал Бальмонт и скандалил за ужином и принялся ухаживать за Беллочкой, Тониной матерью. За ужином, что давали в его честь, он вел себя так, что к концу осталось всего несколько человек. И Бальмонт спросил Исаака: «Вы любите свою жену?» – «Да!» – ответил Исаак с мрачной, шутливой серьезностью. «И я тоже!» – сказал Бальмонт. «Что ж мы будем делать!» – воскликнул Исаак, схватившись за голову с комической серьезностью. На другой день тихий и трезвый пришел он к Шварцам с визитом и, уходя, написал в альбом Беллочке: «Душа светлеет, Увидя душу, Союз наш верный – Я не нарушу». И уехал читать стихи и скандалить в Новороссийск. И Тоня видел его в непосредственной близости. А в Майкоп подобные существа не забредали. Приезжал и пел свои стихи Игорь Северянин. И Тоня наблюдал его в непосредственной близости. И удивился и огорчился (за меня) узнав, что я не люблю его стихи. И толково, спокойно и рассудительно объяснил, почему они ему нравятся. И я подумал: «Ладно, об этом надо потом подумать». Так я всегда поступал в те дни при столкновении с чем-то, требующим душевного или умственного напряжения в области для меня новой. Рассказал мне Тоня о Мамонте Дальском. Он почему-то не мог найти комнату, приехав на гастроли, и Тоня провожал его по адресам, где знаменитый артист мог устроиться. Дважды потерпели они неудачу, и гастролер сказал с великолепной задумчивостью: «Когда я умру, тысячи людей пойдут за моим гробом, а сегодня мне негде преклонить голову». И хоть подобные существа забредали и в Майкоп, но им далеко было до Мамонта.
Тоня к своим семнадцати годам много видел, много наблюдал, не раз побывал за границей, прочел множество серьезных книг, и они отлично уложились у него в голове. Свои знания добывал я, как Робинзон. Но мы понимали друг друга, как десять лет назад.
21 июля
К этому времени мы совсем уже подружились. Большая шварцевская квартира была пуста, и я орал, пробуя голос, и бренчал на рояле, и однажды напал на Тоню в дверях его комнаты, заставил его фехтовать штиблетами, что нес он в руках. И Тоня сказал весело и удивленно: «С тобой я опять превращаюсь в мальчишку».
24 июля
И вскоре мы расстались с Тоней, чтобы встретиться через год в новом мире – военном. Осенью приехал я из Майкопа в Екатеринодар, где мобилизованный папа мой служил врачом в войсковой больнице. На душе было темно, не по возрасту – терзала и не давала покоя любовь к Милочке. Война казалась зловещей, но была только фоном к тому, чем я жил. Насколько светлее было прошлое лето, лето тринадцатого года. Екатеринодар тех дней больше всего связан у меня с запахом новой только что отлакированной мебели. В мебельном магазине дедушки встречались мои дяди и их друзья, возвращаясь с работы. Самоуверенные и спокойные адвокаты, друзья младшего из моих дядей, Саши. Исаак, Тонин отец, с выражением всегда несколько гневным и осуждающим. Магазин узкий и длинный, как галерея, ряды буфетов, кресел, диванов, исчезающих в глубине. Больше всего и увереннее всего говорили адвокаты – и о литературе, и о театре, и о суде, и о женщинах. В адвокатской комнате висело расписание – кому по дороге в суд покупать газету. Составлено оно было на тридцать пять дней, а ниже стояла надпись: «К этому времени война кончится». О женщинах говорили они с непривычной для меня откровенностью... И мне странно было слушать спокойный и уверенный адвокатский голос, повествующий о вещах вполне непристойных. Особенно странно потому, что за день до этого я познакомился с его дочерью-гимназисткой. Мой полумонашеский майкопский мир исчезал.
25 июля
С Тоней мы встретились на этот раз как старые знакомые, но я успел сильно перемениться за этот год. Я провел несколько месяцев в Москве. Вспоминаются они мне до сих пор как несколько лет. Я утвердился в своей робинзоновской внутренней жизни. Кое-что самодельное, кое-что принесло к моему острову течение. Я писал стихи, подобные робинзоновской одежде. И на этот раз показал их Тоне. Он выслушал стихи мои с недоумением и даже неловкостью. Указал, что так не рифмуют. И возражал против полного отсутствия музыкальности, когда увидел, что я разумею под этим не в теории, а на деле. Печальные для меня длинные-длинные екатеринодарские дни. И споры в большом Сашином кабинете. Он уступил нам комнату в большой своей квартире. Все чуждо мне – и огромный адвокатский письменный стол, и кожаный диван с высочайшей деревянной спинкой, на вершине которой вмонтированы полочки. На полочках вазы с глазурью немецкой выделки и фотографии какого-то актера с трогательной надписью и Сашиной дочки от первого брака. Позади стола – книжный шкаф с роскошными изданиями. Четыре толстых тома: «Мужчина и женщина», словарь Брокгауза (или «Просвещения»?) и еще какие-то книги с корешками, сияющими золотом. Кожаные мягкие кресла. За окнами ныне исчезнувший очень мной любимый шум: быстрый стук копыт по мостовой. Мне казалось когда-то, что это едут непременно к нам. И что приезд этих неведомых людей принесет мне счастье. Но не этой осенью. Я ничего хорошего не ждал в августе 14 года...
Нам сшили студенческую форму. У одного портного.
26 июля
И достали билеты в вагоне «Новороссийск – Москва». Достали в Новороссийске – из Екатеринодара в военное время непросто было выбраться. Толпа у вагонов, шум, какие-то девушки кричат Тоне с площадки, вручают нам билеты, и вот мы отправляемся в Москву. Несмотря на любовь, терзавшую меня, не дававшую ни минуты покоя, я ухаживал всю дорогу за беленькой девушкой. Она ехала в Петроград на курсы. С нею – мать, худенькая, черненькая, моложавая. Жили они где-то на границе с Турцией (Манглис?). Отец-офицер служил там. Мы всё стояли на площадке, а мать появлялась от времени до времени, присоединялась к нам. И Тоня стоял тут же на площадке. Он не ухаживал – скорее снисходительно и вежливо принимал знаки внимания и восхищения от худенькой стройной девушки по имени Галя. Маруся Бахчисарайцева – гимназистка в Екатеринодаре, Галя и новые наши знакомые в поезде – все восхищались красотою Тониного голоса. А кто-то из взрослых сказал, что у него органный звук голоса, что, когда он говорит, чувствуешь обертоны. Тоня охотно читал вслух. Но об актерской карьере и не думал. Сказывалась та же инерция, что не пустила отца его в актеры, а даже строгая моя мать подтверждала, что Исаак необыкновенно одарен. Та же сила привычной колеи, что не дала моей матери, ее брату и сестре пойти на сцену. Впрочем, вряд ли мы думали тогда об одном каком-нибудь пути. Казалось, что все «пока». Война. Как можно решать что-нибудь окончательно. Беллочка, по особой характерной уверенности своей, что надо хлопотать и родственники помогут, написала в Москву своим двоюродным братьям, чтобы они оказали нам содействие. Они приняли это как должное. Один из них, седой сорокалетний, другой чуть моложе, лысый, с усами и светлыми нагловато-насмешливыми глазами, в день приезда приняли нас в конторе, принадлежащей им. Какой? Не поинтересовался. Оба серьезно, солидно давали нам советы, обращаясь больше к Тоне. Советы совершенно ненужные. Например: питаться в студенческой столовой. Там теперь кормят дешево и хорошо.
27 июля
Или: сдавая белье прачке, сосчитай его и запиши. Впрочем, младший из Тониных двоюродных дядей, тот, что с нагловато-насмешливыми глазами, Аркадий, указал нам, что в Дегтярном переулке, этажом выше его квартиры, сдается комната. И это сведение не представляло ни малейшей цены. В те дни в Москве на каждом квартале можно было увидеть зеленые прямоугольные бумажки в окнах домов. Это были объявления о сдающихся комнатах. Красные объявления указывали на сдающиеся квартиры. Тем не менее мы воспользовались дядиным советом и поселились в Дегтярном переулке. Хозяином оказался чех лет тридцати, музыкант из оркестра Художественного театра. Вся семья его состояла из жены и свояченицы, по имени Граня, которой чех горловым голосом читал иногда нотации. Начинались они громко: «Граня, я тебе говору!» – а в дальнейшем он понижал голос. Комнату мы сняли просторную, с новой светлой, модной в те дни мебелью. Так была обставлена и вся квартира. Вот и начался первый семестр моей студенческой жизни, который, когда я вспоминаю, представляется мне долгим, как бы многолетним... В этот период жизни мы были дальше друг от друга, чем когда-либо. Юридический факультет я ненавидел. До самого здания, коридоров, аудитории, студентов. Тоня, который обладал значительно более организованным умом, принимал его здраво.
28 июля
Я чувствовал себя не то что чужим, а вызывающим протест в среде дяди Аркадия, куда пышнотелая, темноглазая, живая, молодая, вечно напевающая что-то из оперетт, простоватая его жена постоянно звала нас то к обеду, то к ужину. У нее был мальчик – не от Аркадия – лет пяти. И с Аркадием они были не венчаны. Бывал у них вечно в гостях сытый человек лет тридцати пяти, спокойный, уравновешенный, довольный жизнью. Бывал Метнер, брат композитора, до наивности немецкой наружности. И он владел какой-то конторой, как Аркадий, или была у него фабрика. С ним тощая блондинка, подруга жены Аркадия, находящаяся в том же положении при Метнере, как та при Аркадии. Длиннолицая и, на мой взгляд, немолодая жена адвоката появлялась всегда в сопровождении молодого спутника с лицом грубым и наглым. И целая шайка подобных молодцев иной раз являлась с ними. Сам адвокат, бледный до бесцветности, похожий лицом на Чайковского, держался несколько брезгливо в стороне от компании жены. И при Тоне однажды, когда в компании его жены вышла какая-то ссора и к адвокату обратилась жена с жалобой, он ответил: «Не вмешивайте меня в свои грязные дела». Он, адвокат этот, поразил нас годом, примерно, спустя. Шла премьера пьесы Андреева «Король, закон и свобода», шла с неслыханным успехом[580] . Зал обезумел, когда король приказал открыть плотины и утопить немцев. Зал представлял явление куда более поразительное, чем сцена. И наш знакомый, бледный до бесцветности адвокат, похожий на Чайковского, охваченный общностью, массовостью чувства, побледнев еще более обыкновенного, кричал, вскочив на кресло: «Так их, топи их, туда их!» И никому, кроме нас, не казалось это странным. Приближались новые, страшные времена, но в первый год войны мало кто угадывал это. И мы с Тоней успели забыть то особое, зловещее чувство, которое испытали, увидев на маленькой станции по дороге в Москву первых раненых. Теперь встречались они в каждом переулке, вошли в быт.
29 июля
Итак, в сытом, довольном собою, модно обставленном доме Аркадия жизнь шла привычной для них и невозможной для меня дорогой. Я вижу теперь, что никогда в жизни не смел брать. Не в похвалу себе говорю. Вечно я чувствовал себя виноватым, неведомо в чем, но, увы, ничего не делал, чтобы эту вину загладить. И не доводил до конца, если что-нибудь в этом направлении начинал. Взять хоть бы мою попытку пойти охотником на фронт. Я мог бы добиться своего – и отступил. Впрочем, это другая история. Разглядывая мир дяди Аркадия, я испытывал чувство, похожее на ревность, – с какой уверенностью потребляли они все, что давала им жизнь. А мои колебания приводили только к неясности чувств и сбивчивости желаний. Тоня принимал окружающую среду спокойно и с достоинством, не принимал, но и не вступал с ней в спор...
В следующем семестре поселились мы раздельно. Я снял комнату в солодовниковском доме в Лебяжьем переулке. Любовь моя к Милочке Крачковской вдруг сломалась под собственной тяжестью. Жизнь стала пустой – столько лет я жил только этим. Тоня же продолжал спокойно и не теряя равновесия развиваться. И особым достоинством являлось то, что он сохранял ясность взгляда. Он продолжал сам смотреть. Сохранял самостоятельность. Прочитанные книги помогали ему смотреть, а не являлись целью. В те времена образовалась группа студентов, выделяющихся из общей среды... Для большинства из них, из этой группы студентов, «эрудит» было высшей похвалой. Стилизация их восхищала. Тоню считали они равным. Но он был выше. Весна шестнадцатого года. Мы перешли на третий курс, возвращаемся в Екатеринодар на каникулы. В Кавказской – пересадка. Мы увидели в тупике екатеринодарские вагоны, стоим на задней площадке, ждем, когда прицепят. Зелень, еще не тронутая жарой, поражает после Москвы богатством, решетку станции не видно, все заросло травой и кустами. Мы разговариваем с жадностью и с прежним уважением к опыту друг друга. И если у нас нет ясной веры наших отцов и умерла детская вера, то потребность веры осталась. В нашем разговоре есть элементы того, что вели мы в дедушкином саду. Да, мы еще ничего не начали всерьез, война продолжается, все, что мы делаем, это «пока». Но мы говорим о том, что будем делать. К этому времени Тоня уже уверовал в мои варварские стихи и даже носил их показывать Бунину. К счастью, его в Москве не оказалось. А я с уважением отношусь к Тониным знаниям и привык к его манере говорить. Так мы и жили, все «пока» да «пока». Судьба забросила нас в Театральную мастерскую. Мы стали актерами, что было естественно для Тони и совсем неожиданно для меня. Он женился на тоненькой, высоколобой, огромноглазой Фриме Бунимович. Женился и я. Оба мы развелись со своими женами, которые, кстати, ненавидели друг друга. Встречались редко – каждый шел своей дорогой. Тоня кончил юридический факультет, работал некоторое время адвокатом, продолжая выступать как чтец, и, наконец, окончательно отказался от адвокатуры. Со свойственным ему спокойствием относился он к переездам из города в город, к гастрольным своим поездкам. И объездил всю страну с программами, которые составлял сам. И имел очень большой успех всюду, где бы ни выступал. Ему найдется что сказать, если его спросят, что он за свою жизнь сделал. Он все уезжал, виделись мы редко, но я каждый раз испытывал некоторое огорчение, узнав, что Тоня собирается снова в путь. И вот пришла война. И мы встретились в Москве, в гостинице «Москва». Он рассказывал о фронте. С моей точки зрения, он не изменился. Но один из актеров, бывший с ним на фронте, рассказал мне. Генерал очень полюбил Тоню, все гулял с ним и разговаривал, и молодая жена генерала пожаловалась однажды: «Что нашел он в этом старике?»
30 июля
Для меня студенческие наши дни, даже детство – было точно вчера. И, глянув на седую Тонину голову, я подумал: «Да, время-то идет». Но тут же почувствовал: «Идет, но не проходит». Я вспомнил, как однажды сравнил Олейников время с патефонной пластинкой, где существуют зараз все части музыкального произведения. Для меня Тоня не мог быть стариком. Я видел за случайными сегодняшними признаками его основную неизменную сущность. Он был, как всегда, уравновешен, и вместе с тем, или именно благодаря этому, голова его работала с той честностью, энергией и ясностью, что меня так покоряло всю жизнь... И за время войны и в послевоенные годы мы сблизились больше, чем когда-нибудь, именно потому, что едва намеченное в молодости утвердилось, разъяснилось и окрепло после всего, что пришлось нам пережить.
31 июля
Он готовил монолог Фауста и спокойно и толково спорил с Пастернаком по поводу отдельных строк перевода, и Пастернак разговаривал с ним как со своим и соглашался. Встречался Тоня с людьми достойными, круг его знакомств был никак не похож на актерский. Мы рады были, встречаясь, – с годами привыкли понимать друг друга еще точнее.
1 августа
Но вот в конце сороковых годов Тоня тяжело заболел. Инфаркт. В результате сердечной недостаточности – плеврит, болезнь почек, кишечника. Мне казалось, что неверно это. Не может быть. Я, приехав в Москву, отправился к Тоне в клинику на Девичьем поле. Когда-то мы тут по соседству обедали в медицинской столовке, где бывали вечеринки, необыкновенно веселые. Местности я не узнал, но мог сообразить, где эта столовка помещалась. Больничная холодность, халат не по плечу, высокие коридоры и, наконец, неестественно высокая, небольшая, узкая палата на три койки. Тоня, все такой же спокойный и уравновешенный, очень бледный. Всегдашняя больничная связанность. И в самом деле – как разговаривать, когда в двух шагах лежат люди. Один читает, другой пишет письмо. Едва разговор завяжется, как чувствуешь, что хотят не хотят соседи, а послушают. Тоня шел уже на поправку – восьмой месяц, как он лежал. Мы провели вместе часа два. И я, без всякой веры в возможность этого, чисто рассудочно думал: неужели мы видимся в последний раз? К этому возрасту я привык к тому, что подобные вещи случаются чаще, чем ждешь. Но в глубине души я этому не верил. И Тоня в самом деле поправился и скоро – через год – уже выступал на концертах. И ездил по всей стране. И собирал полные сборы в Ленинграде, в Большом зале Филармонии. Как Тоня читал? Я долго привыкал, да так и не привык окончательно к этому виду искусства, к художественному чтению. Для меня исчезал смысл стихотворения, если к литературной выразительности примешивали еще декламационную. Всегда несколько искусственно-холодноватую. Условную. И громкую. Смысл – я говорю о поэтическом смысле – грубел и шел на дно. Пока я был актером, то притерпелся к этой условности. Потом отвык настолько, что, услышав недавно, как Журавлев[581]читает «Даму с собачкой», как грубеет и твердеет самый высокий смысл, самый драгоценный из многих смыслов повести, пришел в ужас. И ярость. Тоня обладал прекрасным, редким, низким органным голосом. И в его чтении я понимал автора. Особенно прозу. Потому что Тоня, хоть и допускал декламационную, излишнюю, по моей застенчивости, выразительность, чувствовал законы вещи.
2 августа
Вчера вечером встретил Гора[582] , который шел ко мне с книжкой – показать первый сборник моих пьес.
Продолжаю рассказывать о Тоне. Мне казалось, когда начинал он выступать в качестве чтеца, что его особенности – голос, манера – делают похожими друг на друга и Державина, и Блока, и даже Сумарокова. Но в дальнейшем приемы его стали точнее. Большое лицо, шапка густых волос, спокойные светлые глаза, высокий рост, уверенность – органическая, внушающая уважение, простая. Жест, правда, несколько неуверенный, – да Тоня и не пользовался им почти. И голос. Великолепный голос. И зал подчинялся и верил. Мы несколько раз встречались с Тоней в Москве... Тоня уже готовил новую программу. Выступал. Однажды из окна троллейбуса увидел я, как пытается он сесть в мой вагон, а кондуктор не пустил, – переполнено. И у меня почему-то сжалось сердце. Я вспомнил, как на Николаевском вокзале увидел в последний раз Юрку Соколова – тоже вот так, через стекло. Правда, Юрка был в вагоне, а я стоял на платформе, но никогда мы больше и не увиделись. И я вышел на остановке у улицы Горького, дождался следующего троллейбуса и встретил Тоню. Казалось, что он был совсем здоров в те дни. Но я почему-то испытывал какую-то неуверенность. Вот пришел Тоня и просит поскорее налить ведро горячей воды, поставить туда ноги. Прилив крови к голове. И у меня то же чувство, которое испытал я, когда Тоню впервые назвали стариком. И он, заметив, угадав – ведь столько лет мы знакомы, – говорит мне спокойно и ласково: «Да ты не расстраивайся. Ничего». Говорит больше интонацией, чем словами. Потом с глубокой неохотой переехал Тоня в Ленинград. Тут ему опять стало хуже. Он отлежался. Поехал на дачу в Москву – и опять захворал и попал в ту же самую клинику, что прежде, на Девичьем поле. И снова, приехав в Москву, я отправился навестить Тоню и, пройдя через гулкий вестибюль и получив халат не по плечу, отыскал я Тоню в неестественно высокой палате на три человека. Он поправлялся.
3 августа
Что, собственно, рассказывать? Он поправился, но не так, как пять лет назад. Болезнь сваливала его с ног еще и еще раз, безболезненно почти, но упорно. Он принялся за книгу. Ему хотелось рассказать о своем опыте чтеца. Он боялся, что выступать больше не придется. Он захворал, вдобавок к сердечной болезни, – забыл, какое имя носит это несчастье. У него стали шататься и выпадать зубы. Ему сделали мост. Золотой. И очень неудачно – испортили ему дикцию. И это огорчало его. Книжку писал он упорно. Интересной казалась мне мысль о том, что чтец обязан найти, от имени кого читается вещь. Угадать авторский характер. Не в актерском, а в особом плане. Не выходя за пределы своего искусства, искусства чтеца. Он зашел показаться профессору Рыссу, Симе Рыссу, нашему сверстнику. И Сима сказал мне: «А ты знаешь, что Тоня обречен? Ему жить – месяц, другой, – у него сильнейший склероз. Особенность склероза – его избирательность. Мозг – не тронут. Голова свежа. А человек обречен». И я не поверил этому. Тоня решил начать выступления – настолько он хорошо себя чувствовал. Но сначала по радио. Там спокойнее. Мы с Эйхенбаумом должны были зайти к нему – посоветоваться о Тониной книге. На радио затянулась репетиция. Тоня устал. Когда я позвонил, что мы с Эйхенбаумом идем к нему, Наташа[583]сообщила, что свидание придется отложить. Тоня заболел. И больше мы не виделись. То лучше, то хуже, то лучше, то хуже. Я был у Войно-Ясенецких[584]на именинах. Позвонил домой. Все время занято. Слишком Долго. И это встревожило меня. Я поехал домой. И узнал, что Тоня умер. Он обосновался в те дни у сестер – у Вали, той самой нежной девочки, появление которой так удивило меня в большой шварцевской квартире в Екатеринодаре, и у Муры, которая появилась на свет годом-двумя позже. Валя уже совсем седая. Мура и Наталья Борисовна сидели возле постели, на которой лежал Тоня с обычным своим рассудительным и спокойным выражением, только глаза были закрыты, и это был не Тоня. И как бы мы ни жалели его, уже ничего общего не было между ним и нами.
С месяц назад, в сильный ветер, поздним, хоть и светлым вечером включил я радио и услышал живой Тонин голос. Он читал «Медного всадника», и я слышал даже его дыхание.
4 августа
И хоть ветер шумел за окнами и брата, дыхание которого я слышал так ясно, будто стоял он рядом в комнате, уже не было в живых, я испытывал скорее радость, чем печаль. Если бы я умел! Я чувствовал за привычным смыслом вещей другой, настоящий. Еще усилие – и я пойму, что «времени больше не будет» и ничто не ушло, не умерло из пережитого. Но это последнее усилие – в который раз сорвалось. И мир вскоре принял свой непрозрачный и непреодолимый образ. Вот и все, что удалось мне рассказать о Тоне.
9 августа
Двадцать лет назад жили мы в Сухуми, в Алексеевском ущелье, и ощущалось бы это время сейчас как один из очагов тепла, согревающих жизнь через все годы. Но мешает одно – наш сосед, с которым мы подружились так, как это бывает в счастливые, праздничные черноморские дни, – трагически погиб в конце сороковых годов. Я говорю о Льве Моисеевиче Квитко. Это был, при наружности прозаической, солидной, прирожденный поэт и легчайший человек. Работал легко, как дышал. Проснувшись, брался за блокнот. И, лежа на берегу моря, работал над своей поэмой[585] . Но это другая история. О Квитко рассказывать надо отдельно. Что я попробую сделать когда-нибудь, если хватит сил. Пока скажу, что это был один из самых привлекательных людей, что встречались мне в жизни. И смерть его, словно траурной рамкой, окружает лето 1936 года именно потому, что он жил тогда полной жизнью.
12 августа
Эйхенбаум Борис Михайлович. Опять трудная задача. Я его слишком давно знаю, и мелочи сбивают с толку. Большая голова. Не по хилому телу большая, – так казалось мне, когда познакомились мы. Впоследствии (опять на море!) убедился, что тело у него по-мальчишески складное и мускулистое, так что голова – чему особенно помогала резкая граница загара, – лысая, крупная, седая голова его казалась приспособленной к шее по ошибке. И он плавал далеко, скрываясь в волнах, и он легко ходил, но физиологической радости бытия не обнаруживал. Нет, он не испытывал страстной любви к жизни. Жил легко, но все чисто жизненные, практические вопросы, бытовые – решала за него Рая Борисовна, жена, человек с ясными чувствами и твердым характером. Голова Бориса Михайловича работала сильно, требовала от складного, но мальчишеского тела усиленного питания. И ему было некогда и не к чему вмешиваться в людскую суету вокруг. Поэтому-то ученики его жаловались на холодность и безразличие к ним. Это худо. Зато он начисто лишен был бесстыдного бешенства желания низшего сорта. Что, к примеру, вспыхивает у собаки, когда ей кажется, что некто покушается на обглоданную и брошенную ее собственную еду. Мне казалось, что это благородство слабых. Что Шкловский, вечно срывающийся в переходах своих от добра к злу, явление более внушительное. Что добродушие Бориса Михайловича ничего ему не стоит. Но он, как это бывает с существами высокой породы, все рос и рос, не останавливался. И за слабостью вдруг определилась настоящая сила, которая дорогого стоит. Первая и главная – это добросовестность. Его били смертным боем, а он не раздробился, а выковался в настоящего ученого. Как настоящий монах не согрешит потихоньку, так и Эйхенбаум не солжет и не приврет в работе. И если монаха останавливает страх божий, то в Борисе Михайловиче говорит сила неосознанная, но могучая. С утра сидит, согнувшись над столом, и, словно по обету, мучается над ничтожным, иной раз, примечанием. Во имя чего? Цена одна. Что заставляет его доводить свою работу до драгоценной точности? По-прежнему он благожелателен и ясен.
13 августа
Сейчас все несколько упростилось. Стало полегче. Его снова позвали в Пушкинский Дом старшим научным сотрудником. Словно проснувшись, припомнили, что он один из лучших текстологов, если не лучший, во всей стране. Его статьи стали печатать в журналах как ни в чем не бывало. А он? Как и все эти самые страшные годы, работает не разгибая спины. Перед ним чернильница, вделанная в отполированный, сверху плоский, по бокам неправильной формы обломок дерева, источенного червем. Медная дощечка подтверждает, что взято дерево из фрегата «Паллада», поднятого со дна такой-то бухты тогда-то. Книги со множеством закладок высятся вокруг рабочего места посреди стола. Книги на этажерке возле стола. Коробка со множеством карточек. Книги, книги, книги. Вот уже больше года, как переехали Эйхенбаумы с канала Грибоедова на Малую Посадскую, но книги еще не разложены в подобающем порядке. На столике проигрыватель. Эйхенбаум страстно любит музыку и собрал такое множество долгоиграющих пластинок, что и на них пришлось завести карточный каталог, в особой карточной коробке.
Слушает он музыку с наслаждением. В последнее время все зародит Десятую симфонию Шостаковича, по нескольку раз, часть за частью. Слушает и думает.
15 августа
Сегодня смотрел материал «Дон Кихота». Все хорошо. Но дело не в этом. Я опять увидел юг, и мне ужасно захотелось к морю. В Комарове холодно. Льет дождь, и нет никакой надежды на хорошую погоду. Буду продолжать роман «Телефонная книжка», приближающийся к концу.
18 августа
Леночка Юнгер, Елена Владимировна Юнгер! Она до того безыскусственна и правдива, до того человечна на всех путях своих, что обличитель, бросающий в нее камень, выглядит темным в сиянии мягкого света, который излучает все ее существо. Когда Маршак вспоминает ее отца, рано умершего поэта, у него лицо светлеет и он говорит мечтательно: «Володя Юнгер, Володя Юнгер! Ах, какой был человек». Он не рассказывает какой, да это, видимо, и не передашь. Но в лице Маршака – отблеск того же сияния, которое определяет Леночку и, видимо, определяло ее отца. Стихов его Маршак не цитирует, несмотря на непогрешимую свою память. Видимо, Володя Юнгер был поэтичен всей своей сущностью и дело тут было не в стихах. Теперь вернусь к началу. Безыскусственность и правдивость следует понимать не буквально. Это не детская наивность или грубоватость бестужевской курсистки. Нет, Леночка может умолчать, и скрыть, и схитрить. Но она – это она. Это ее собственная безыскусственность и правдивость – она поступает так, как ей хочется. Вот на что любуюсь я, скованный майкопским, полумонашеским интеллигентским прошлым. Изящество, с которым она влюбляется, и божественное бескорыстие в выборе – вот что в ней прелестно. Вот и все. Говорить о ней подробней – это значит мельчить, и сплетничать, и вносить муть в то, что до такой степени ясно. А к Леночке я отношусь со всем уважением. Я к ней привязался за долгие годы нашего знакомства.
24 августа
Вышла моя книжка «Тень» – пять пьес, один сценарий. Я, привыкший к театру, к быстрым зрительским реакциям, теперь испытываю некоторое напряжение, как будто иду по дороге, а в чаще леса – кто? Друзья или враги? Кто выйдет навстречу мне? Я всю жизнь больно переживал неуспех. Даже в тех случаях, когда понимал, что говорит против меня глупость или несправедливость. Но на другой день боль проходила. Я лечился мечтами, как собака травой. С годами я не закалился. Боюсь только, что способность мечтать исчезает.
25 августа
Вот и довел я до конца «Телефонную книжку». Примусь за московский свой алфавит. Этот город с первой встречи в 13 году принял меня сурово. Владимиро-Долгоруковская улица, продолжение Малой Бронной. Осень. Зима с оттепелями. И огромное, неестественное количество людей, которым нет до меня дела. Полное неумение жить в одиночестве. Вообще – жить. Мне присылал отец пятьдесят рублей – много по тогдашним временам, – и я их тратил до того неумело, что за неделю до срока оставался без копейки. Чаще всего вечерами уходил я в оперу Зимина, которую не любил. И снова множество людей, которым до меня нет дела. Или уходил в Гранатный переулок. Там был особняк, который я выбрал для себя. Я должен был купить его, когда прославлюсь. Да, мечты мои были просты – вызвать уважение людей, которые шагали мимо или мрачно толпились у пивных. Впрочем, это не было главным. Главным была несчастная любовь. Когда переехал я на 1-ю Брестскую улицу, то уходил по Тверской-Ямской на мост, идущий над путями, существующий до сих пор. Соединяющий улицу Горького с Ленинградским шоссе. Там, глядя на поезда, я старался провести время до прихода почтальона. Любовь мучила меня больше всего: больше чужого города, больше подавляющего количества безразличных ко мне людей. Мне в октябре 13 года исполнилось семнадцать лет. И сила переживаемых мной чувств постепенно-постепенно стала меня будить. Я стал вглядываться в Москву. И удивляться количеству людей несчастных и озлобленных. Началось с того, что заметил я женщину, прислонившуюся к чугунной решетке забора тяжелым узлом. Чтобы передохнуть. По своей бездеятельности не посмел я ей предложить помощь. Но ужаснулся. И стал вглядываться. Иногда – умнел. Но снова несчастная любовь схватывала, как припадок. И тогда я видел только себя. И уехал, полный ужаса перед Москвой.
26 августа
Вчера сидел я тут в обычной за последние дни тоске, неизвестно зачем, в дождь, в холод. К ночи тоска еще усилилась. А в первом часу позвонил из города Акимов. Театр открылся «Обыкновенным чудом», спектакль прошел необыкновенно удачно. После второго акта Акимов произнес речь, когда его вызвали. После третьего десять раз давали занавес – и так далее, и так далее. И я удивился: что за сила держит меня тут? Почему я не поехал в город? Почему я не беру то, что дается? Испытываю неуверенность, неловкость, и слабость охватывает меня. И так всю жизнь.
Продолжаю о Москве.
Первая фамилия – Андроников Ираклий Луарсабович. Как-то я пришел в конце двадцатых годов к Елене Владимировне Елагиной[586]и застал в гостях двух братьев, совсем еще юных Ираклия[587]и Элевтера[588] . Оба коротенькие, только Ираклий пошире, а Элевтер постройнее. Оба по-мальчишески веселые. Они веселили и сами веселились. Изображали кучера и лошадь – Элевтер поил Ираклия из воображаемого ведра, оглаживал, проваживал. Потом Ираклий уже один изображал оркестр и дирижера одновременно. Потом профессора Щербу[589]– это уже походило на чудо. Вскоре я узнал, что Яков Яковлевич Гуревич, бородатый, седой, бывший владелец гимназии, – родной дядя мальчиков. В жилах их текла кровь русская, еврейская (мать была полуеврейкой) и грузинская (отец был чистый грузин). Он, в прошлом известный адвокат по политическим делам, жил в Тифлисе, читал лекции на юридическом факультете университета, а мальчики учились в Ленинграде. Вышло так, что стали они бывать у нас, на 7-й Советской. И при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что они народ сложный. В Ираклии трудно было обнаружить единое целое. Он все менял форму, струился, как туман или дым. От этого трудно было схватить его отношение к окружающему. И он страдал. Его водили к гипнотизерам, чтобы излечить нервы. И как он изображал своих докторов – просто чудо. Особенно одного. Старика.
27 августа
Он преображался. Гипнотизер, старый доктор, утомленный до крайности, появлялся перед нами. Сначала старик вел длинный разговор о всех родственниках Ираклия, бессознательно стараясь оттянуть утомительную работу. Потом усаживался и вялым, сонным голосом начинал: «Отрешайтесь от действительности, отрешайтесь от действительности. Ваши руки цепенеют... сян-сян-сян (неопределенное шамканье). Ваши ноги цепенеют... сян... сян... сян... (клюет носом)». Гипнотизер засыпал прежде пациента. Как все произведения искусства подобного рода, имеющие форму трудноуловимую, смешанную – и не рассказ, и не пьеса, и сыграно, и не сыграно, – они вызывали восторг. Но настоящего уважения не наблюдалось. Почему? Вероятно, потому, что зрителям казалось, что все это больно уж легко, не закреплено. За паровозной трубой на километр тянется дым. Но никто не скажет: какой большой дым. Скажут – густой, черный, едкий, – но величина его так непрочна и изменчива, что о ней и речи не заходит. И все говорили о наблюдательности Ираклия, о его даре подражания, но не знали, как назвать то, что он делает. Учился в те времена Ираклий на филологическом. И тут его любили, но казалось самым наблюдательным из его учителей, что он подражает серьезному студенту, а не на самом деле интересуется наукой. В игре, в подражании Ираклий как бы спасался от собственной неопределенности. Однажды он шел с нами, тяжело опираясь на палку, жалуясь на непонятную боль в ноге. На углу мы расстались. Мне зачем-то понадобилось догнать Ираклия. Я свернул за угол, но Ираклий был уже далеко. Он бросил хромать, шагал, размахивая палочкой, переменил обличив. Он в чужой личине чувствовал себя увереннее, отдыхал в ее определенности. Коротенькие его рассказы день ото дня усложнялись и росли. И оркестр Ираклий теперь уже изображал не просто так, а дирижировал в обличии различных дирижеров, чаще всего Штидри[590]показывал он и за пультом и в жизни. В конце двадцатых годов поступил Ираклий на должность секретаря в «Еж». И тут я увидел, как, словно в искупление за легкость в одном, тяжел он в другом.
28 августа
Если казалось, что входит в чужую сущность он со сверхъестественной легкостью, то себя он выражал с неестественным напряжением. Не мог он двух слов связать. Даже в таком пустом случае, как в подписи к журнальному рисунку. Он сидел над коротенькой заметкой в четверть странички долго, как над стихами. Это было нестрашно, но заметка, несмотря на множество черновиков, все равно не удавалась. Нет, он не мог обойтись без чужой оболочки, сказать хоть два слова от себя. У Элевтера его, тоже многообразные, душевные свойства слежались крепко в единое целое. Спаялись. У Элевтера было ясно, кого он любит и кого не любит, а у Ираклия все были друзья. После ряда злоключений перебрался Ираклий в Москву. Его талант все развивался. Кто-то нашел название для его произведений: «Устные рассказы». Их услышал Горький и высокие люди, бывающие у него. Ираклий приобрел вес. Женился. Родилась у него дочка. В крохотной однокомнатной квартирке в переулке где-то возле Арбата поселился он со всей семьей. Жена – плотненькая, полногубая, привлекательная Вивиана Абелевна Робинзон – была артисткой в студии, но ушла оттуда. Как это всегда бывает в семье, у жены стали развиваться те самые свойства, которых не хватало мужу. Она становилась все определеннее и крепче. Она в Ираклии старалась разбудить то, что определенно и крепко. И ко второй половине тридцатых годов семья их казалась мне привлекательной. Прежде всего, приехав в Москву, звоню я к ним. Однажды я пришел позже назначенного часа, и дочка Ираклия, трехлетняя Манана, встретила меня, прыгая и распевая во весь голос: «Женюрочка пропащий, Женюрочка пропащий!» Это была необыкновенно здоровая девочка, радостная, словно выражающая самый дух квартиры. Черные глаза ее сияли. Ираклий шумел и хохотал, и Манана шумела и хохотала. Вышло так, что я остался у них ночевать. Разговаривали мы долго, часов до трех. После какого-то особенно громкого выкрика Ираклия над сеткой кроватки показалась голова Мананы. И она спросила сонным голосом: «Хлеб принесли?»
29 августа
Она ела с таким аппетитом, что весело было смотреть. Ираклий становился все веселее и нужнее. Правда, он стал заниматься усердно литературоведческой работой, но сила его была не в специальности, а в отсутствии наименования. Он никому не принадлежал. Актер? Нет. Писатель? Нет. И вместе с тем он был и то, и другое, и нечто новое. Никому не принадлежа, он был над всеми. Отсутствие специальности превратилось в его специальность. Он попробовал выступать перед широкой аудиторией – и победил людей, никогда не видавших героев его устных рассказов. Следовательно, сила его заключалась не в имитации, не во внешнем сходстве. Он создавал или воссоздавал, оживлял характеры, понятные самым разным зрителям. Для того чтобы понять, хорошо ли написан портрет, не нужно знать натурщика. И самые разные люди угадывали, что портреты сделаны Ираклием отлично, что перед ними настоящий художник. Его выступления принимались как чистый подарок и специалистами в разных областях искусства. Именно потому, что Ираклий занимал вполне независимую, ни на что не похожую позицию, они наслаждались без убивающей всякую радость мысли: «А я бы так мог?» В суровую, свирепую, полную упырей и озлобленных неудачников среду Ираклий внес вдруг вдохновение, легкость. Свободно входил он в разбойничьи пещеры и змеиные норы, обращаясь с закоснелыми грешниками, как со славными парнями, и уходил от них, сохраняя полную невинность. Он был над всем. И Элевтер шел своим путем. Его считали одним из лучших молодых физиков. Он жил в так называемом Капичнике, в одном из домов, построенных для сотрудников Института Капицы[591] . Большой сад. В саду невысокие домики. Цветы. И Элевтер был несколько вне ведомств: Институт Капицы занимал особое, независимое положение. И когда мы побывали у Элевтера – он считался нашим любимцем, – ощущение, что дела братьев хороши и чисты, утвердилось. Приезжая в Москву, я в первый же день звонил Ираклию. В Москве мне, как правило, не везло. А у них я отходил от всех уколов и путаницы.
30 августа
Несколько раз встретились мы во время войны. До нашего переезда в Москву.[592]Два раза нашел я Ираклия в госпитале – он хворал. Печень не в порядке. Был он мобилизован. Сначала работал в газете в партизанском крае, затем в Тбилиси... После войны началось движение Ираклия к определенному и прочному положению. Он стал литературоведом, доктором наук. Выступает на прежний лад редко... Он рассказывает. Выступает перед тобой вся жизнь, во всем ее блеске. Вот рассказывает он о поездке в партизанский край, в бывший партизанский край. Году в 46-м. Он играет очередь у кассы, к окошечку которой милиционер подвел его без очереди. Несмотря на вмешательство начальства, стоящие в очереди пытаются оторвать Ираклия от окошечка, а он кричит, вцепившись в подоконник: «Кладите сдачу сюда, в боковой карман». И, взяв билет в зубы, отпускает руки, и его относят от кассирши. И вот он уже в вагоне. И касса со всеми злоключениями канула в прошлое, заботит будущее – где переночевать в Калинине. Попутчик дает советы, это молодой, красивый, очень доброжелательный человек. Он позвал бы Ираклия ночевать к себе.
31 августа
Но никак невозможно: «Матушку это стеснит. У меня одна комната всего». А когда Ираклий осторожно намекает, что от старушки можно было бы как-нибудь отгородиться, занавеситься, спутник возражает: «Что вы! Матушка у меня молодая!» Выясняется, что он – священник. Далее шел новый период жизни, как всегда бывает в путешествии. Все позади. Ираклий мчится на грузовике. В кузове пленные немцы, которых шоферша, молодая и разбитная девица, везет с дорожных работ в лагерь. Девица все время напевает. Все шевелит лопатками. Спина болит – неудобная кабинка. И побаливает голова. Все это не мешает девице петь. У какого-то ларька останавливает она машину, пьет водку от головной боли. Водка мутная, «смотреть и то страшно. Плавают в стакане какие-то лоскутья. Обрывки газеты, что ли». Но шоферша пьет с наслаждением и через несколько километров сообщает, что голова болеть перестала. Встречный грузовик тормозит, и шофер, как дальше выясняется, Вася просит шофершу Ираклия уступить ему фрицев: «Сделают мне погрузку – я их сам отвезу. Песку надо перебросить». После краткого спора шоферша уступает. «Фрицы, сколько вас там?» И фрицы отвечают, скрадывая «р» на немецкий лад: «Четыге! Четвего? (с ударением на „о“)». – «Лезьте в мою машину. А лопаты, лопаты! Вот народ. Зачем вы мне нужны без лопат. То-то. Сели?» – «Сели». – «Сколько вас?» – «Четыге! Четвего». – «Поехали». Шоферша запевает, но через некоторое время обрывает песню и задумывается. «Ох, Васька, ну, Васька! Как же я ему фрицев без расписки отдала? Ну и Васька!» И вот Ираклий у цели. Прежняя хозяйка, та, у которой он жил в партизанском крае, ласково принимает его, кормит щами. Несколько портит дело то, что она рассказывает подробно о болезни коровы, которую свели на бойню и мясо которой Ираклий ест. «Да что ты, батюшка, скривился? А в городе что ешь? Кто здоровую корову забьет?» И так далее. Целый час мы путешествовали по Калининской области 46 года, видели множество людей. И чувствовали время. И восхищались, и удивлялись.
1 сентября
Алигер Маргарита Осиповна, худенькая, глаза напоминают коринку... Внушает уважение спокойная манера держаться, тихий голос. И неожиданный юмор. На съезде поэтессы говорили умнее и лучше поэтов. Алигер в том числе. Она много думала. Понимает суть дела. Большая семья: две девочки, мать. Живет тихо. Вернее, замкнуто. Та же связанность, замкнутость иной раз чувствуется в ее стихах. Изуродована одиночеством, свирепыми погромами в Союзе писателей. Одна из тех немногих женщин, что являются главой семьи. Безмолвно несет она все заботы и тягости. Противоположна одичавшим и озлобленным женщинам-одиночкам. Спасает талант. Но что у нее творится в душе, какие страсти ее терзают, какая тоска – не узнает никто и никогда. Ее тихий голос, черные глазки, прозаическое лицо с черными точками на кончике носа уводят в сторону. И стихи ничего не говорят и не скажут. Нельзя. Да и есть ли желание открывать то, что никто сейчас не высказывает?
3 сентября
Как надоел мне собственный голос. Все говорю, говорю, говорю сам с собой. Сначала радость от того, что я заговорил, заслоняла неестественность положения. А сейчас начинаю смущаться. А впрочем – продолжаю.
Габбе Тамара Григорьевна.[593]Назовешь это имя – и столько противоречивых чувств тебя парализует, что хоть молчи. С одной стороны – человек быстрый, острый, имеющий дар вдруг выразить ощущение. Например, стоим мы напротив кинематографа «Титан». На вывеске вспыхивает и гаснет стрелка, указывающая на название картины. И Габбе говорит: «Ужасно неприятно! Так же у меня дергало палец, когда он нарывал». В Филармонии увидели мы Каверина с палочкой. «Почему он с палочкой?» – спросил кто-то. И Габбе ответила: «Потому что у Тынянова нога болит». Получилось это действительно весело и смешно и определяло положение вещей в те давние, доисторические времена. Это с одной стороны. С другой же – ум ее, резко ограниченный и цепкий, все судил, всех судил и выносил окончательные приговоры, как это было принято в кругу Маршака. Приговоры самого Самуила Яковлевича носили отпечаток его библейского темперамента и оглашались в грозе и буре, в тумане и землетрясениях, и тень Шекспира появлялась при этом событии, и Блейка,[594]и Пушкина. Однажды я читал у Габбе свою пьесу «Телефонная трубка».[595]Это Олейников настоял. Из любопытства. Было что-то много народу – редакционного. Пили чай после чтения и обсуждали пьесу за чаем. И Габбе говорила и продолжала есть и пить. Нет, здесь и духа не было Библии – куда там. Жуя быстро и определенно по-заячьи, она говорила быстро, отчетливо и уверенно. Она знала, что такое сюжет. Она одна. Она знала, что такое характер. Она знала, какая сцена удалась, какая нет. Во всяком случае, была уверена в этом. Пожует, сделает глоточек и приговорит. А я, кроме удивления, ничего не испытывал. Резко ограниченный ум. Система, в которую уверовала она, когда училась. И полная несоизмеримость ее пунктирчика с предметом. Маршак был неясен, но понятен. Он намекал – и это было точно. А Габбе говорила точно, однако непонятно. Уверенность – вот ее бич. Она-то уж знает, что есть рассказ... Что сюжет. Что завязка. Что развязка.
4 сентября
Вечное несчастье вечных первых учеников.
Блокада. Раза два или три вызывал меня Маршак на городскую телефонную станцию. Я шел по городу, как будто заболевшему, – ему не до прохожих. Окна в белых крестах. Окна выбиты. Забитые витрины. Знакомый голос Маршака, беспокойный, на старый лад, что в новом, блокадном мире меня раздражало. Настолько раздражало, что он даже заметил, спросил однажды: «Ты что – сердишься?» Как мог я ответить, объяснить по телефону, что мы говорим из разных измерений? По его поручению заходил я к Габбе. И тут впервые разговаривал я с ней без всякого внутреннего протеста. Вражда, созданная демоническим духом Олейникова, следы той невидимой серной кислоты, которой уродовал он окружающих незаметно для них самих, изгладились до этих блокадных дней... А теперь, в блокадном мире, узнал я совсем новую Габбе. Душа ее, в обычные дни сжатая в кулачок, готовая к нападению, теперь как бы раскрылась. Была Тамара Григорьевна сосредоточена, а не сжата, и говорила так, как подобает в том мире, куда привела нас судьба, как бы заново увидев все. По деятельной натуре своей не могла она просто терпеть и ждать. Нашла себе работу – читала детям в бомбоубежище. И рассказывала, как заново услышала то, что читает. Одно годилось, другое – не переносило испытания. И новый этот взгляд на вещи был убедителен. И начисто лишен ученической уверенности. И в Москве в 43 году я рад был встрече с нею. И опять говорили мы дружески. Но постепенно все вернулось на свое место. С людьми сходишься или расходишься по причинам органическим, непреодолимым. Та новая Габбе, с тяжелыми временами раскрывшаяся, исчезла, когда жизнь вошла в колею. Снова разум ее словно бы обвели контуром, и душа ее сжалась в кулачок. И при встрече чувство внутреннего протеста вспыхивает во мне с новой силой.
13 сентября
Есть люди, чаще всего женщины, отдавшие себя целиком данному виду искусства и по-женски понимающие и прощающие его житейскую, для иных – отталкивающую сторону. Они знают – такова жизнь. Сейчас ребенок улыбается, а через миг безобразничает. В искусстве подобные женщины редко играют активную роль. Они вроде нянек, или повивальных бабок, или педагогов, или даже матерей. Не отдельных произведений, а людей. И так как не боги обжигают горшки, ставят спектакли, пишут пьесы, то роль подобных женщин гораздо значительнее, чем может показаться с первого взгляда. Софья Тихоновна Дунина принадлежит именно к этой благороднейшей человеческой породе. Премьера театра, судьба актера, пьесы или автора – для нее явление личной ее жизни. Она умна, жива. Всегда заведена, не распущена. Храбра. Владеет языком: говорит, что думает. Одних активно любит и помогает им любовно. Других активно не любит и храбро с ними сражается. Одно у нее не по-женски сильно: чувство справедливости. Все-таки она целиком отдала себя данному виду искусства – и тут она нелицеприятна. 1944 год. Театр комедии вернулся из Сталинабада в Москву. И показал «Подсвечник» Мюссе. В эвакуации, как выяснилось, меньше требуешь не только от бытовых условий: живешь где придется, ешь что дают, – но и от качества работы. Нам казалось в Сталинабаде, что спектакль очень хорош. А в Москве он выглядел убого. Я не сразу это заметил. Спрашиваю у Дуниной в антракте: «Ну, как?» И она отвечает с горечью, но решительно: «Очень плохо! Очень». Она любила и театр, и Акимова, но не было силы, которая могла бы принудить ее покривить душой. Она при необходимости храбро шла на защиту театра, но что плохо, то плохо. Это умение любить людей, понимать, как делается дело, а вместе с тем не забывать самое дело – редкая, не женская черта. Поэтому ее и уважали. Маленькая, темноглазая, решительная. Я мало знал ее личную жизнь. Но как явление – понимал и уважал со всей почтительностью и удивлением.
15 сентября
Крон Александр Александрович. Черноволос, черноглаз, отвечает на толчки внешнего мира как бы замедленно. Или осмотрительно. Он из материала благородного, но биографию имеет сложную. Кто поймет, как сложились благородные материалы, пока шагал Крон по бакинским и столичным малым и большим дорогам.
Он хороший человек, конечно, хороший, но не вывихнуто ли у него зрение, не затуманено ли сознание? Я несколько раз удивлялся тому, как, стараясь сохранять ясность и последовательность, он тратил душу на то, чтобы объяснить и оправдать необъяснимое.
Продолжаю о Кроне. Говорит он не спеша, обдумывая каждое слово. И всегда в конце концов в том, что он скажет, обнаруживаешь ты нечто живое, имеющее смысл. Недаром он создан из благородного материала. Но то, что пытался он объяснить и оправдать, увы, оставалось мертвым и не имеющим смысла. У него не было (или выветрилось, или вышибло из него) той неподкупной трезвости, что определяет художника большого масштаба. Он мог отвести самому себе глаза и оплести сам себя во имя той силы, которой с юных лет научился служить. В его «Кандидате партии» есть нечто более мучительное, чем в пьесах, откровенно лакирующих и упрощающих мир. Там, в откровенно плохих пьесах, действуют фигуры из дерева, картона, жести. А у Крона идет живой человек с фанерным туловищем или фанерная женщина с живыми глазами. Но он талантлив. И человек доброй воли. Поэтому в «Глубокой разведке» есть целые сцены с живыми людьми. И в последней пьесе. Сейчас он пишет роман.[596]Если перешагнет через себя, то напишет.
Если научится смотреть не через очки, которые напялило время на его здоровые глаза. Я с ним в условно хороших отношениях. Мне, как со знакомыми последних десяти – пятнадцати лет, неловко с ним. Очевидно, что-то изменилось и отвердело во мне. Новые друзья не приживаются, не принимаются. С Малюгиным мне ловко и удобно. В 41 году, да еще после блокады, – я мог еще ближе сходиться с людьми. А с Кроном я разговаривать не умею. Разве в последний год стало попроще.
16 сентября
Вчера – точнее, в ночь на сегодня – разговаривал я с Уваровой. Она звонила из Москвы. Рассказывала о первом спектакле «Обыкновенного чуда». Театр комедии гастролирует в Москве. Спектакль, видимо, прошел скорее благополучно, чем я и успокоен. Заметил окончательно, что моя холодность к судьбе моих пьес не притворная, но кажущаяся. Не слишком здоровая. Все результат слишком большого количества разных заглушающих друг друга чувств, вызывающих бессилие. Неясность. Но чуть заденет побольнее – все понимаешь. Если выругают или ты ждешь, что выругают. Когда хвалят – не веришь, по Шелковской сущности моей. Впрочем, через несколько часов начинает туман рассеиваться. И я успокаиваюсь – главное наслаждение. Одно чувство побеждает. Сегодня похвалили мою книжку в «Ленинградской правде»[597] .
23 сентября
Очень трудно писать мне в этой книжке. Изо всех сил тороплюсь кончить пьесу для Акимова.[598]А пропускать ни одного дня не хочу. Ясный и необыкновенно холодный сентябрь.
25 сентября
Дальше идет Образцов Сергей Владимирович, человек лимфатический, чуть обрюзгший, моложавый, светлый по отсутствию красящих веществ, с голосом разработанно приятным, с простотой, виртуозно отделанной и рассчитанной. Явление несомненно положительное. Но почему-то неловко мне смотреть в его глаза, светлые, с веками чуть покрасневшими. Я любил, влюблен был в некоторые его спектакли: «Король-олень», «Лампа Аладдина»[599] . Мне казалось, что это небывалое в театре обыкновенного вида явление, – человек показывает самое лучшее, самое артистичное в нем независимо от своих внешних данных. Отвлекаясь от них с почти математической чистотой. Только то, что требуется. Когда вместо великолепных по своей выразительности кукол появлялись раскланиваться кукловоды, артисты как артисты, – ты это понимал.
26 сентября
Понимал эту прекраснейшую особенность кукольного театра. Из миллионов жителей Москвы набралось полтора-два десятка людей, любящих театр до потери уверенности в том, достоин ли ты подойти к нему. Имеющих страх божий. Кукольный театр представлялся им более доступным. И, войдя в него, они полюбили и почувствовали дело с истинно монашеской ревностью. Вплоть до склонности отрицать театры другого вида.
И это являлось второй особенностью образцовскогр театра. Этот дух передавался – хотел написать: молящимся. Зрители в театре кукол на площади Маяковского всегда несколько возбуждены, доверчивы, щеки горят – праздник да и только. Всегда в первых рядах знатные посетители, то египетская принцесса, то немецкие министры, то французские актеры. Вот какое пламя раздул Образцов и ведет своих монахов неуклонно и усердно по тому пути, что они избрали. Это далеко не просто. Как и во всяких монастырях, послушание послушанием, но по ревности своей склонны монахи сомневаться в чужой святости. Поэтому-то святоотеческие книги требуют послушания без обсуждения, полного, безоговорочного. И повторяют это едва ли не на каждой странице. В театре это невозможно, и поэтому образцовские актеры непрерывно вглядываются в образцовские работы и очень часто вступают с ним в пререкания на высоком уровне. Все это хорошо показывает, что в театре идет богатая духовная жизнь. И Образцов в этих спорах выступает как первый среди равных – только как один из участников, пусть самый сильный, единого коллектива. Он не применяет никаких административных мер. А так как голова у него отлично разработанная, он побеждает в большинстве случаев.
27 сентября
При первом же знакомстве он очень красноречиво и упорно стал доказывать, что классиков изучают с детьми, забывая, что это произведения для взрослых. Это детей портит. В «Обломове» очень ясна сексуальная линия. И такие книги следует давать уже взрослым людям. Зная, как сильна сексуальная линия в детях, без всякой вины классиков, какие неслыханно бесстыдные разговоры ведутся в классах, начиная с самых младших, более того, особенно в младших, я спокойно принял эту мысль Образцова. Мне показалось только, что в запале, с которым он говорил, есть что-то личное и где-то тут есть один из ключей к одной из комнат его души. Позднее я понял и еще одно: как у всех многодумающих людей, мысль об «Обломове» была у него одной из многих, овладевающих им на некоторое время. Но я встретился именно с этой педагогической, добродетельной, лимфатической, и ощущение от этой первой его мысли осталось. Познакомился я и с Ольгой Александровной, женой его, артисткой. Она ушла со сцены, аккомпанировала мужу в его концертах. Черненькая, худенькая, отчетливая, она полна энергии, переводит с французского, с английского, ведет дом, все ищет себе собственного дела. Не слишком добра. С первых же дней удивил, приятно удивил меня Образцов своей внутренней воспитанностью. Он позвонил, что в Москве, – зайдет в гостиницу. Приведет к себе. И всегда полон какой-нибудь мыслью, словно открытием. Квартира его несколько походила на музей. И сколько мы ни были знакомы – она все усложнялась, обогащалась. Относился к ней Образцов творчески: приедешь один раз – мебель переставлена; появилось множество заводных кукол – например, целый обезьяний оркестр играет в стеклянном футляре. И дирижер даже шевелит своей замшевой верхней губой, показывая зубы. Рядом искусственные птички вертят хвостиками, поют на искусственном деревце. Кукушки выскакивают и кукуют из деревянной дверцы на часах в виде домика. Сейчас автоматики отошли на задний план: главное увлечение Образцова – аквариумы с удивительными, невиданными рыбами.
28 сентября
Я знаю об этих чудесах только по рассказам. Живут там рыбы прозрачные, со светящимся спинным хребтом, и с веерообразными хвостами, и золотые. Только непонятно, когда Образцов смотрит на них, – он один из самых занятых людей в Москве. Он и ставит в своем театре, и руководит им, и выступает в концертах, и представительствует как человек знатный, и участвует в Международном комитете борьбы за мир, и ездит за границу, и пишет об этом книжки. Особенно сейчас[600] . Жизнь его похожа стала на осенний лес в ясную погоду – столько там богатства, что в первое время ты ошеломлен и покорен.
Кончил новый вариант «Первого года», или «Молодых супругов», для Акимова. Сегодня отдал в перепечатку последний акт. Ощущение смутное. С этим сочинением связаны у меня одни неприятности. Был в Театре комедии, разговаривал о московских гастролях. Они в полном восторге, а у меня все какие-то шелковские тени на душе. Да еще собираются праздновать мой юбилей[601] . Тоже осенняя обманчивая игра красок.
7 октября
Рысс, Женя Рысс, которого я увидел впервые мальчиком удивительной красоты, а теперь встречаю сильно зрелым мужчиной, сильно облысевшим и обрюзгшим, но уберегшим все то же ласковое выражение прекрасных глаз, ох, трудный предмет для описания. И прежде всего потому, что я его очень люблю. Он из тех друзей, которых встречаешь не так часто, но знаешь твердо – это друзья. Что при встречах, когда жизнь сведет, – подтверждается. В дни блокады Женя переселился к нам. Был он еще худощав. Носил военную форму – работал в ТАССе. Сапоги выдали ему нескладные, пудовые, но, уходя утром, на рассвете, на фронт – туда ходили пешком, – Женя ухитрялся ступать так тихо, что мы и не просыпались. И каждый вечер слышали мы грохот его сапожищ у дверей. Он возвращался, к моей радости. Я почему-то не верил, что его могут ранить или убить. Опасность грозила со всех сторон, и фронт не представлялся более страшным, чем дом. Я радовался, что дела его не задержали.
8 октября
Жизнь шла на военный лад: тускло, приглушенно, и никаких не было надежд, что станет легче. Нет, становилось темней с каждым днем. А появлялся Женя – и становилось светлей. Он рассказывает хорошо, без претензий и всегда правдиво, как и подобает человеку, занимающемуся литературой. Его задело – и он отвечает. Его интересует самый мир. Потом уже, когда пишет, переиначивает и меняет освещение, но рассказывает о материале чисто. В этом честолюбие – рассказать как было. И Женя обладает этим свойством в тем более высокой степени, что он лентяй. Рассказы устные облегчают, подменяют у него необходимость писать. И в те дни я ужасно радовался его рассказам. Как единственному празднику. Я как будто вырывался из однообразия блокады. Мы дали обещание друг другу: если переживем и встретимся снова в Ленинграде, то устроим роскошный обед. Без еды нам праздник в те дни не представлялся возможным. И вот через четыре года все кончилось, все пришло к такому положению, о котором мы мечтали.
14 октября
Читаю статьи Блока. Через непонятную сегодня речь, сквозь значительность, ключ к которой утерян, вдруг ясность, и простота, и пророческие предчувствия. Не всегда отчетливые, но ведь пророк не гадалка, он не врет, а переводит с такого языка, на котором нет слов, в нашем представлении. И серьезность, которая мне, увы, не была дана. Я все, как в реальном училище, убегаю с уроков... Всегда я работаю, силой усаживая себя за стол, будто репетитор свой собственный. И написал то, что написал, только благодаря некоторому дару импровизации. Это, как ни рассматривай, – второстепенный дар. У меня нет или почти нет черновиков. Особенно в двадцатые, тридцатые годы. «Клад» написал в три дня. В более поздние годы, когда задачи стал я себе ставить посложнее, пошло дело медленнее. И то не слишком. Да, первый акт «Медведя» написал я в 44 году, а последний – в 54-м. Но я попросту бросал работу. Напишу первый акт – и брошу. Напишу второй – и несколько лет молчу. Правда, писал я, когда хочется. Меня долго мучило утверждение Толстого, что писать надо, когда не можешь не писать[602] . Я чувствовал себя виноватым, когда не пишу, но как будто болезнь какая-то мешала мне писать или проклятье. Но я мог не писать, раз не писал подолгу! Потом утешало меня следующее: я встретил множество людей, которые не могут не писать, не могут не играть, – и не писатели они и не актеры. Следовательно, в насилии над собой нет греха. Сколько людей – столько и способов себя сделать работником. Высказать себя. Впрочем, именно сейчас, когда виден потолок, я особенно отчетливо понимаю, что сделано непростительно мало, и обвинять в этом некого. ...Писать следует тоньше, если хочешь ты, наконец, писать для взрослых. У меня вдруг появляется отвращение к сюжету, едва я оставляю сказку и начинаю пробовать писать с натуры.
17 октября
Сегодня зовут меня в ТЮЗ, поздравлять с юбилеем.
18 октября
Вчера были в ТЮЗе. Такси нашли раньше, чем предполагали, и поэтому решили сначала проехаться по набережной, по Невскому и только потом на Моховую.
Небо было ясное, чуть затуманенное, а над рекой туман стоял гуще, так что Ростральные колонны и Биржа едва проглядывали. Солнце, перерезанное черной тучей, опускалось в туман. Смотреть на него было легко – туман смягчал. Все, что ниже солнца, горело малиновым, приглушенным огнем. Я старался припомнить прошлое, но настоящее, хоть и приглушенное, казалось значительным, подсказывающим, не хотелось вспоминать. И Невский показался новым, хоть и знакомым. И тут мне еще яснее послышалось, что молодость молодостью, а настоящее, как ты его ни понижай, значительнее. И выросло из прошлого, так что и то никуда не делось, как дома и нового, и глубоко знакомого Невского проспекта. Впрочем, сегодня, в рассказе, это получается яснее, вчера я только едва-едва, как в тумане, не называя, угадывал то, о чем говорю. Мешали еще и мелкие заботы. Что будет в ТЮЗе? Не приехать бы слишком рано. Не опоздать бы. Но общее ощущение значительности не оставляло. Против ТЮЗа чинят мостовую, так что выйти нам пришлось у глазной больницы, что меня огорчило. Вспомнил, как в 38 году ходил сюда навещать внезапно ослепшего отца... В ТЮЗ идти было все еще рано. Небо совсем прояснилось, воздух после машины казался чистым. И мы пошли не спеша, гуляя по Моховой. К театру уже вели зрителей, все больше третьеклассников. Они были опьянены предстоящим. Одна девочка от избытка чувств крикнула мне: «В ТЮЗ идем!» И легко перенесла замечание педагога. И вот ровно в назначенное время, без четверти шесть, вошли мы в новый сегодня и столько лет знакомый вестибюль театра. Натан[603]– ныне директор ТЮЗа – уже нас ждал. В кабинете его вручили нам пригласительные билеты. Появлялись актеры то один, то другой – поздравить.
19 октября
Когда пришло время, взяли меня под руки две актрисы, отчего почувствовал я себя не то взятым под стражу, не то инвалидом, и, путаясь под ногами, повели. Перед полукругом тюзовской сценической площадки стояло кресло и микрофон – радио прислало сотрудников записывать мою встречу с детьми. Оркестр играл песенку Иванушки из «Двух кленов». Ребята аплодировали нашему появлению сначала бурно, а потом, услышав музыку, – в такт, подчиняясь оркестру. Макарьев легенький, сухенький, очень моложавый – никак ему не дать шестидесяти четырех лет, улыбаясь мудрой и педагогической улыбкой, начал речь. Она вся была построена на музыкальных цитатах. Первая – песенка Иванушки: «Я Иван Великан». И Макарьев назвал меня великаном. Потом оркестр сыграл музыку к «Кладу», которую я не узнал. И Макарьев назвал меня кладом. Я стоял и слушал с твердым ощущением, что это ко мне не относится. Знакомый театр не вызывал воспоминаний, но и чувство реальности происходящего, чувство настоящего – тоже затуманилось. Кончив приветствие, сохраняя все ту же улыбку, стал Макарьев вызывать представителей разных школ. И вот пошли делегации: по одному, по двое, по трое. Девочки и мальчики в формах, в пионерских галстуках. По мере приближения ко мне и микрофону лица их принимали выражение все более испуганное и напряженное, смотрели они не на меня, а прямо в тупое рыльце микрофона. И произносили свои приветствия. И дарили либо цветы, либо адрес. Четыре девочки вышли без всякого подарка. Три из них, по очереди, произнесли свое приветствие, а четвертая таким же торжественным голосом, как подруги, возгласила: «Евгений Львович! Мы приготовили Вам подарок и оставили в пионерской комнате, а ее заперли, и ключа мы не могли найти...» Ей не дали договорить аплодисменты и восторженный хохот слушателей. Потом я отвечал на приветствия. Потом тюзовская художница – это уже за кулисами – попросила, чтобы я посидел десять минут. Ей нужен мой портрет. И я стал позировать.
20 октября
Сегодня продолжаются юбилейные поздравления, всё несут и несут телеграммы.[604]Я с детства считал день своего рождения особенным, и все в доме поддерживали меня в этом убеждении. Так я и привык думать. И сегодня мне трудно взглянуть на дело трезво. Труднее, чем я предполагал.
21 октября
Юбилей вчера состоялся.[605]Все прошло более или менее благополучно, мои предчувствия как будто не имели основания. Тем не менее на душе чувство неловкости. Юбилей – обряд (или парад) грубоватый.
25 октября
А потом пошли юбилейные дни. Напоминали они и что-то страшное, словно открыли дверь в дом и всем можно входить, и праздничное. Нечто подобное пережил я, когда сидел в самолете, проделывающем мертвые петли. Ни радости, ни страха, а только растерянность – я ничего подобного не переживал прежде. И спокойствие. Впрочем, все были со мною осторожны и старались, чтобы все происходило неказенно, так что я даже и не почувствовал протеста. И банкет прошел почти весело. Для меня, непьющего. Несколько слов, сказанных Зощенко, вдруг меня примирили со всем происходящим.[606]На другой день обедали у меня Каверины, Чуковские, Лева Зильбер.[607]На третий – ужинали Шток, Дрейдены, Надя Кошеверова. Сейчас потихоньку прихожу в себя. Юбилей – обряд грубый.
26 октября
И хочешь не хочешь, двери твоего дома открываются, и я до сих пор что-то в этом празднике ощущаю не то что как насилие, не то что как оскорбление, но близкое к этому. Когда кричат: «Качать его! Ура», – то наименьшее удовольствие получает тот, кого качают... Перебирая жизнь, вижу теперь, что всегда я бывал счастлив неопределенно. Кроме тех лет, когда встретился с Катюшей. А так – все ожидание счастья и «бессмысленная радость бытия, не то предчувствие, не то воспоминанье». Я никогда не мог просто брать, мне надо было непременно что-нибудь за это отдать. А жизнь определенна. Ожидания, предчувствия, угадывание смысла иногда представляются мне просто позорными. Вчера на студии, впрочем, испытал я некоторое удовлетворение, увидев, какие силы пущены в ход для того, чтобы сценарий, написанный мной именно благодаря тем душевным особенностям, на которые я жалуюсь, – реализовать.[608]И горят рефлекторы.
И дым валит из какого-то цилиндрического прибора, тоже извергающего световой столб, прямо и бесповоротно в лицо актеру. И едет по рельсам аппарат, на котором, припав глазами к окошечку, стоит на четвереньках свирепый и определенный Москвин. И огромная фабричная труба возвышается над корпусом, вставшим против пятого ателье. И там, за окнами, ревут машины. Можно подумать, что здесь производят товар. Ленты. На самом же деле пытаются реализовать те неопределимые ценности, без которых вся фабрика превращается в бессмыслицу. Так я утешался вчера, шагая с Козинцевым в просмотровый зал. И в зале то приходил в отчаянье, когда все получалось грубо, то радовался, когда что-то пробивалось.
9 ноября
Был сейчас на студии. Дон Кихот в спальне. Второе ателье. Новое. Черкасов ползает по полу, ищет иголку. Москвин кричит: «Включите раздолбайчик. Камарилья, поверни рукоятку на двадцать оборотов». Все знакомо. Павильон только что построен. Моют пол. Герцогский дворец. Среди других вещей – настоящий аналой XVI века, взятый откуда-то из музея. Козинцев измучен. Жалуется, что веко на одном глазу закрывается само собой. Но работает упорно, не жалея себя. Все работают. Москвин, не разгибаясь, глядит в аппарат и командует. Возле буфета сильный, наводящий тоску запах постного масла и лука. Тут же толпятся какие-то существа в золотых кафтанах и чалмах. Кто-то в мантии. Лица, мертвые от фиолетового грима. Работа в кино требует многих усилий, людей не хватает, но в коридорах вечно болтаются и болтают люди. Смотреть на них скучно. Запах лука и постного масла и с них, словно химический состав, снимает всякое подобие окраски... После вчерашнего посещения студентов у меня осталось ощущение какого-то открытия. Не в них и не во мне. А в том ясном мире, который я, рассказывая, видел и вижу до сих пор. Тянет написать что-то очень простое. Форму я чувствую. Вопрос – о чем, из того, что накоплено, рассказывать. Вот опять заговорил о себе. О чем же писать? О вечных и тщетных попытках сохранить чистый белый балахон?
14 ноября
Вчера по телевизору была передача обо мне. «Мастер театральной сказки». Я ждал худшего. Говорили Цимбал, Акимов, Зон, Мишка Шапиро. Показали один акт из «Снежной королевы», отрывки из «Золушки» и «Первоклассницы» и один акт «Обыкновенного чуда». Был пролог и эпилог с действующими лицами из моих пьес и сценариев – вот этого я и боялся. Но и это сошло. Было не слишком радостно, не столько лестно, сколько неудобно, но обошлось.
Вчера днем был на студии. Построен герцогский дворец – огромный зал. Идет освоение. Появляется не спеша Вертинская[609]– странное существо: стройная, неестественно худенькая в своем черном бархатном платье. Лицо удлиненное, длинные раскосые зелено-серые глаза, недоброе надменное выражение. Герцогини, выросшие во дворцах, должны быть именно такими – и привлекательными, и отравленными. Альтисидора[610]добродушнее и юнее, но так же тонка и так же поражает ее тоненькая талия и бархатное платье. Мальчик паж стоит, откинув назад свою крупную голову. Лицо с тонкими чертами, черные глаза. Тонкие руки конвульсивно вздрагивают. Ему дали подержать живую обезьяну, и с ним едва не случился припадок от ужаса и отвращения. Держит обезьяну другой подросток, повыше и попроще. Толстая макака внимательно и просто поглядывает на окружающих, берет с ладони герцогини виноград. Но едва та пробует погладить маленькую голову зверька, макака открывает угрожающе пасть. И возле нее вырастает хозяин, грубиян с пропитой мордой. «Ну ты, корова!» – кричит он и дает обезьяне пощечину. И та смущенно замирает, ссутулившись. И недоброе лицо Вертинской вдруг делается добрым, и, протянув обе руки, она просит: «Не бейте, уж лучше я ее не буду гладить».
7 декабря
Начиная с весны [1937 года] разразилась гроза и пошла все кругом крушить, и невозможно было понять, кого убьет следующий удар молнии. И никто не убегал и не прятался. Человек, знающий за собой вину, понимает, как вести себя: уголовник добывает подложный паспорт, бежит в другой город. А будущие враги народа, не двигаясь, ждали удара страшной антихристовой печати. Они чуяли кровь, как быки на бойне, чуяли, что печать «враг народа» пришибает без отбора, любого, – и стояли на месте, покорно, как быки, подставляя голову. Как бежать, не зная за собой вины? Как держаться на допросах? И люди гибли, как в бреду, признаваясь в неслыханных преступлениях: в шпионаже, в диверсиях, в терроре, во вредительстве. И исчезали без следа, а за ними высылали жен и детей, целые семьи. Нет, этого еще никто не переживал за всю свою жизнь, никто не засыпал и не просыпался с чувством невиданной, ни на что не похожей беды, обрушившейся на страну. Нет ничего более косного, чем быт. Мы жили внешне как прежде. Устраивались вечера в Доме писателя. Мы ели и пили. И смеялись. По рабскому положению смеялись и над бедой всеобщей, – а что мы еще могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь – жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом. И угрозой позора. Наш Котов совсем замер, будто часовой на карауле при арестованных или обреченных аресту, – в конце концов, разница была только в сроках. Он отворачивался при встречах, словно боясь унизить себя общением с жильцами-врагами. Мыслил только в одном направлении. Борисов[611]пришел жаловаться, что сыновья одной писательницы до трех часов ночи танцуют под патефон, не дают ни работать, ни спать. Котов его выслушал угрюмо и ответил: «Ничего политического я в этом не нахожу».
8 декабря
Затем пронеслись зловещие слухи о том, что замерший в суровости своей комендант надстройки тайно собрал домработниц и объяснил им, какую опасность для государства представляют их наниматели. Тем, кто успешно разоблачит врагов, обещал Котов будто бы постоянную прописку и комнату в освободившейся квартире. Было это или не было, но все домработницы передавали друг другу историю о счастливицах, уже получивших за свои заслуги жилплощадь. И каждый день узнавали мы об исчезновении то кого-нибудь из городского начальства, то кого-нибудь из соседей или знакомых. Однажды, в начале июля, вышли мы из кино «Колосс» на Манежной площади. Встретили Олейникова. Он только что вернулся с юга. Был Николай Макарович озабочен, не слишком приветлив, но согласился тем не менее поехать с нами на дачу в Разлив, где мы тогда жили. Литфондовская машина – их в те годы давали писателям в пользование с часовой оплатой – ждала нас у кино. В пути Олейников оживился, но больше, кажется, по привычке. Какая-то мысль преследовала его. В Разливе рассказал он, что встретил Брыкина[612] , который выразил крайнее сожаление по поводу того, что не был Олейников на последнем партийном собрании. И сказал, чтобы Олейников зашел к нему, Брыкину. Зачем? Я, спасаясь от ставшей уже привычной тревоги за остатками беспечности былых дней, стал убеждать Николая Макаровича, что этот разговор ничего не значит. Оба мы чувствовали, что от Брыкина хороших новостей нельзя ждать. Что есть в этом приглашении нечто зловещее. Но в какой-то степени удалось отмахнуться от злобы, нет, от бессмысленной ярости сегодняшнего дня. Лето, ясный день, жаркий не по-ленинградски, – все уводило к первым донбасским дням нашего знакомства, к тому недолгому времени, когда мы и в самом деле были друзьями. Уводило, но не могло увести. Слишком многое встало с тех пор между нами, слишком изменились мы оба. В особенности Николай Макарович. А главное – умерло спокойствие донбасских дней. Мы шли к нашей даче и увидели по дороге мальчика на балконе. Он читал книжку, как читают в этом возрасте, весь уйдя в чтение.
9 декабря
Он читал и смеялся, и Олейников с умилением и завистью показал мне на него. Были мы с Николаем Макаровичем до крайности разными людьми. И он, бывало, отводил душу, глумясь надо мной с наслаждением, чаще за глаза, что, впрочем, в том тесном кругу, где мы были зажаты, так или иначе становилось мне известным. А вместе с тем – во многом оставались мы близкими, воспитанные одним временем. Нас восхищали такие разные писатели, как Чехов, Брет Гарт, Хлебников, Гамсун (Хлебникова понимал Николай Макарович гораздо лучше, чем я). Для нас были как бы событием личной жизни фильмы «Парижанка»[613]или «Под крышами Парижа»[614] . Я знал особое, печальное, влюбленное выражение, когда что-то его трогало до глубины. Сожаление о чем-то, поневоле брошенном. И если нас отталкивало часто друг от друга, то бывали случаи полного понимания, – впрочем, чем ближе к концу, тем реже. И такое полное понимание вспыхнуло на миг,. когда показал Николай Макарович на мальчика, читающего веселую книгу. Потерянный рай – и ад, смрад которого вот-вот настигнет. Но погода стояла жаркая, южная, и опять на какое-то время удалось отвернуться от жизни сегодняшней и почувствовать тень вчерашней. Тогда помидоры были редкостью в Ленинграде. Нам удалось купить на рынке привозных. Это еще больше напомнило юг. Но ни в одной лавке в Разливе не нашлось подсолнечного масла. Тогда мы пошли пешком в Сестрорецк. Еще вечером сообщил Олейников: «Мне нужно тебе что-то рассказать». Но не рассказывал. За тенью прежней дружбы, за вспышками понимания не появлялось настоящей близости. Я стал ему настолько чуждым, что никак он не мог сказать то, что собирался. Погуляли мы по Сестрорецку, прошлись по насыпи в Дубках к морю. Достали в магазине подсолнечного масла. Вернулись домой в Разлив. Вечером проводил я его на станцию. И тут он начал: «Вот что я хотел тебе сказать...» Потом запнулся. И вдруг сообщил общеизвестную историю о домработницах и Котове.
10 декабря
Я удивился. История эта была давно и широко известна. Почему Николай Макарович вдруг решил заговорить о ней после столь длительных подходов, запнувшись. Я сказал, что все это знаю. «Но это правда!» – ответил Николай Макарович. «Уверяю тебя, что все так и было, как рассказывают». И я почувствовал с безошибочной ясностью, что Николай Макарович хотел поговорить о чем-то другом, да язык не повернулся. О чем? О том, что уверен в своей гибели и, как все, не может двинуться с места, ждет? О том, что делать? О семье? О том, как вести себя – там? Никогда не узнать. Подошел поезд, и мы расстались навсегда. Увидел я в последний раз в окне вагона человека, так много значившего в моей жизни, столько мне давшего и столько отравившего. Через два-три дня узнал я, что Николай Макарович арестован. К этому времени воцарилась во всей стране чума. Как еще назвать бедствие, поразившее нас. От семей репрессированных шарахались, как от зачумленных. Да и они вскоре исчезали, пораженные той же страшной заразой. Ночью по песчаным, трудным для проезда улицам Разлива медленно пробирались, как чумные повозки за трупами, машины из города за местными и приезжими жителями, забирать их туда, откуда не возвращаются. На первом же заседании правления меня потребовали к ответу. Я должен был ответить за свои связи с врагом народа. Единственно, что я сказал: «Олейников был человеком скрытным. То, что он оказался врагом народа, для меня полная неожиданность». После этого спрашивали меня, как я с ним подружился. Где. И так далее. Так как ничего порочащего Олейникова тут не обнаружилось, то наивный Зельцер,[615]драматург, желая помочь моей неопытности, подсказал: «Ты, Женя, расскажи, как он вредил в кино, почему ваши картины не имели успеха». Но и тут я ответил, что успех или неуспех в кино невозможно объяснить вредительством. Я стоял у тощеньких колонн гостиной рококо, испытывая отвращение и ужас, но чувствуя, что не могу выступить против Олейникова, хоть умри.
11 декабря
После страшных этих дней чувство чумы, гибели, ядовитости самого воздуха, окружающего нас, еще сгустилось. Мой допрос на заседании правления кончился ничем. Тогдашний секретарь наш потребовал, чтобы я написал на имя секретариата Союза заявление, в котором ответил бы на те вопросы, что мне задавали. Но и в этом заявлении я не прибавил ничего к тому, что с меня требовали. Никогда я не думал, что хватит у меня спокойствия заглянуть в те убийственные дни, но вот заглядываю. После исчезновения Олейникова, после допроса на собрании, ожидание занесенного надо мной удара все крепло. Мы в Разливе ложились спать умышленно поздно. Почему-то казалось особенно позорным стоять перед посланцами судьбы в одном белье и натягивать штаны у них на глазах. Перед тем, как лечь, выходил я на улицу. Ночи еще светлые. По главной улице, буксуя и гудя, ползут чумные колесницы. Вот одна замирает на перекрестке, будто почуяв добычу, размышляет, – не свернуть ли? И я, не знающий за собой никакой вины, стою и жду, как на бойне, именно в силу невинности своей. В город переехали мы довольно рано. И тут продолжалось все го же. Да, Катина болезнь ушла из нашей жизни, но легче не стало. В 38 году исчез Заболоцкий.
19 декабря
Кончается съемка «Дон Кихота». Вчера Козинцев решил показать картину в приблизительно смонтированном состоянии работникам цехов – осветителям, монтерам, портнихам. Полный зал. Утомленные или как запертые лица. Как запертые ворота. Старушки в платочках. Парни в ватниках. Я шел спокойно, а увидев даже не рядового зрителя, а такого, который и в кино не бывает, испугался. Девицы, ошеломленные собственной своей судьбой женской до того, что на их здоровенных лицах застыло выражение тупой боли. Девицы развязные, твердо решившие, что своего не упустят, – у этих лица смеющиеся нарочно, без особого желания, веселье как униформа. Пожилые люди, для которых и работа не радость и отдых не сахар. Я в смятении.
Как много на свете чужих людей Тебя это не тревожит на улице и в дачном поезде, но тут, в зале, где мы будем перед ними как бы разоблачаться – вот какие мы в работе, судите нас! – тут становится жутко и стыдно. Однако отступление невозможно. Козинцев выходит, становится перед зрителями, говорит несколько вступительных слов, и я угадываю, что и он в смятении. Но вот свет гаснет. На широком экране ставшие столь знакомыми за последние дни стены, покрытые черепицей крыши, острая скалистая вершина горы вдали – Ламанча, построенная в Коктебеле. Начинается действие, и незнакомые люди сливаются в близкое и понятное целое – в зрителей. Они смеются, заражая друг друга, кашляют, когда внимание рассеивается, кашляют все. Точнее, кашлянет один – и в разных углах зала, словно им напомнили, словно в ответ, кашлянут еще с десяток зрителей. Иногда притихнут и ты думаешь: «Поняли, о, милые!» Иногда засмеются вовсе некстати. Но самое главное чудо свершилось – исчезли чужие люди, в темноте сидели объединенные нашей работой зрители. Конечно, картина будет торжеством Толубеева. Пойдут восхвалять Черкасова по привычной дорожке. Совершенно справедливо оценят работу Козинцева. Мою работу вряд ли заметят. (Все это в случае успеха.) Но я чувствую себя ответственным наравне со всеми и испытываю удовольствие от того внимания, с которым смотрят на этом опасном просмотре, без музыки, с плохим звуком, приблизительно смонтированную картину. Черкасов, уже давший в заграничные газеты различные сообщения о своей работе, ведущий дневник, с тем, чтобы потом выпустить книгу «Как я создал роль Дон Кихота», после просмотра находится в необычном состоянии. Обычная его самоуверенность как бы тускнеет.
20 декабря
Вчера я был на выставке Пикассо и позавидовал свободе. Внутренней. Он делает то, что хочет. Та чистота, о которой мечтал Хармс. Пикассо не зависит даже от собственной школы, от собственных открытий, если они ему сегодня не нужны. Убедился, что содержание не ушло. Ушел сюжет. А содержание, которое не определить словами, осталось. Выставка вызвала необыкновенный шум в городе. У картин едва не дерутся. Доска, где вывешиваются отзывы, производит впечатление поля боя. «Ах, как хочется после этой выставки в Русский музей», – пишет один. «Ступай и усни там», – отвечает другой. И так далее и тому подобное.
29 декабря
Вчера произошло неожиданное событие – по радио объявили, в вечерних последних известиях, что мне дали орден Трудового Красного Знамени.[616]Звонил весь вечер телефон. Прибежали с поздравлениями соседи.
1957
1 января
Новый год встретили у Эйхенбаумов. Было, как всегда в последний год, не слишком весело. Интересней всех, как всегда, Шкловский. Он вспомнил о том, как сорок лет назад, в 16 году, встречали Новый год трое – он, Маяковский и Василий Каменский, который в тот вечер был интересней всех. Нападал на Маяковского за то, что тот «плетется в хвосте войны». «Мы чувствовали себя хозяевами... Нет, не хозяевами. Мы чувствовали себя ответственными за весь мир».
7 января
Стал читать Пруста[617]с обычным ощущением интереса и протеста. Прежде всего протест относился к переводу. Слово «монументальный» привычно для французского уха и невозможно, когда оно употребляется для описания церкви сельской, в окрестностях Бальбека. Невозможно точно перевести рассуждения Пруста о словах, которыми пользуется такой-то или такая-то, что определяет их как людей такого-то или такого-то вида. Это непереводимо, как стихи. Но, может быть, именно вследствие этого, вследствие того, что ряд чисто словесных вещей исчезал в переводе, на первое место выступали чисто человеческие чувства, о которых рассказывал Пруст. В его порочности, как и во всякой порочности, была одна черта, внушающая уважение, – правдивость. И то, что он с полным безразличием к значительности предмета, словно власть имеющий, стоящий по ту сторону добра и зла, описывал одинаково пристально все– и гостиные, и лесбиянок, и педерастов, и свою привязанность к бабушке, и суетность, и любовь к живописи. Все это было недоступно мне. Далеко, как далеко! Я никогда не любил ни одного французского писателя, испытывая к некоторым из них чисто рассудочное уважение. А Пруст еще и, казалось, переступает границы возможного, идет по дороге, которая никуда не может привести. Дальше уж надо не читать, а самому до конца пережить описываемое.
8 января
Впрочем, в подлинниках, может быть, все это усиливалось и сохранялось в пределах мастерством исполнения.
14 января
Приближался апрель – премьера «Тени»[618] . Акимов сердился. У нас разные, противоположные виды сознания. Свет, в котором видит он вещи, не отбрасывает тени. Как в полдень, когда небо в облаках. Все ясно, все видно и трезво. Свела нас жизнь, вероятно, именно поэтому. Он не слишком понимал, что ему делать с такой громоздкой пьесой. И по мужественному складу душевному обвинял в этом кого угодно, главным образом меня, только не себя. Незадолго до премьеры в Доме писателя устроили выездную генеральную репетицию. В те времена заведена была такая традиция. Прошел показ празднично на нашей маленькой эстраде. Показывали самые удачные кусочки спектакля. Всем все понравилось, все были веселы, потом, по тогдашнему обычаю, бесплатно выступавших актеров кормили ужином, писатели принимали их, как гостей. Говорил речь Лавренев. Все, казалось, будет хорошо, но все-таки я был не слишком уверен в успехе, но не слишком и беспокоился. Беспечность, идиотская, спасительная, заменявшая независимость и мужество, сопровождавшая меня всю жизнь, помогала и тут.
15 января
И вот состоялась генеральная репетиция в театре. Вечером. Первая генеральная. В отчаянье глядели мы, как ползет громоздкое чудовище через маленькую сцену театра, путаясь в монтировках, как всегда у Акимова сложных. Актеры словно помертвели. Ни одного живого слова! А на другой день на утренний просмотр пришла публика, и все словно чудом ожило. И пьеса имела успех, настоящий успех. Даже я, со своим идиотским недоверием к собственному счастью (такой же вечный спутник, как беспечность при неудаче), испытал покой. Полный радости покой. Я заметил, что Иван Иванович Соллертинский в антракте после второго акта что-то с жаром доказывает Эйхенбаумам. Соллертинский был человек острый, до отсутствия питательности. Приправа к собственным знаниям. Одаренный до гениальности. Говорили, что он знает двадцать два языка. И бесплодный. Сильный, гипнотизирующий своей силой до того, что его манера говорить, резко артикулируя, вставляя массу придаточных предложений, саркастически пародирующих неведомо кого и неведомо что, словно впечаталась в Шостаковича, его друга, и во всех музыкантов и музыковедов, связанных с ним. Он был тоже один из беспризорников или пижонов двадцатых годов, толстолицый, высокий, сутулый, обрюзгший, злой, и умный, и полностью лишенный веры во что бы то ни было. Уважающий только это свое право на неверие. Словечки его не забывались и повторялись. Я с ним был едва знаком, но отлично знал его.
16 января
Я ушел с премьеры, или просмотра, с ощущением праздника. Вечером в Доме писателя мы принимали Катаева. Он должен был читать свою новую пьесу «Домик». Во главе правления клуба в те времена стоял Герман. Приемы гостей проходили широко, и директор – молодой, злой, острый, самолюбивый Авербух проводил их с ненавистью, но и со всей энергией, на какую был способен. И они, как правило, удавались. Мы шли к машине через узкий наш двор. И до сих пор я помню острое ощущение покоя, удовлетворения – счастья и покоя, первого за много лет. В Доме писателя уселись мы за столом декоративным – глухари в перьях, нарезанная до половины семга посреди, и бутылки, и набор бокалов. Пьесу обсуждали за столом. И я спросил Акимова, что говорил о пьесе Соллертинский. «Ему не понравилось, – сказал Акимов. – Правда, он честно признался, что первого акта не видел. Пришел на второй. Но сказал, что, по его мнению, это Ибсен для бедных». Я терпеть не могу своей зависимости от людей – признак натуры слабой. Но, чего уж тут скрывать, чувство покоя и счастья словно кислотой выело в один миг с химической чистотой и быстротой. Я сразу понял то, что увидел на просмотре: сутулую фигуру Соллертинского, его большие щеки, смущение, с которым Эйхенбаум выслушивал его страстные тирады. Как было понять себя и свою работу и ее размеры в путаные и тесные времена? Я увидел одно вдруг, что выразитель мнения сильной группы, связанной с настоящим искусством, осудил меня. «Ибсен для бедных». А я так не любил Ибсена! И праздник кончился, и я отрезвел. Тем не менее спектакль пошел.
22 января
Вскоре после премьеры мы решили поехать в Детское Село. В те годы там, в бывшем особняке Алексея Николаевича Толстого, помещался первый Дом творчества нашего Союза. Мы получили большую комнату во втором этаже, окнами в сад. Жили там, когда мы приехали, Тынянов, Тихонов, Карасев[619] , Герман, Матвеев[620] , Марвич[621] . С тяжелым чувством спустился я, собираясь в Дом творчества, неся чемодан, усаживаясь в литфондовский М-1. Я почему-то боялся. Чего? Как всегда – принудительного ассортимента, общего стола. С каждым из отдыхающих был я в пристойных отношениях и только с Юрием Николаевичем – в хороших, но я чувствовал себя после нескольких часов на премьере не успокоенным, а вздернутым, выбитым из колеи. «Тень» после успеха первых дней шла неровно. И Акимов, с той же простотой и прямотой, с какой передал мне отзыв Соллертинского, сказал после спектакля, прошедшего вяло: «Я люблю пьесы, имеющие успех и у зрителей премьерных, и у массовых». И неприятнее всего – я не нашел что ответить ему, словно бы принял его упрек. Так называемая творческая близость моя с Театром комедии, или, что почти то же, с Акимовым, была не так уж проста и в сущности пока сводилась к тому, что другие театры меня совсем не принимали, Акимов же иной раз – упрямо, иной раз – переменчиво дрался за мои пьесы. «Приключения Гогенштауфена» ему самому не слишком нравились, но он упорно боролся за сказку «Принцесса и свинопас». «Наше гостеприимство» даже придумано было в сущности им.[622]Самый сюжет. Но он невзлюбил пьесу, когда на нее стали нападать. И я сам заявил, что беру ее из театра, когда Акимов добился разрешения Реперткома. И он легко согласился на мое отречение, хоть недавно дрался за нее со всем упорством, свойственным ему.
23 января
Итак, неспокойный, неуверенный, выбитый из колеи ехал я в Дом творчества писателей, то есть к людям не слишком близким, недостаточно близким, чтобы жить с ними под одной крышей. Машина бежала по Международному проспекту, тоже не слишком близкому, я, почему-то, не любил эту часть Ленинграда. Большой город состоит из нескольких, непохожих друг на друга. И роты Измайловского полка, проспект, Обводный канал кажутся мне совсем непохожими на тот Ленинград, в котором я обычно живу. А потом идут пустыри, и городские свалки, и невеселые плоские, с умирающими огородами пространства. Оживляют воображение каменные, тяжкие, монументоподобные верстовые столбы столетней давности. Поражают полным несоответствием с окрестной бедностью, скромностью. А вот гранитный, такой же монументоподобный, не то фонтан, не то резервуар, в который собирается вода родника. Деревеньки в пять-шесть домов, серые, деревянные, неизвестно почему дожившие до 1940 года. Людей в них не видать. Пулковская обсерватория с белым куполом, деревья и поворот к Детскому. Жизнь в Доме творчества оказалась проще, чем чудилось. Видимо, все побаивались друг друга – оказались очень уживчивыми. Только Тихонов, хохоча деревянным смехом и посасывая деревянную свою трубку, пытал бесконечными рассказами. Тынянов, которого пытал он на лестнице по пути в умывальную, слушал его, слушал и вдруг потерял сознание. Но и он, если ты никуда не спешил, казался иной раз занимательным, как отдел «Смесь» в приложении к «Ниве». Тут тебе и Кахетия, и Осетия, и Европа, и Средняя Азия. Вдруг в газетах появилось сообщение о взятии немцами Крита, о сплошных потоках транспортных самолетов, идущих двумя линиями, – одни туда, другие, разгрузившись, обратно с острова на базу. То же чувство, с каким я читал «Борьбу миров» Уэллса, охватило меня. Он первый угадал, что нам придется наблюдать не только судьбы людей или семей, а судьбы народов. Мы осторожно удивлялись.
24 января
Осторожно удивлялся и воспитанный на «Мире приключений» и «Вокруг света», обожающий сенсации и исключительные положения Тихонов. Он больше помалкивал, уже тогда чувствуя себя человеком государственным, но во всем его деревянном существе угадывалось то оживление, что охватывает любителя, увидевшего пожар в соседнем квартале. Но все-таки и он не мог не чувствовать, что какая-то рука готова взломать наш призрачный непрочный мир. Запах гари проникал в Дом творчества, сколько бы мы ни успокаивали себя, сколько бы ни рассказывал Тихонов о Кахетии и Хевсуретии.
25 января
С трудом уговорил я себя пойти в Екатерининский дворец и до сих пор этому рад. Каждая, даже ничтожная, перемена состояния причиняла мне боль, точнее – пугала возможностью боли. Но едва вошел я в огромные пространства дворцовых зал, как с удивлением убедился, что не испытываю принуждения, как часто в музеях. Этот дворец жил и, казалось, и не собирался умирать. И самое богатство и пышность не оскорбляли тут и не вызывали протеста. Напротив. Странная мысль поражала тебя: людей, властвовавших тут, великанов восемнадцатого века, спокойно веровавших в свое право жить именно так, трудно судить по законам нынешнего дня. В самом размахе чувствовалось нечто, переходящее за пределы обывательских суждений. Я вдруг как в подарок получил новое чувство, именно чувство, а не мысль, и обрадовался подарку. Этому дворцу, такому спокойному и уверенному в своей долговечности, оставалось жить всего только год с небольшим. Но мы и не подозревали об этом. Тревога, вспыхнувшая при чтении газет, ничем не поддерживалась. Пожар шел в соседнем квартале. И мы отвлекались ежедневно множеством мельчайших забот. И косностью нашего быта.
26 января