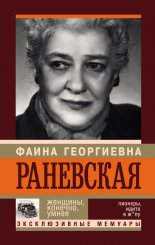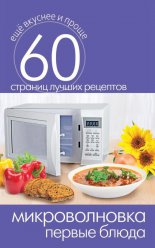Трилобиты. Свидетели эволюции Форти Ричард

В данном объяснении скрыта надежда на будущие открытия. Возможно, один из читателей этих строк откроет некий аналог докембрийского янтаря. Недавно в Китае были найдены окаменевшие эмбрионы животных, клеточка к клеточке минерализованные фосфатом кальция. Хотя возраст этих ископаемых — поздний докембрий, это ничего не доказывает. Хотелось бы — ох, как хотелось бы! — чтобы в мире нашлись доказательства пропущенных сцен из эволюционной истории, те крошечные существа, в которых видны были бы признаки будущих жизненных линий. Где-нибудь отыщется маленький трилобит, в котором мощно выразится перспектива бесчисленных вариаций, костюмов, прошедших чередой в следующие 300 млн. лет. Поиски идут дальше.
Но на этом взрывы не закончились. Еще несколько были отыграно на фоне сланцев Бёрджес и кембрийских эпох уже после публикации «Удивительной жизни». Большинство споров о правдоподобности взрывного появления типов животных проходило на страницах научных журналов с соблюдением всех благопристойностей. Учтивость и еще раз учтивость! Стив Гулд, даже зная о моем с ним несогласии, всегда был сердечен со мною: встречаясь в конференц-залах, мы приветствовали друг друга без всякой задней мысли. Не думаю, что он втайне припрятал мою миниатюрную фигурку и с вожделением втыкал в нее булавки, а я, в свою очередь, не планировал потихоньку раздобыть его личные вещи и наводить порчу. Ученые редко опускаются до такого. Им прежде всего нужна правда. Ричард Докинз рассказывает милую историю про маститого профессора, который вышел на сцену, чтобы пожать руку своему юному коллеге, только что в пух и прах разгромившему его любимую теорию. И профессору аплодировали стоя. Примерно так полагается поступать по всем правилам этикета.
В Смитсоновском институте в Вашингтоне была устроена выставка ископаемых из сланцев Бёрджес, и люди могли своими глазами увидеть этот невероятный бестиарий; да и литература к выставке была подобрана беспристрастно и обоснованно. Более или менее одновременно с выставкой вышла в свет книга двух Макменаминов — Марка и Дианы — профессоров небольшого Университета Восточного побережья, в которой была отражена крайняя степень приверженности теории взрыва. Книга называлась «Появление животных» (The Emergence of Animals, 1991). В этой книге они указали, что в кембрии появилось более сотни типов животных[34], большинство из которых вымерли, не оставив потомков. Просто повыскакивали, как чертики из табакерки, а потом самоликвидировались: что-то типа эпатажных произведений постдадаистов. Эта позиция перегулдила Гулда десятикратно. Самым таинственным образом авторы скрыли, как они выделили свои сто с лишним кембрийских типов, какие критерии позволили им присвоить этим животным высшие таксономические категории. Ни полслова об этом. И если все эти пресловутые «типы» не произошли от одного предка, то как им удалось независимо выработать так много общих черт? А если общего предка все же не исключать, то не должны ли они все принадлежать к одному типу? Ни строчки пояснений. Остается предположить, что слишком мало требовалось этим автором, чтобы выделить отдельный тип: животное должно было появиться в кембрии и иметь необычный внешний наряд. Время действия само по себе гарантировало новизну.
Примерно через десять лет после «Удивительной жизни» на арену вышла еще одна книга и атаковала мир с еще большей яростью. На сей раз автором выступил Саймон Конвей Моррис — звезда гулдовского мироздания, один из первых кембриджских enfants terribles. За те десять лет, которые прошли с момента утверждения в «Удивительной жизни» всей значимости ископаемых из Бёрджес, у Саймона была масса возможностей высказать свое независимое суждение. Я выше обрисовал его пересмотренное мнение: это был более или менее рассеянный, приглушенный взрыв. Саймон принимал необходимость более ранней, предшествующей истории животных, в то же время справедливо указывал на своеобразие кембрийского периода, когда появились твердые раковины, причем чрезвычайно быстро, и не только они, но вместе с другими ископаемыми, у которых таких твердых частей не было. И нет тут ничего особенно искрометного. Я бы сказал, что Саймон согласился рассматривать кембрийские фауны в контексте ключевого этапа истории жизни животных. Все взрывы он приберег лично для Стивена Гулда. Я никогда не встречал таких мрачных нападок у профессионала. И был совершенно ошарашен. Гулд, по словам автора, не писал, а разглагольствовал. И оригинальности у того, мол, не было, а были «потуги на оригинальность». Вот один из весьма показательных пассажей из книги «Горнило творения» (Crucible of Creation, 1998): «Снова и снова Гулд бросается в бой… до странного невосприимчивый к, казалось бы, смертельным ударам… Гулд сообщает восхищенной публике, что наши знания о эволюционном процессе ужасающе неполны… Мы глядим сквозь измышления рокового толкователя и видим стройное здание эволюционной теории все в солнечном свете и нимало не изменившееся». Таким велеречивым способом Гулда назвали шарлатаном. Зависть к успеху — одна из наименее привлекательных человеческих черт, и так как в биологических науках у Гулда, пожалуй, не найдется конкурентов, по крайней мере среди ученой братии, то пусть нас не удивляет, что соперники уделяют ему все свое внимание. Конечно же, иметь другое мнение совершенно законно, и это необходимая составляющая любого прогресса. Но что меня покоробило — так это редкая нетерпимость и желчные нападки. А если вдуматься в смысл сносок, то попытки выставить Гулда в дурном свете проступают еще резче. Гулд (вместе с Р. С. Левонтиным) опубликовал в 1979 г. знаменитую статью с весьма претенциозным названием «Паруса Сан-Марко и панглоссова парадигма: критика адаптационизма» (The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme). Но посвящена она важной теме: все ли признаки, которые имеются в природе, сложились с какой-то конкретной целью, все ли имеют определенное назначение. В одной из своих ядовитых сносок Саймон Конвей Моррис выговаривает Гулду за незнание архитектурной терминологии — совершенно очевидно, что те конструктивные детали в Сан-Марко никак нельзя называть парусами. Упрекает так, будто из-за этого терминологического укола может лопнуть внушительная база всей работы. Для подобного критического рвения нужен какой-то глубинный источник. Почему Саймон кусает руку, некогда вскормившую его? Если взглянуть на маленьких серебристых ископаемых, буднично лежащих в лотке, с трудом верится, что они могут вызвать такие страсти; трилобиты и их родичи не в ответе за словесные перепалки, разгоревшиеся вокруг них. Конвей Моррис и Гулд впоследствии выясняли отношения на страницах журнала Natural History. Я не готов подписаться под циничной точкой зрения, что подобные споры являются частью продуманной стратегии для увеличения продаж; на мой взгляд, такую глубокую неприязнь невозможно подделать. Но все это мне напомнило балладу Брет Гарта «Общество на Станиславе», описывающую шумный скандал в научных кругах вокруг — чего бы вы думали? — ископаемых костей:
- Ученому нехорошо, взяв для доклада слово,
- Публично называть ослом ученого другого,
- Но и тому нехорошо, кого ослом назвали,
- Швырять обломками скалы в кого попало в зале…
- Затем не только кулаки, но с руганью сверх меры
- Пустили в дело костяки палеозойской эры;
- Попал и Томпсон в кутерьму, и кто-то в общей буче
- Вдруг череп мамонта ему с размаху нахлобучил[35].
Мне причина Саймонова гнева видится лишь в одном — Гулд перехвалил его. Вспомним историю Докинза, когда молодой профессор наступает на пятки старому. «Удивительная жизнь» стала мировым успехом; и там навсегда впечатан тот Конвей Моррис, который говорит: «О, черт! Опять новый тип!» — Конвей Моррис ранних 1980-х. Ну а Конвей Моррис 1990-х отрекается от прежних идей и вполне справедливо: ученые должны продвигаться. Однако в книге нет никаких упоминаний о прежних версиях, будто их и не было вовсе. Это полнейшее преображение истории в угоду настоящему. Так что причина гневных Саймоновых взрывов не в зависти к Гулду, а скорее, в неприязни к прошлым своим суждениям. Средний читатель «Горнила творения», мало знакомый с историей вопроса, не догадается, что автор некогда был очень близок к точке зрения Гулда[36] (или даже полностью разделял ее). И читатель опять же не догадается, что Саймон в 1989 г. получил Шухертовскую медаль Американского палеонтологического общества и вручал этот исключительно почетный знак сам Гулд. «История — вздор!» — провозгласил Генри Форд в 1919 г. В отношении автомобильной промышленности подобное высказывание, возможно, небезосновательно, но сделает мало чести историку.
Что до трилобитов, то они смотрели на мир, на события вокруг своими кристальными глазами, и я постараюсь передать их долгий взгляд, не отвлекаясь на желчную возню простых людишек. Сначала любителям трилобитов представлялось, будто эти животные появились чудесным образом из ниоткуда, потом они сделались родственниками ракообразных; вскоре трилобиты заслужили право зваться отдельным типом животных, а теперь они сдали назад и причисляются наряду с другими животными к членистоногим, ну а ближе всего к ним стоят мечехвосты. О них и их родичах сочиняют теории взрыва, выбросившего весь этот народец на свет божий. Но, может быть, настало время упаковать динамит подальше и распрощаться на время с взрывоопасной метафорой. Она довольно наделала шуму.
Глава 6.
Музей
На галерее, где праздная публика неторопливо прохаживается между выставленными скелетами вымерших тварей или муляжами динозавров, которые тщатся убедить зрителя, будто сотню миллионов лет можно стереть при помощи механического костяка и резинового подергивания, позади чудищ, есть неприметная дверца, на нее мало кто обращает внимание. Эта дверца полированного красного дерева открывается специальным ключом. Время от времени из нее появляется смотритель, выходит и замирает на миг, словно ошеломленный зрелищем толпы. Этот вход уводит от ярмарочного представления в другой мир: в мир настоящих костей и раковин. Я впервые вошел в эту дверь больше тридцати лет назад. В те времена, когда я начал работать в лондонском Музее естественной истории, его по-свойски назвали БМ, т.е. Британский музей. И это звание он унаследовал от славных времен. Уже прошло много лет с тех пор, как естественнонаучные коллекции отделили от предметов античной старины, заполняющих витрины внушительного здания на Блумсбери: там и фараоны, и медицинские склянки, и древние баркасы, и лорнеты… Там расположились и лаборатории древностей, античности, египетская, восточная и все прочие. Но все равно мы официально оставались Британским музеем (естественной истории). Мои итальянские коллеги до сих пор называют нас II Britannico — «британцы», и это превосходное имя абсолютно точно соединяет национальность и историю наших коллекций. Мое назначение было чем-то сродни вступлению в святой орден, да еще с непременным принесением обета бедности. Но я стал одним из счастливчиков, у кого мечты сошлись с реальностью. Влюбленный в трилобитов с самых малых лет, я бы занимался ими и так, бесплатно, но я стал одним из немногих избранных, кому за это еще и приплачивали! И мне выдали КЛЮЧИ. Они представляли собой тяжелую стальную связку, какие традиционно изображаются в тюремном хозяйстве. Ключи висели на стальном кольце, и мне было сказано, что я должен держать их при себе всегда. На ключах было выбито «Нашедшему — 20 шиллингов награды», надпись мгновенно переносила во времена, когда на соверен вы с возлюбленной отправлялись ужинать рыбой и жареной картошкой, а сдачи хватало на автобус домой. Почти все двери легко открывались волшебными чарами этих ключей. Там, в одной из каморок, наверняка знакомой Чарльзу Диккенсу, сидел специальный человек, работавший на полную ставку, чья единственная задача заключалась в том, чтобы ключи скользили в замках с уверенностью дружеского рукопожатия. Меня приняли в отдел палеонтологии — в исчезнувший мир вымершей жизни. И предоставили кабинет, больше похожий на часть лабиринта. Он находится под огромным парадным вестибюлем музея, за украшенной природными мотивами высокой готической дверью, за которой в роскошных старинных шкафах сложены коллекции трилобитов и все наполнено тонким ароматом учености. По окружности стен имеется узенький железный балкончик, он обегает кабинет на уровне человеческого роста, а над ним еще и еще полки. Снаружи за дверью стоит слон, в экспозиции он больше не нужен, и теперь выглядывает из-под пыльного покрывала. Когда-то здесь работал Т. Уайтерс, мировой знаток усоногих раков. В этом же кабинете сидел и мой предшественник У. Т. Дин, которого сманили работать в Канаду, тоже специалист по трилобитам. Для меня работать тут было редкой удачей, потому что возможностей стать сотрудником БМ на самом деле очень и очень немного. Словно нашлась замочная скважина и — надо же! — ключик подошел.
Задачи моей первой работы определялись так: «… способствовать исследованиям трилобитов…» — а для меня это звучало как «наслаждайся жизнью за наши деньги». Для моих попутчиков, выезжавших ежедневно со мной в 8:02 из Хенли-на-Темзе в Окстоне, именно так оно и выглядело. Они-то каждое утро готовились к схваткам по займам и кредитам, к составлению сложных записок в государственные комитеты или изобретению новых ходов для рекламы гамбургеров, а я каждое утро шел на встречу с трилобитами. «Ну, все же, что ты там делаешь?» — смущали они меня своим неподдельным любопытством. Главное, чем я занимался в Музее естественной истории, это изучение видов. Все заключения об эволюции следуют отсюда, от видового разнообразия: представление о разнообразии лежит в основе любых других исследований. И я один из немногих, кому дозволено давать видам названия — на высокопарном научном языке нужно говорить «видам, новым для науки». Это, если хотите, те атомы, из которых строятся все последующие рассуждения. Но не они, не названия, являются притягательной целью науки, где галактики и субатомные частицы — всего лишь фишки в настоящей игре. Названия — уровень плинтуса в мастерских биологии. Сейчас объясню подробнее.
Никто не знает, сколько в точности видов существует на планете. В одних группах, например у птиц, представители сравнительно крупные и броские, и редко в таких группах находится нечто новое и неизвестное науке. Другое дело жуки: известна только малая часть видов, обитающих в живой или мертвой древесине. Спросите любого жуковеда, и он подтвердит, что составление перечня жуков — занятие бесконечное. Для геологического прошлого проблема видится немного по-другому. Нам достается лишь по небольшой части от всего, что существовало в прежние эпохи. Мы зависим от сохранности окаменелостей, процесса капризного и непонятного, а также и от удачи — нужен правильный удар молотком в правильном месте в правильное время. Напомню, что трилобитов мы обычно находим не целиком, а по кусочкам, так что мы попадаем в зависимость от упорства сборщика — найдет ли он все необходимые части панциря. Затем можно начать обдумывать, новый под микроскопом вид или нет. И это тоже не так уж просто.
Во-первых, что такое вид? У современных животных виды различаются сравнительно легко: даже близкородственные виды имеют массу специфичных черт, хорошо заметных опытному глазу. Два обычных вида европейских птиц из одного семейства — певчий дрозд и черный дрозд, — несмотря на внешнее сходство, сильно разнятся по окраске оперения, цвету яиц, песенкам и поведению. И даже еще более схожую пару — певчего дрозда и дрозда-дерябу — тренированный орнитолог не перепутает: у этих птиц и песенки, и образ жизни достаточно различны. Но от ископаемых трилобитов нам доступны лишь сброшенные шкурки. К счастью, трилобиты в одном немного напоминают дроздов — у них разное «оперение»; поверхность панцирей несет красивые и характерные скульптурные украшения, которые, скорее всего, отражают различия между видами. Часто близкие виды подчеркивают свою индивидуальность именно таким способом: нужно же как-то подыскать правильного брачного партнера. В широком смысле тот же принцип помогает рокерам находить рокеров (по кожаным жакетам с заклепками) или сводит вместе кришнаитов (бритая голова и тога). И если ископаемый материал сносной сохранности, то в нем можно разделять самостоятельные виды так же уверенно, как и на современном материале. Ну а затем наши экспертные ощущения требуется превратить в официально признанный новый вид. Как? Тут вступают в действие научные публикации. Вы не можете проснуться поутру в понедельник, посмотреть на дождь за окном и решить, что сегодня, пожалуй, нужно установить несколько новых видов. Новый вид официально не существует, пока о нем не появилась публикация в научном журнале. Автор, обычно авторитетный ученый, предлагает вид в качестве нового, поясняет конкретно, почему он новый, и сопровождает описание качественными иллюстрациями. И это серьезное дело. Необходимо написать, чем новый вид отличается от всех уже известных видов этого рода: говоря научным жаргоном, нужно составить диагноз нового вида. А для этого, понятно, придется пересмотреть дюжину или больше научных статей, сравнить свои экземпляры с другими похожими видами, которые когда бы то ни было получали научные названия. Процесс этот трудоемкий, потому что нужные статьи могут прятаться в малодоступных журналах Новосибирска, Норича или Нью-Дели. А значит, хорошая библиотека является огромным благом для специалиста. Поэтому для ученого библиотеки публикаций, дополняющие большие музейные коллекции, — все равно что бензин для машины. Если из-за небрежности или несчастливых обстоятельств не выполнить эти литературные изыскания как следует, то можно пропустить важную публикацию, где ваш вид уже описан и назван. И тогда ваше новое название будет сведено в синонимику (что в переводе с языка таксономиста: будет навсегда забыто), потому что у более старого имени есть приоритет. Научные названия в этом смысле совсем не похожи на названия улиц в городах Европы: они не меняются в соответствии с текущей политической обстановкой. Они почти что вечны. Роза для ботаника всегда останется розой, «хоть розой назови ее, хоть нет».
Для нового вида требуется придумать видовое имя, т.е. второе имя в полном названии. Многолетняя традиция (которая скоро, кажется, закончится) выработала некоторые правила именования видов. У них должны быть латинские или греческие корни, подходящие по смыслу: например, красивый вид награждается именем pulcher (по-латыни — красивый) или даже pulcherrima — «действительно очень красивый». Нельзя назвать вид verypretti (очень симпатичный) или jolliattractivi (чрезвычайно привлекательный). А вот с именем Rosa pulcherrima все в порядке. Если чуть-чуть изменить — Rosa pulcherrimus — это, хотя и лучше звучит, будет неправильно, потому что окончание видового имени указывает на грамматический род. Мне всегда нравилась приверженность к классическим корням, она связывала меня с теми школярами XVIII в., которые писали по-латыни и, возможно, по-латыни думали. Латинскими названиями я связан с великим Джоном Рэем и несравненным Каролусом Линнеусом (или Карлом фон Линнеем, если забыть про латынь). Мы все связаны великим предприятием по классификации природной жизни; на протяжении двух столетий мы одержимы идеей упорядочить наши знания. Я с наслаждением копаюсь в старых тяжелых словарях, составленных учеными классиками (передо мной сейчас лежит латинский словарь — академический Льюис и Шорт), в поисках перевода, например, слова «бородавчатый» или «стыдливый», чтобы из них составить название вида; и мне нравится потом читать цитаты из Овидия, подтверждающие употребление слов. И это подражание прошлой классической культуре больше напоминает крепкую связь, а не крепостную зависимость.
Теперь, на следующей стадии, необходимо связать новый научный ярлык с конкретным образцом — fons et origo — источником и первопричиной названия, и этот образец навсегда останется официальным пропуском данного вида. Вот он типовой экземпляр (или по-другому голотип) нового вида. На этой стадии особую важность приобретает музей. Типовой экземпляр должен сохраняться здесь вечно. В коллекциях отражено разнообразие естественной жизни, прошлой и настоящей. Вместе с типовыми экземплярами хранятся и другие, собранные повсюду от Антарктиды до Эквадора, Тянь-Шаня и Тимбукту — реестр всего живого и вымершего. В Музее естественной истории одни лишь коллекции окаменелостей занимают площадь размером с футбольное поле, а таких — четыре этажа. На каждом этаже ряды шкафов, в каждом шкафу примерно по сорок полок. На каждой полке помещается около пятидесяти экземпляров: голова кругом идет, когда пытаешься прикинуть общее число экземпляров в коллекциях.
Если мне нужно сравнить трилобитов с теми или иными современными членистоногими, я отправляюсь в зоологический отдел. И там, в тысячах тысяч банок покоятся змеи, рыбы, осьминоги, омары, замаринованные и неживые. Есть и ящерицы, пойманные Чарльзом Дарвином. Есть черви, вытащенные из морских глубин. Там должно быть и то, что я ищу: крупный родственник мокрицы, называемый Serolis, он обитает на дне под ледяными шапками Антарктики. Внешне он действительно напоминает трилобита (хотя и не является его близким родичем), и меня интересует тонкое устройство его туловищных сегментов. Я прохожу мимо бессчетных полок, и не нужно быть завзятым антропоцентристом, чтобы угадать на надутых губах трески унылый комментарий относительно столетнего сидения в банке. Краски выцвели, и, кажется, в заспиртованных бледнотелых созданиях отражен их долгий музейный стаж. Я иду вдоль бесцветного парада склянок и бутылок, и с каждой дверью голос сам собой теряет децибелы. Идешь и думаешь: смерть — вот твое печальное лицо, и если не разложение, то только мертвящий рассол.
Так или иначе, если вид назван, другие исследователи всегда смогут найти типовой экземпляр вида и, сравнив его со своим, решить, один это вид или они разные. Типовому экземпляру музейный куратор присваивает индивидуальный номер, он обычно пишется на маленькой этикетке или приклеивается прямо на образец, и этот номер служит официальной записью биологического разнообразия, уникальным указателем на конкретный образец (компьютеры сделали эту информацию гораздо более доступной). С некоторых пор, когда стала доминировать менее типологическая точка зрения на вид, голотипы утратили часть своей значимости: очевидно, что вид лучше обрисовывается набором типовых экземпляров, они дают представление о естественной изменчивости вида, ведь в конце концов нет в природе двух в точности похожих особей. Следовательно, важной оказывается вся коллекция, собранная вместе с голотипом (некоторые экземпляры этой коллекции называют паратипами — буквально сбоку от типа). В зоологическом отделе хранятся голотипы таких редких видов, что они известны по единственному экземпляру, а именно по тому, который белесо глядит на меня из своей банки. Так что не стоит удивляться их удрученному настроению.
Я надеюсь, что наступят такие времена, когда изображения всех этих экземпляров можно будет найти в Мировой паутине. Предположим, например, что исследователя в Сибумасу интересует, тот ли у него вид бабочки, который был описан сто лет назад заезжим ученым с Запада, или другой. Все, что ему нужно, это подключить свой полевой компьютер к Сети и найти подходящий сайт — и вот перед ним галерея голотипов, все они цветные, как в жизни, и сравнивай со своим экземпляром сколько душе угодно. Тут-то и покажут себя во всей полноте и столетнее хранение в нафталиновых шариках, и самоотверженная преданность кураторов музейным номерам и инвентариям. Только по этим записям мы сможем узнать, кто где живет и в каком количестве. Я думаю, еще очень долго визуальный реестр живого будет нам необходим. Конечно, все существеннее видовой «почерк» ДНК, но он не может заменить волшебную остроту человеческого глаза, способного разглядеть самые неуловимые различия. Мы все равно будем «судить на глазок», потому что это быстрее и практичнее (а также дешевле). В конце концов, именно у нашего вида способность к тонкому различению привела к сверхразвитию мозга и зрения.
В этой великой кампании по инвентаризации природы мне было дозволено в числе немногих называть новые виды трилобитов. Вся процедура описания окаменелостей мало отличается от описания бабочек, хотя голотипы новых видов все же менее хрупкие — многие из них я добыл сам с помощью молотка. Многие ископаемые виды редки, но, возможно, не потому, что они были естественным образом малочисленны, а потому, что их трудно собрать. У них, например, может быть много шипов или слишком тонкий панцирь. За годы работы я описал около 150 новых видов трилобитов, но до сих пор чувствую душевный подъем, если удается открыть «новый для науки» вид. Также случается открыть и новый род. Однажды я едва избежал номенклатурной катастрофы. Я решил назвать симпатичного нового трилобита по имени малоизвестной фригийской нимфы Эноны (Оепопе), которую я выкопал в своих классических источниках. Имя было благозвучным и подходило моим животным. Но в последний момент я обнаружил, что это имя уже присвоено одному червю.
А это полностью против правил, изложенных на всех языках в специальном томе с названием «Правила зоологической номенклатуры». Должен заметить, что из всех усыпляющих книг Правила заслуживают бесспорно первого приза, за исключением, может быть, «Начал латыни» Кеннеди. Правила состоят из целого перечня того, что «вам надлежит» и что «не надлежит» делать при именовании видов. В этом деле, как и при составлении ежегодных бухгалтерских отчетов или железнодорожного расписания, правила необходимы, иначе система наименований будет то и дело спотыкаться[37], но какой это рай для педантов! И один из важнейших параграфов — не давать одинаковое имя двум разным родам. К счастью, у меня оставалась возможность быстро, до опубликования, сменить название на Oenonella — такого нигде не числилось, — так что род стал Oenonella и остается им по сей день.
Когда животному дается имя, запрещается кого бы то ни было обижать, но правила разрешают быть благодарным и называть животных по имени коллег. Два чешских палеонтолога назвали трилобита Forteyops, также есть и Whittingtonia, и Walcottaspis, одним словом, в имени того или иного создания может быть отмечен и человек. Есть такая таксономическая уловка, как греческий суффикс -chisme (звучит по-английски, как kiss me — поцелуй меня), и его можно приставить к имени предполагаемой подружки: Polychisme, Anachisme и т.д. Одного своего трилобита с глабелью в форме песочных часов я назвал monroeae (по фамилии моей знакомой Мерилин), а мой коллега назвал окаменелость с горбом quasimodo. Эти маленькие вольности помогают запомнить названия видов. Правила не разрешают называть виды собственным именем, но можно придумывать шуточные имена, если это никого не оскорбляет. Не слишком красиво, например, называть вид jonesi по имени Джона, если вы собираетесь дальше заявить, что «этот мелкий и невзрачный вид является типичным обитателем навозных куч». Обычно в имени (на греческом или латыни) заключается какая-то информация о конкретном животном: Agnostuspisiformis — агностидный трилобит в форме горошины, Paradoxides oelandicus — парадоксидес с острова Оланд и т.д.
К именуемому присоединяется и именующий. Так, прекраснейший ордовикский трилобит со Шпицбергена (названный, естественно, по имени моей жены) носит корректное научное наименование Parapilekiajacquelinae Fortey, 1980. Это полезная часть имени отсылает исследователя к соответствующей публикации, когда вид со своим названием был впервые установлен: в данном случае в статье, опубликованной Форти в 1980 г. Для видов, описанных более ста лет назад, можно выполнить новое описание (или ревизию), переосмыслив его морфологию и родственные связи. Многие палеонтологи, с которыми я никогда не встречался, тем не менее знают меня в качестве добавки к названиям видов. Я надеюсь, что, если мы все же встретимся, их удивит моя молодость.
Вернемся к розам из Ромео и Джульетты: «Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». Предполагается, что само по себе имя несет не много смысла. Подобную науку физик Эрнест Резерфорд едко прозвал «коллекционированием марок»[38], вполне вероятно, что он держал в уме таксономистов. Но нас такая точка зрения не должна сбить с толку. Хотя звучание научных названий порой забавно, сами названия являются органичной частью интеллектуальной работы. Для некоторых вопросов, которые я разберу дальше, именно четкое разграничение является решающим. Как можно рассуждать о разнообразии жизни, не зная единиц разнообразия (видов, родов и т.п.), которые и вычленяют опытные таксономисты. Как можно рассуждать об эволюции, если не считать виды реальными природными объектами, целостными единицами? Как можно обдумывать древнюю географию жизни, если нет объектов, которые можно было бы уверенно поместить на тот или другой континент, климатическую зону и т.д.? Больше трех риторических вопросов подряд в приличных книгах задавать не принято, поэтому я просто на них отвечу: «Никак нельзя», — и больше разглагольствовать на эту тему не стану. Хотя нет, брошу вдогонку Резерфорду, что милейшее занятие — коллекционирование марок — все же отличается от научной таксономии. Мы можем заглянуть в каталог Стэнли и про каждую марку узнать, когда она выпущена, ее цвет, водяные знаки, перфорации и даже текущую стоимость; эта информация точно и окончательно определяет каждую конкретную марку. А в настоящей науке мы вечно путешествуем к правильному ответу. Здесь к месту придется афоризм Роберта Льюиса Стивенсона: «Лучше ехать, чем доехать». Для науки беспрерывное движение, полное куража и оптимизма, — есть жизнь. Мы никогда не знаем с уверенностью, был ли отдельным биологическим видом тот трилобит, которого я со своим опытом и наблюдательностью выделил в отдельный вид по форме, скажем, пигидия и глабели: все же он жил много миллионов лет назад. Случается, что другой исследователь со мной не соглашается, и мой биологический вид представляется ему простой разновидностью уже известного вида (часто выделенного им самим). И нет окончательного суждения (или судьи) в подобном споре. Как нет и не может быть законченного портрета давно исчезнувшего биологического мира, потому что любая реконструкция хороша только в качестве научного заключения, а это заключение неизменно станет предметом дальнейших уточнений. Вот два примера. Первый: не так давно было открыто, что в прошлом чередовались два типа атмосфер — с высоким и низким содержанием углекислого газа, соответственно им планета становилась либо «зеленой», либо «ледяной». Этот температурный показатель увязывается практически с любым планетарным параметром земной поверхности от типа осадков до солнечного света и, очевидно, влияет на все живые организмы. Второй пример: когда-то считалось, что эволюция рыб стартовала в конце силура, а теперь с новыми находками показано, что примитивные родичи рыб почти с самого начала — в ордовике, если не в кембрии — жили вместе с трилобитами. Значит, мы должны новым взглядом посмотреть на экологию ордовикского мира. Подобные случаи заставляют нас менять представления о прошлом. И хотя стрела времени летит вперед, ничто не мешает нам пересматривать ретроспективу.
В XIX в. почти в каждом крупном городе создавались музеи. Частично вследствие убежденности в их воспитательном, образовательном и этическом значении. А часто как проявление гражданской гордости. И если в средние века богатые торговцы шерстью закладывали церкви, то в индустриальный век их последователи основывали музеи. В Британии музеи повсюду: по местам Гарди — в Дорсете и Лайм-Реджисе, по местам Вордсворта — в Озерном крае и Кесвике; в больших индустриальных городах их, конечно, больше — в Манчестере, Ливерпуле, Бирмингеме, Лидсе. В США в каждом крупном городе на Восточном побережье обязательно есть музей; некоторые из них связаны с именами знаменитых филантропов, таких как Пибоди (Йель) или Карнеги (Питтсбург). Можно найти такие музеи и в Австралии, и в Центральной Европе. И во многих вместе с коллекцией предметов искусства, подобранных по вкусу основателя музея, хранятся коллекции по естественной истории, где также имеются и важные типовые экземпляры. И так как не каждый музей, особенно небольшой, знает, что имеется в его коллекциях, то для исследователя выслеживание конкретного образца иногда превращается в целую эпопею. Мой приятель Адриан Раштон обнаружил в музее в Кесвике несколько образцов, описанных Дж. Постлвэйтом в книге «Шахты и минералы Озерного края» (Mines and Minerals of the Lake District, 1880), выпущенной очень ограниченным тиражом. «Пустая информация», — можно подумать, пока не сообразишь, что трилобиты чрезвычайно редки в Озерном крае и что большинство из них нашел и описал именно мистер Постлвэйт; а если к этому присовокупить, что геологическая история Озерного края реконструируется на основе видов трилобитов…
Создание крупных музеев стало одной из отличительных черт цивилизованности. В периоды культурного упадка сокровищницы знаний опустошаются, вспомнить хотя бы забвение великих достижений ученых греков в Раннем Средневековье. Их спасло только то, что халиф аль-Мамун приказал соорудить в Багдаде музей и библиотеку — так называемый Бэйт аль-Хикма, или Дом мудрости. Дом мудрости был достроен в 883 г. И это не просто скучный склад, это живая связь между классической цивилизацией и Возрождением. Я вижу в сегодняшних музеях естественной истории залог будущих деяний человечества, и не только для самих себя, но и для всех существ, которые вместе с человеком живут на планете. Даже самый загадочный экспонат может оказаться бесценным. Например, коллекция пород собак, сделанная лордом Ротшильдом, теперь хранится в музее в Тринге под Лондоном и напоминает о выставках гончих в XIX в. Возможно, все это преходяще, излишне? Но что если будущей исследователь решит изучить историю домашних животных и понадобятся образцы ДНК старых тканей или другая молекулярная информация? А так можно взять ДНК любого экспоната… потому большие музеи не должны исчезнуть.
Глава 7.
Вопрос жизни и смерти
Трилобиты, как и все остальные животные, эволюционировали. Я не имею в виду, что они изменялись со временем: это само собой разумеется. Трилобиты из нижнего кембрия, скажем Olenellus, разнятся с позднекембрийскими, а те, в свою очередь, совсем не похожи на трилобитов из ордовика, ордовикская братия опять же отличается от той, что находится выше по разрезу — силурийской или девонской. Даже не очень опытный поклонник трилобитов с одного взгляда определит возраст ископаемого, хотя может и не знать, что это в точности за вид. Он будет ориентироваться на некий «экспертный» опыт, на общее впечатление, которое редко обманывает. Очевидно, что трилобиты сменяли друг друга с течением «геологического» времени. Каждый новый вид трилобитов, который мы находим в геологическом обнажении, указывает нам на эволюционное событие, хотя в самой каменной породе данного обнажения никаких указаний на это событие мы не найдем. Эволюцию «в действии» удается проследить довольно редко. Этот прозаичный факт ученые креационистского толка вывернули наизнанку, представив дело так, будто ископаемые не подтверждают эволюцию, но это совсем не одно и то же. В действительности, порядок появления трилобитов согласуется с эволюцией: как мы это видели на примере примечательного, эволюционно продвинутого шизохроального глаза трилобитов: у кембрийских трилобитов признаки более примитивные, чем у ордовикских и других более молодых по геологическому возрасту. На деле довольно трудно уловить самый момент появления нового вида. Когда происходит кража, мы редко застаем вора стоящим посреди обворованной квартиры с тюком награбленного в руках: обычно мы приходим домой и натыкаемся на оставленный вором разгром. То же и с формированием вида — после своего быстрого образования вид довольно долгое время устойчив, так что мы, скорее, столкнемся с этим периодом его истории: здесь сработает обычная статистическая вероятность, которой безразлично, дарвинисты мы или нет. Продолжим метафору из криминального мира: поскольку улики не показывают картину во всей полноте, осудить преступника вряд ли получится.
Поэтому вдвойне ценны те примеры, когда удается наблюдать ход эволюции. Наш с вами род Homo и несколько его видов, родственных современным людям, не самый удачный пример в этом смысле: слишком мало ископаемого материала[39] и слишком много споров. Это нисколько не означает, что мы не ищем новый материал о гоминидах, каждый год появляются сообщения о новых находках, просто история человека не лучший пример для изучения процессов видообразования. Все же находки древнейших людей слишком редки. Напротив, вокруг трилобитов разворачивались самые оживленные споры по поводу эволюционных процессов. Так как трилобиты относительно сложны и многочисленны, они служат превосходным «экспериментальным» материалом, на основе которого можно рассмотреть, как создаются виды. Еще одно членистоногое — фруктовая мушка Drosophih — много лет используется в лабораториях для наблюдений за «генетикой в действии». Классические работы по наследственности выполнены на этой крошечной мушке. Когда потребовалось выяснить роль отдельных генов, в том числе из группы HOX-генов, отвечающих за порядок развития, именно из Drosophila выращивали безнадежных, но бесценных в смысле информации монстров с лишней парой крыльев или с ногами вместо антенн. Но мухи слишком нежны и способны сохраняться в ископаемом виде исключительно в янтаре. Может быть, прочным трилобитам суждено сыграть роль геологической фруктовой мушки.
Хорошо бы нам для наших эволюционных задач отыскать последовательность видов, которые располагались бы один за другим в сходных породах и которые мы могли бы достаточно уверенно выводить один из другого. Нужна еще возможность отобрать побольше образцов из всех слоев — и из более древних, и из более молодых, — чтобы проследить и оценить изменение формы животных во времени, т.е. по мере отложения осадочных слоев. Не в последнюю очередь это требуется, чтобы убедить скептиков, которые вообще сомневаются в реальности эволюции. Причем подойдет лишь такая последовательность осадочных слоев, в которой не будет перерывов в накоплении осадка, так как самый момент превращения одного вида в другой может прийтись именно на такой перерыв. Большинство последовательностей, с которыми мы имеем дело, имеют перерывы, они неполны. Неудивительно, что все выставленные условия выполняются чрезвычайно редко: то одного не хватает, то другого. Наиболее пригодными для исследований оказываются сравнительно молодые по геологическому возрасту породы, которые отлагались на дне глубоководных зон: непрерывный планктонный «дождь», морось из оседающих на дно крошечных ракушек отсчитывали мгновения геологического времени. Значительную долю этих мельчайших ископаемых составляют одноклеточные организмы с известковыми раковинками, они называются фораминиферы; не в последнюю очередь из-за своего обилия фораминиферы составляли наилучшие примеры эволюционных историй. В одном образце породы может быть сотни раковинок. С другой стороны, малый размер означает довольно простое строение — несколько округлых камерок диаметром с миллиметр. К тому же, возможно, в эволюции планктона есть свои особенности, отличные от придонных соседей. Так что трилобиты могут оказаться более подходящей моделью для изучения эволюции морской жизни. И тут сразу же встает проблема: для убедительного исследования нужно собрать достаточно много образцов. Это означает многие часы полевых работ с молотком в руках, даже если ископаемые более или менее обильны. Трилобиты — это вам не фруктовые мушки, их нельзя выводить поколение за поколением, чтобы узнать, что и как изменяется у потомков. Чтобы добыть приличный образец, приходится работать долго и тяжело. Несколько ученых обладали необходимым упорством, выносливостью и терпением. Как мы увидим ниже, трилобитовые примеры привели их к противоположным выводам о происхождении новых видов.
Выражение «прерывистое равновесие» сегодня хорошо известно: я недавно узнал его в уродливом сокращении «пре-рав» у одного австралийского философа. Очень немногие ученые, не говоря уже о более широком круге людей, знают, что сама идея «прерывистого равновесия» основывается на трилобитах. В конце 1960-х гг. молодой американец Нильс Элдридж занимался девонским родом Phacops из Северной Америки. Мы уже встречались с Phacops, обладателем великолепных, сложнейших шизохроальных глаз, в которых каждая линза — малюсенький кальцитовый шарик, отграниченный от соседних узенькой межлинзовой склерой. Число линз сравнительно невелико, их можно посчитать под микроскопом. Эти трилобиты довольно обычны в слоях соответствующего возраста: их можно найти в районе Нью-Йорка, в Айове, Оклахоме и множестве других мест. Они часто встречаются в известняке, такой вид сохранности позволяет рассмотреть самые мельчайшие подробности строения. Несколько ударов молотком в правильном месте — и вот он, Phacops, как будто приговаривает: «Джипер-Крипер, как я гляделки выпер?» Phacops как раз предоставляет тот редкий случай, когда можно разобрать эволюционный переход от одного вида к другому, настолько подробна его палеонтологическая летопись. К чести Нильса, он учуял эту возможность на самых первых этапах своих исследований.
Нильс заметил различия в ансамблях глазных линз у разных видов Phacops. Он посчитал линзы в «дорзовентральных» группах, т.е. число линз в вертикальных рядах от верхней границы глаза до нижней. Давайте обратимся к его собственным наблюдениям, которые он подтвердил при работе над диссертацией. Вот как он описал это в книге «Картины эволюции» (The Pattern of Evolution, 1998):
Вот оно! Вырисовывается еще одна закономерность: на протяжении всего среднего девона у популяций Аппалачского бассейна неизменно оказывается 17 дорзовентральных групп… На Среднем Западе другой сюжет: в течение 2 млн. лет или около того их число 18, и оно оставалось неизменным; в следующие 2 млн. лет число опять же было постоянным, но уже 17, а не 18; в последний отрезок исследуемого времени у трилобитов оказалось 15 дорзовентральных групп… в разрезах Среднего Запада пропущены существенные временные отрезки, и они приходятся как раз на момент перехода с 18 рядов на 17 и с 17 на 15. Моря, в которых… обитали Phacops rana, просто пересыхали в эти интервалы времени…. изменения с 18 на 17 и позже с 17 на 15 обозначили моменты заселения моря Среднего Запада новыми популяциями. Можно предположить, что с уходом моря форма с 18 рядами вымерла, а когда море вернулось, на месте оказалась форма с 17 рядами, она и прижилась в преобразованной морской среде.
Нильс специально сосредоточился на изменениях глаз, потому что, как ему было известно, именно по этому признаку определяются виды данного рода. Если бы он изучал птиц, может быть, он обратил внимание на хвостовое оперение или птичьи песни. Если бы его предметом были моллюски, то в фокусе оказался бы рисунок раковины. Каждое животное утверждает свою индивидуальность, пользуясь своими средствами. По этим уникальным признакам представители одного вида узнают себе подобных.
Исследование девонских Phacops привело Нильса к двум выводам. Во-первых, события, приведшие к образованию нового вида, очень трудно отследить — они всегда случаются «где-то там». Тем не менее если инновация оказывается удачной, то новый вид внедряется и замещает более ранний вид. В некоторых случаях Нильс понимал, откуда взялся новый вид, но промежуточные популяции между старым и новым видом вряд ли нашлись бы. Этот феномен можно сравнить с тем, как Beatles завладели музыкальным миром 1960-х, потом, в 1970-х, оказались вытеснены Bee Gees, а в 1980-х Майклом Джексоном. Так всегда бывает: ранние диски обычно становятся достоянием коллекционеров, а более поздние создают портрет целой культурной эпохи, и их много, как невыигрышных лотерейных билетов. Так и новый вид — он начинает свой путь как небольшая популяция где-то с краю ареала доминантного (на то время) вида; географические барьеры способствуют разобщению видов друг от друга. Но, когда приходит время, новый вид замещает предка и может спокойно наслаждаться собственной славой. Здесь не обошлось без влияния Эрнста Майра, профессора Гарвардского университета. Своими работами он доказал, что, по-видимому, разъединение популяций работает как движитель эволюционных изменений. В изолированной группе прекращается генный обмен с материнской популяцией, и тогда сам процесс отлучения может положить начало новому виду. Эволюция действительно происходит «где-то там».
Второй вывод Нильса заключался в том, что новый вид, раз сформировавшись, длительное время остается неизменным. Мы, может, и не увидим, как вид формировался, но зато со всей обязательностью наблюдаем его расцвет. Подобно вору, который прокрадывается в дом глухой ночью и тайком проделывает свои махинации, так и с видами — мы видим следствия, но не само действие. Виды Phacops нагляднейше демонстрируют это явление: каждый из них быстро возникал, а потом долгое время существовал с минимальными изменениями. Для геолога это означает, вот он, в поле, много-много часов колотит камни, слой за слоем, метр за метром, трилобит за трилобитом, пальцы разбиты в кровь, ноги промокли, тучи комаров зудят и кусают (особенно в районе Нью-Йорка!), а наградой за все это будет возглас: «Ничего не изменилось!» Нелегко это — ох, нелегко! — доказать отсутствие чего-то, в некоторых научных кругах данный прием называют «опровергающим доказательством»; можно подумать — гигантские усилия, и все впустую.
Однако это не верно, потому что такой результат крайне важен. Виды, говорил Нильс, зарождаются аллопатрически, «где-то там». Если один из них успешно внедряется в экосистему, а затем замещает своего предка, то после надолго стабилизируется. Жизнь двигается рывками, скачками; вид существует, пока другой его не заместит, и замена происходит очень быстро. Вкупе эти две идеи — стабильность вида и аллопатрия — и есть основные слагаемые прерывистого равновесия; теперь становится понятен выбор терминов для этого словосочетания. «Равновесие» относится к устойчивой фазе существования вида, а «прерывистое» — к периоду его ускоренной замены. «… но все изменится вдруг в мгновение ока…», как сказано в «Послании к Коринфянам». Новая теория противоречила существующему на то время «градуализму» — гипотезе о медленном и более или менее постепенном перетекании целой популяции из одной формы в другую. Таковой была общепринятая модель эволюции в так называемой современной синтетической теории, которая сложилась в 30-х гг. XX в. Ее принимали с прохладцей, потому появление «прерывистого равновесия» сразу объявили новым словом в теории эволюции. Нильс объединил усилия со Стивом Гулдом и достаточно успешно представил свою модель. «Индекс цитирования» их первой статьи, вышедшей в 1971 г., достиг гигантской отметки — так по числу ссылок у других авторов оценивают степень влияния той или иной работы. «Прерывистый» характер эволюционного процесса с легкостью приобрел оттенок метафоры; исследователи быстро распознали сходство с процессами в других областях науки и культуры, которые совсем не обязательно имели отношение к происхождению видов. Даже нашу человеческую историю можно описать, если извернуться, в терминах «пре-рав»: например, вслед за культурной революцией часто следует период стазиса, стабильности с устойчивой властью. Гиббон в «Упадке и разрушении Римской империи» (Decline and Fall of the Roman Empire) иллюстрирует один за другим исторические сюжеты, повторяющиеся с той же неизбежностью, что и человеческие причуды. В книге «Границы времени» (Time Frames), которая увидела свет через несколько лет после первой эпохальной статьи, Нильс сам рассуждает о феномене прерывистости в истории. История развития нашей планеты изложена, можно сказать, урывками. Переворот во взглядах на эволюцию свалился непосильной ношей на цефалон скромного, хотя и симпатичного трилобита Phacops, перед глазами которого когда-то разворачивалась эволюция. А зрение у них, как мы знаем, было отменное. За прерывистость вскоре отдали свои голоса и другие данные палеонтологической летописи, так что Phacops недолго оставался одиноким бойцом. Сторонники «прерывистости» смогли логично объяснить редкость «промежуточных форм»: креационисты, отрицающие эволюцию, обычно преувеличивали редкость промежуточных форм, говоря, что в ископаемой летописи их вовсе нет. Но выясняется, что как раз наоборот, такие пробелы были непременной закономерностью эволюции. Стив Гулд, убежденный рационалист, применил весь арсенал новых средств для кампании в защиту фактического против мистического, чтобы просветить тех, кто отрицал величественный рассказ об истории Земли в угоду вере в недельный труд Создателя. Phacops склоняли и так и эдак в завязавшихся тяжбах. Какие горячие споры разгорались между приверженцами библейских историй и эволюционистами — настоящий трилобитейский суд!
Нильс был не первым, кто заметил «прерывистый» характер изменений у трилобитов. За 40 лет до него ученый из Грейфсвальдского университета в Германии, Рудольф Кауфман, пришел к похожим выводам, выполнив небольшое исследование позднекембрийских трилобитов из скандинавских квасцовых глин, так называемых сланцев Алюм. Мы уже встречались с оленидами рода Triarthrus; это тот самый, чьи конечности и антенны удалось впервые как следует рассмотреть. Вспомним, что олениды жили в особых условиях — там, где кислорода в придонном слое было мало, а в самом иле его не оставалось вовсе, зато в достатке было соединений серы. Я даже предположил, что олениды культивировали серных бактерий в качестве симбионтов. Примерно 500 млн. лет назад, во времена позднего кембрия, вся южная Скандинавия была залита морем — морем оленидов; вода стояла около 15 млн. лет. Эти 15 млн. лет стали уникальным интервалом, когда без всяких перерывов отлагались темные сланцеватые слои, где теперь во множестве находят трилобитов. Если вы окажетесь в каменоломнях с обнажениями квасцовых глин, разбейте один из пахучих желваков, или, как их называют, «вонючих камней», — они размером с детский мячик, — и вы обнаружите великолепные экземпляры трилобитов. Квасцовые глины Скандинавии — это один из знаменитых примеров «конденсированных отложений», где длинный период геологического времени спрессован в узкую последовательность напластований, которая отлагалась почти без перерывов. Приблизительно так и должно выглядеть идеальное место для эволюционных экспериментов в натуральную величину Кауфман был достаточно искушенным ученым, чтобы это увидеть; он методично собрал ископаемые образцы из каждого отдельного слоя, отметил малейшие их изменения от одного слоя к другому. Нильс со всем основанием отдавал должное этой знаменательной работе 1933 г., и она бы, несомненно, стала широко известна, не будь она опубликована в сборнике Грейфсвальдского университета, доступ к которому весьма ограничен. (Это сильно напоминает историю эпохальных экспериментов по наследственности, которые проводил Грегор Мендель в чешском городе Брно, и как эти записи с трудом пробивали себе дорогу в зону видимости мировой научной общественности. Но сегодня положение еще ухудшилось: ведь теперь на наше внимание претендует в десять раз больше научных журналов.)
Кауфман обнаружил, что на каком-то уровне разреза неожиданно появляются несколько видов Olenus (см. с. 82), а затем постоянно встречаются на протяжении сравнительно большого участка разреза. Он также заметил, что за время своего существования вид не остается неизменным, а немного меняется. Особенно заметны изменения пигидия: со временем он становится длиннее и тоньше. Сходные изменения пигидия происходят у разных видов Olenus. Кауфман ясно показал вселение видов в скандинавское оленидное море «откуда-то еще» и таким образом дал наглядную картину аллопатрии даже раньше, чем эта идея оформилась в признанную концепцию. Более того, Кауфман обосновал свои результаты материалом обширной коллекции и провел количественный анализ. Позже Юан Кларксон отправился в знаменитые шведские карьеры Адрарум, и наблюдения Кауфмана подтвердились. Действительно, Кауфман был выдающимся и прозорливым ученым.
Меня всегда занимала загадка исчезновения Рудольфа Кауфмана после публикации той знаменательной статьи. Обычно научная карьера длится лет 25 или больше (в некоторых случаях кажется, что это слишком долго). Ученые оставляют в наследство свои статьи, книги, их интеллектуальный жизненный путь можно проследить по цепочке «бумажных» следов. Кроме того, научные работники имеют тенденцию цитировать собственные работы, так что биография, так сказать, проступает в библиографии. Для опытного исследователя при наличии хорошей библиотеки такие биографически-библиографические расследования — дело вполне обычное. Но не в случае с Рудольфом Кауфманом: он просто пропал. Только в 1988 г. я узнал, как и почему все произошло. История эта невероятная и трогательная.
Мы бы никогда не узнали, что случилось, не купи однажды Рейнхард Кайзер в 1991 г. на филателистическом аукционе во Франкфурте-на-Майне пачку старых писем и открыток. Он не глядя заплатил 500 марок за всю пачку. Среди всякого другого там нашлись письма Рудольфа к Ингеборге Магнуссон, его шведской возлюбленной. Кайзера так потрясло то, что проступило сквозь строки старых открыток, что он дал себе труд выяснить, кто такой был этот Рудольф Кауфман, и сложил по кусочкам его историю. К сожалению, письма Ингеборги не сохранились. Но она всю жизнь оставалась предана Рудольфу, никогда не вышла замуж и до самой своей смерти в 1972 г. хранила его письма. Они встретились в 1935 г. в Болонье — старинном университетском городе на северо-востоке Италии. Он с первого взгляда влюбился в темноволосую шведскую девушку. Они только однажды встречались после той сказочной поездки в Болонью и больше не виделись до самой его трагической смерти. Из фрагментов переписки складывается повесть, как в чудовищные времена гитлеровской диктатуры Кауфман пытался добраться к ней в спасительную Швецию. Кайзер назвал свой рассказ «Дети королей» (Konigskinder), потому что в одном из писем Кауфман сравнил себя и свою возлюбленную с персонажами народной песни:
- И были они детьми королей, и любили они друг друга,
- Но вода меж ними была глубока,
- не взяться любимым за руки.
Рудольф Кауфман был евреем, хотя и принадлежал к христианской церкви. Его талантливая работа по оленидам была опубликована 30 января 1933 г., через два дня после того, как Гитлер стал канцлером и взял правление в свои руки. Кауфмана уволили с работы в Грейфсвальдском университете практически немедленно. Тем не менее Кауфман продолжал научные изыскания за пределами Германии, и Болонья, где он познакомился с Инге, стала его последним местом работы.
Трилобиты были второй страстью Кауфмана, и он сознавал важность своих трудов. Он пишет Инге, что собирается прислать ей все свои геологические труды, потому что «скоро истинность моего авторства окажется под сомнением», т.е. намекает на то, что Гитлер отрицал интеллектуальные достижения еврейского народа. «Я очень горжусь своими работами по трилобитам. Я готов доказать, что жизненная история этих животных подчинялась определенному развитию. И думаю, известность придет ко мне много позже, когда зоологи и палеонтологи начнут понимать мои труды во всей полноте». Мы до сих пор не оценили его по заслугам.
В разлуке с любимой Кауфман поддался искушению. Его посадили в тюрьму в Кобурге за сексуальную связь с арийской женщиной. На самом деле, он отправился в бордель, где заразился венерической болезнью, а доктор, который его лечил, сдал его полиции. 13 августа 1936 г. он написал Инге: «Я хотел рассказать тебе обо всем в Швеции, но теперь слишком поздно. Я потерял право быть с тобой, постарайся забыть меня, я умоляю. Спасибо тебе за верную чистую любовь, ты была так добра ко мне, а я оказался слаб и теперь расплачиваюсь за это… У меня уже отняли так много: мать, карьеру… Но в этот раз я теряю все из-за собственной глупости и приму любое твое решение».
И хотя Инге с готовностью простила его, за ошибку он дорого заплатил. Когда он вышел из тюрьмы 12 октября 1939 г., военное противостояние уже началось. Если бы его выпустили из тюрьмы шестью неделями раньше, до того как Британия и Франция 3 сентября объявили войну Германии, он успел бы спастись. Нескольким трилобитчикам удалось в это время убежать от фашизма. Среди них Александр Армии Эпик из семьи известных эстонских ученых (его брат был известным астрономом): он перебрался в Австралию; его земляк Валдар Яануссон стал главой трилобитчиков в Скандинавском национальном музее. Их не остановило Балтийское море, как «детей королей». К ноябрю 1939 г. Кауфман приехал в Кёльн. «Разве я один? — пишет он. — Я в обществе моих любимых трилобитов, к которым ты вполне можешь меня ревновать. Недавно я читал Одиссею. Я должен у Одиссея учиться… понять, как он переносил вожделение к Пенелопе, буду впитывать эти строки, будто они написаны для меня». Он оставался оптимистом, несмотря на чудовищное положение, которое любого менее жизнерадостного человека повергло бы в отчаяние. Но постепенно надежды на воссоединение с возлюбленной таяли; к июлю 1940 г. он признался, что у него «больше нет мужества смотреть в будущее». Он сомневался, есть ли у него силы бороться. «Я не могу лгать. Мы были вместе так коротко, и разлука такая длинная, и тревоги прошлого месяца, и каждой минуты, и безнадежность в будущем. Все из-за этого. Будь свободна, свободна как только можешь. Слишком мало надежды, что мы увидимся в обозримом будущем. Было бы лучше, если бы мы не были настолько близки, не мучились бы так, да? Я заключаю тебя в объятия, как тогда, и целую всем сердцем».
К 1941 г. Рудольф Кауфман оказывается в ссылке в Литве, в Каунасе. Балтийское море уже недалеко, но все еще слишком широко и глубоко. Он уже потерял надежду воссоединиться с Инге. Его хладнокровно расстреляли в упор двое охранников, которые случайно его узнали; он стал просто очередной цифрой в самой постыдной статистике XX столетия. Предвестник «прерывистости» пал жертвой одного из самых страшных культурных заблуждений в человеческой истории. Рейнхард Кайзер разыскал фотографии Рудольфа: зачесанные назад черные волосы, правильные приятные черты лица и печать хрестоматийной немецкой серьезности — типичный молодой ученый, и нам очень понятна любовь Ингеборге.
Таким образом, изучение эволюции трилобитов проливает свет не только на происхождение видов, но и, как показало детективное расследование Кайзера, на природу человека со всем прекрасным и ужасным, что в ней есть. Исследовательский энтузиазм Кауфмана и его страсть к познанию истины равнялись его страсти к Ингеборге Магнуссон. Кто знает, как все сложилось, позволь ему судьба следовать сердцу и разуму?
Прерывистое равновесие — не единственная эволюционная закономерность, на которую указали трилобиты. В 1970 г. другой молодой ученый, на этот раз англичанин, вел работу по трилобитам из приграничных областей Уэльса и Англии, недалеко от старинных курортных городков Билт и Лландриндод-Уэлз. Местность там холмистая, лоскуты зеленых полей, на которых пасутся в основном овцы, перемежаются с перелесками и крутыми лощинами, бредущий в тех местах геолог, упакованный в резиновые сапоги и дождевик, нет-нет да и споткнется об упавшие, заросшие мягким мхом сучья, остановится перед перепутанными колючими зарослями ежевики. С пронзительными криками из-под кустов вспархивают куропатки. По берегам ручьев в зарослях папоротника потихоньку занимаются своими делами жабы. Везде ощущается обилие влаги, а растительность такая густая, что листва почти заслоняет свет. Лучше всего здесь работать весной, до того как разрастется жгучая крапива и закроет все камни, прежде чем развернут широкие листья каштаны и орешники. В апреле зацветают колокольчики, купами желтеет чистотел, везде поют скворцы. По берегам ручьев, поросших печеночником — коротеньким ярким мхом, встречаются тяжелые, черные глинистые известняки. Стоит выковырять такой острым концом геологического молотка, расколоть в нужном направлении, и наградой вам будет трилобит. Продвигайтесь выше по ручью, аккуратно собирая образцы из каждого следующего пласта, и вы окажетесь участником повести, которая рассказывает понятным языком о геологически долгих эволюционных изменениях. Участок с последовательными слоями довольно длинный — много десятков метров — гораздо больший по сравнению с конденсированными отложениями, из которых отбирал образцы Рудольф Кауфман в Швеции. В этом есть некое преимущество: если в слое толщиной метр или больше не нашлись ископаемые, то с определенной вероятностью вы попали в относительно «бессобытийное» время (в геологическом масштабе, конечно) и нужно поискать выше или ниже этого слоя. Но, если дело происходит в Швеции, толщина слоев с ископаемыми оказывается решающим фактором эволюционного сюжета: чем толще слой, тем больше ископаемых. Уэльские породы относятся к ордовикскому периоду, т.е. их возраст около 470 млн. лет.
Питер Шелдон потратил годы, собирая коллекцию в этих местах. С упрямством одержимого он месяцами раскалывал камни, педантично комплектуя и помечая образцы трилобитов для последующего анализа. В основном он находил отдельные головы и хвосты, но иногда его упорство вознаграждалось и ему доставался целый экземпляр. Чаще всего ему попадались наши хорошие знакомые, Ogygiocarella из семейства азафидных трилобитов, которые навсегда вошли в историю как первые обнародованные трилобиты — «плоская рыба» доктора Ллуйда из Лландейло в южном Уэльсе. В этих черных сланцах «плоская рыба» ловилась такими косяками, будто собралась ублажать самого Нептуна. Полукруглый хвост с бороздками показывается из расколотого камня; имея некоторый опыт, можно добиться, что и весь он преотлично вылезет из камня: тонкий веер чуть больше крыла бабочки. Всю центральную часть хвоста занимает ось, составленная из множества колец; плоские плевральные части разделены на столько же ребер, ближе к заднему концу хвоста они укорачиваются и становятся менее четкими. Кроме этих трилобитов здесь же встречаются, хотя и реже, трилобиты поменьше, всего несколько сантиметров в длину; их часто находят целыми. Это Cnemidopyge (см. приложение рис. 25) — слепые трилобиты с полукруглой головой и длинным шипом, торчащим вперед из передней части глабели. У них только шесть туловищных сегментов, а треугольный пигидий, так же как и у Ogygiocarella, пересечен глубокими бороздками. Иногда они попадаются в свернутом виде. Встречаются и другие трилобиты: например, близкие родственники «жука Дадли» Calymene или легко узнаваемые, похожие на медальоны, небольшие тринуклеусы.
Всех этих животных собрал неутомимый Питер Шелдон. Он знал эти места лучше любого фермера, владевшего здесь землей. Ему приходилось прослеживать залегание каждого пласта по всей местности, и он исходил вдоль и поперек все ручьи, овраги и распадки. Работа продвигалась очень медленно, особенно учитывая то, что Питер был одним из тех энтузиастов, которые готовы подробно рассказывать о своей работе любому встречному. Дружелюбный, лучащийся молодостью и неистребимым оптимизмом, он много лет преподавал в Открытом университете. Работая над докторской диссертацией, он вечно отправлялся «за еще одной, последней, коллекцией». В мире трилобитчиков все знали, что письменному столу он предпочтет любую экспедицию. Обычно докторскую диссертацию пишут три, максимум четыре года, но Питер, казалось, погрузился в процесс написания диссертации на целую вечность. Он убегал от вопрошающих взглядов университетских старейшин, чтобы снова оказаться в поле, колотить камни и собирать все больше и больше трилобитов. И вот, когда терпение его наставников было на исходе — вот оно! (как сказал бы Нильс Элдридж) — он опубликовал результаты в Nature. И немедленно стал знаменитым.
Питер утверждал, что трилобиты из ордовикских пород вокруг Билт-Уэлз изменялись с течением времени постепенно. Он показал, что эти постепенные изменения свойственны не одному, а нескольким видам трилобитов, распространенных в уэльских глинистых известняках. Самый наглядный пример — увеличение ребер пигидия в среднем с 11 до 14 у Ogygiocarella debuchii, самого крупного и самого часто встречающегося в этих местах трилобита. В XIX столетии один из первых британских специалистов по трилобитам, Джон Солтер, тоже заметил формы с большим числом ребер и назвал их «вариациями angustissima». Это как раз те самые малозаметные различия, по которым трилобитчики определяют виды ископаемых животных. Питеру удалось увидеть плавный переход от debuchii к angustissima. В каждом слое, как показала гигантская коллекция Питера, этот признак варьировал, т.е. в каждом слое сосуществовали представители вида с разным числом ребер. В некоторых случаях даже стороны пигидия отличались по числу ребер. Тем не менее в целом проступала безошибочная тенденция: в среднем в популяции число ребер пигидия увеличивалось с течением геологического времени. Если он рассматривал короткие отрезки времени, то фиксировались даже «обратные» шаги, т.е. на фоне общего увеличения количество ребер ненадолго могло уменьшиться. Процесс перехода от одной формы к другой напоминает скорее неверные шаги мультяшного выпивохи, чем равномерное поступательное движение. Мало того, Питер обнаружил, что Ogygiocarella вовсе не исключительна в этом смысле: в тех же слоях и в тех же последовательных сериях точно так же изменялся и хвост Cnemidopyge.
И другие трилобиты в этих разрезах так или иначе менялись. Все указывало на то, что здесь работал иной механизм видообразования, не тот, который предполагался у Phacops. Даже если считать, что на дне ордовикского моря накопление осадков происходило быстро, все равно каждое из видовых изменений должно было занимать несколько миллионов лет; такой процесс на порядок медленнее аллопатрического видообразования, когда при отмежевании части популяции очень быстро образуется новый вид.
На самом деле довольно трудно придумать настолько медленный механизм видообразования; в конце концов, нужные мутации в популяции у дрозофил экспериментаторы получают всего за несколько поколений. Может быть, это просто был некий «дрейф» признаков без специальных адаптивных функций? Некоторые критики предположили, что видимые различия в пигидиях не являлись эволюционными сдвигами, а лишь отвечали на медленные изменения условий обитания на морском дне. Например, преобразования пигидия могли происходить из-за колебаний уровня кислорода. Обычно, если встречается пример постепенных изменений признака у иного ископаемого животного, это, как правило, планктонное животное. Но в случае Ogygiocarella со товарищи говорить о планктоне не приходится — это бесспорные обитатели дна. Так что данный пример никак не разрешает загадки и сомнения в вопросах видообразования. Но в чем никто не сомневается, так это в надежности выводов Питера, в их очевидном отношении к основополагающим проблемам эволюции: феноменальная тщательность, с которой его исследование было выполнено, не может не восхищать!
А вот еще один сюжет из эволюционных исследований, в котором трилобиты сыграли главную роль: явление гетерохронии. Это греческое слово означает «другое время», и объяснить суть данного феномена совсем нетрудно. Трилобиты вырастали из личинок — так называемых протасписов, формой напоминающих крошечные диски и длиной в миллиметр или меньше. По мере роста они несколько раз линяли, пока не достигали состояния взрослой особи. У ранних личинок сначала появлялась бороздка, своего рода демаркационная линия, разделяющая хвост (протохвост) и голову. Затем один за другим появлялись туловищные сегменты; они, вероятно, отделялись по одному от хвоста во время каждой следующей линьки, пока число их не доходило до «взрослого» числа сегментов. А дальше у большинства трилобитов число сегментов остается постоянным, даже если они решительно увеличиваются в размере: конечное число сегментов трилобит получает, пока он еще маленький. В период взросления, называемый онтогенезом, все части панциря могут так или иначе переформироваться. Для многих видов трилобитов порядок онтогенеза известен, потому трилобиты исключительно полезны, если требуется выяснить связь между индивидуальным и эволюционным развитием, или, как говорят, между онтогенезом и филогенезом.
Несколько лет назад мы с Адрианом Раштоном пришли к заключению, что маленький трилобит Acanthopleurella, у которого всего четыре туловищных сегмента, возможно, является родственником Shumardia (с. 267), у которого их шесть. Acanthopleurella по размеру меньше Shumardia, и мы решили, что Acanthopleurella произошла от предка с шестью сегментами в результате приостановки развития, т.е. животное достигало половозрелости при меньшем числе сегментов, когда еще только четыре сегмента отделились от хвоста. Такая гипотеза объясняет их миниатюрность и наступление зрелости при длине около миллиметра. Нам было особенно отрадно работать с Acanthopleurella и Shumardia, потому что именно на Shumardia сэр Джеймс Стабблфилд изучал онтогенез трилобитов и впервые продемонстрировал, как на переднем фронте хвоста отчеркиваются сегменты, отпочковываются один за другим и, постепенно продвигаясь вперед, организуются в туловище — похоже на растущую очередь, в которой люди пристраиваются в конец и, дойдя до начала, выходят. Мы уверены, что по сравнению с Shumardia у Acanthopleurella два последних сегмента просто не развивались.
Примерно в то же время Кен Макнамара занимался нижнекембрийским трилобитом Olenellus из Шотландии. Вспомните самого примитивного трилобита из нашего парада — существо с многочисленными туловищными сегментами и крошечным пигидием. В суровых, но прекрасных прибрежных районах северо-запада Хайленда, где среди сфагнумных болот и сырых луговин, заселенных немногочисленными шотландцами и многочисленными овцами — те и другие одинаково обветрены, — можно встретить обнажения мягкого желтоватого сланца. Геологам эти места хорошо знакомы: именно с ними связано великое хайлендское противоречие, объяснение которого так занимало геологию середины XIX столетия. Кембрийские сланцы залегают под более древними породами серии Мойн, которые, как было в конце концов доказано, надвинулись поверх кембрийских. Трилобиты безоговорочно указывают на кембрийский возраст сланцев. Как-то холодным, дождливым летом я провел целый полевой сезон неподалеку от городишка Дарнесс на северо-западной оконечности материковой Британии в довольно безуспешных поисках трилобитов. Большая часть экспедиционного времени ушла у меня на просушку шерстяных носков над дрожащим огоньком бутановой горелки. Я представлял, как два геолога, Пич и Хорн, ходили по этим промозглым местам, облазили и обследовали каждый закоулок здешних неприютных ландшафтов, и мое восхищение ими умножалось. С тех пор, как в прошлом (теперь уже в позапрошлом) столетии эти герои бродили по холмам и долинам, составляя геологические карты, мы превратились в совершенных неженок.
Кена Макнамару трилобиты интересовали не из-за своей архаичности. Он понял, что происхождение нескольких видов Olenellus можно непосредственно связать с гетерохронией. Он уже знал, как идет развитие (онтогенез) у самого распространенного вида Olenellus lapworthi, названного в честь великого ученого Чарльза Лапворта, который в свою очередь дал название ордовику. И Кен увидел, что взрослые особи других шотландских видов Olenellus напоминают незрелые стадии О. lapworthi. К примеру, единственная пара шипов головного щита О. lapworthi продолжала вершину щечного угла, т.е. отходила от края более или менее на уровне задней границы глабели. У других видов эта пара шипов сдвигается немного вперед и оказывается напротив той или иной поперечной борозды глабели; получается, что задний край головы изгибается, подтягиваясь к щечным шипам. Именно такая позиция щечных шипов видна на личиночных стадиях у О. lapworthi, а позже у взрослых особей шипы занимают свое обычное положение в углах щек. Похожие изменения заметны и в размере и расположении глаз. Самым занятным оказался маленький трилобит с тремя парами шипов на краю головного щита, и таким он был шипастым, что его немедленно прозвали armatus — «вооруженный»; он настолько не похож на Olenellus, что его вынесли в отдельный род — Olenelloides. Кен Макнамара догадался, что эта необычная тройка шипов очень напоминает «увеличенную» версию самой ранней личинки Olenellus lapworthi. Мало того, это причудливое миниатюрное животное имело девять туловищных сегментов, а не четырнадцать, как у О. lapworthi. И если смотреть под этим углом, то О. armatus будто восклицал: «Я ребенок-акселерат!».
Кен расположил пять видов Olenellus (начиная с lapworthi) в порядке, так сказать, «возвращения в детство», посадив в конце ряда О. armatus. Он считал, что О. lapworthi, возможно, обитал в самых глубоких водах, а О. armatus — на мелководье, а остальные распределялись между ними. И рассудил, что условия теплого мелководья стимулировали раннее созревание. Таким образом, наши пять видов прилежно разошлись по разным экологическим нишам, соответствующим глубине обитания. Вне зависимости от интерпретации привлекает наглядность и живость этого случая гетерохронии, а именно, как межвидовые различия возникают за счет варьирования темпов развития. О. armatus и О. lapworthi выглядят совершенно по-разному — до такой степени, что их поместили в разные роды, но тем не менее между ними есть глубокая связь: они похожи на часы с одинаковым механизмом, но различными циферблатами. Теперь мы знаем множество примеров гетерохронии у животных и растений: оказалось, что сдвиги в онтогенезе служат важнейшим источником инноваций в биологическом мире. Древний Olenelius придал неожиданно новое звучание афоризму Вордсворта: «Кто есть дитя? Отец мужчины»[40].
Если отпрыск способен преждевременно повзрослеть, стать «невзрослым взрослым», то и обратное возможно, когда незрелая стадия у какого-то вида напоминает взрослую стадию предка. Потомок полностью повторяет развитие своего предка плюс еще немножко, плюс что-то новое, чего прежде не было ни в одном из более ранних или более примитивных видов. Речь идет о рекапитуляции, т.е. общеизвестном явлении «повторения филогенеза в онтогенезе», который студенты-биологи заучивали как заклинание. Сейчас это явление тщательно изучено, и его сверхупрощенная версия — мы знаем, например, что человек в своем развитии проходит сначала стадию одноклеточного, потом превращается в рыбку с жабрами, потом в млекопитающего с хвостиком — теперь отправилась в мусорную корзину. Предполагалось, что личинки современных мечехвостов Limulus напоминают моих любимых трилобитов, и это вроде бы указывает на их происхождение от общего предка; но на самом деле сходство возникает скорее из-за упрощенного строения личинок мечехвоста, а не в силу общего родства с трилобитами. Хорошие примеры рекапитуляции среди ископаемых нужно еще поискать. У пелагических трилобитов-пловцов, которых мне довелось изучать, глаза огромные, а у их личинок и незрелых особей глаза, напротив, вполне нормального размера, примерно такого же, как и у предковых видов этих пловцов. В этом случае сроки развития признака сдвинулись, и он убежал вперед и обогнал предка; полезная новая черта гипертрофировалась, разрослась; и то, что начиналось как небольшое усовершенствование, стало непременным атрибутом жизни.
Трилобиты демонстрируют нам основополагающие факты эволюции. Современные эволюционные исследования переместились в область генетики, и были открыты поразительные вещи; но во всех подобных работах как-то потерялось ощущение времени, ощущение реальных событий в реальном пространстве-времени. Биологи-экспериментаторы в лучшем случае имеют дело с промежутком в несколько десятков лет; для палеонтолога миллион лет превращается в «мгновение ока». На примере трилобитов мы видим эволюцию так ясно, так определенно, что становится понятно, ради чего погиб молодой доктор Кауфман. Сдвиги сроков онтогенеза, из-за которых изменяется форма животного, может быть, не то иное как манипуляции генетического кода. Один небрежный щелчок молекулярного пальца — и часы переведены, один из генов переключил часовой механизм, отсчитывающий сроки развития, и вот уже перед нами не один, а целых два трилобита, таких разных — Olenellus lapworthi и О. armatus. Молекулярному биологу нужно будет определить эти самые гены (я ни капельки не сомневаюсь, что где-то они найдутся, даже по прошествии 500 млн. лет), тогда как палеонтолог должен будет описать собственно результат работы этих генов, а также прикинуть, сколько геологического времени и пространства им требуется, чтобы крутануть волшебное колесо творения.
Без смерти нет развития. Я нарисовал картину видосозидания, но не крушения. История трилобитов — это одновременно и история вымирания старого, и история появления нового. Такой «оборот видов» — жизнь после смерти после жизни — естественный процесс эволюционных изменений, и ученые обычно говорят о «фоновой смертности». Те, кто приспособлен лучше, сменяют тех, кто хуже; или виды, аллопатрически зародившиеся на краю ареала, замещают предковую форму, и происходит это, например, из-за того, что климат изменился и больше подошел «захватчикам». Жизнь всегда была делом запутанным, и что в биологии, что в судьбах человеческих никогда точно не знаешь, что стало причиной процветания: то ли удача, то ли добродетели. Может быть, за объективными ответами о причинности и случайности в истории стоит обратиться к трилобитам? Молекулы трилобитов, естественно, утрачены навсегда. Но сами трилобиты были слеплены из молекул, и эти слепки — следы молекулярной жизни — будут храниться в геологической летописи, пока не рассыплется камень.
По большому счету трилобиты не пришлись эволюции по душе: они вымерли, не оставив потомков. Когда современные батискафы исследовали глубины океана, я слабо надеялся, что в каком-нибудь темном уголке все еще обитает одинокий трилобит, и он донесет гордость палеозойских времен до эпохи громогласной рекламы; но надежды мои истаяли. Грустно, что биологам не досталось трилобитовой латимерии, не нашлось такого выжившего реликта, которому восхищенные биологи могли бы задать свои генетические вопросы. Все-таки три сотни миллионов лет…
Без смерти нет и нового. Вымирание или смерть вида — это неотъемлемая часть эволюционных изменений. Если бы не было вымирания, не было бы развития и процветания. Наша собственная история знает периоды, когда новые идеи терялись под гнетом идеологических догм, — периоды выхолощенного застоя, мешавшие новым идеям войти в жизнь. Раннее Средневековье в Западной Европе было самым статичным, самым застойным периодом. Так что сам факт, что одни виды трилобитов пачками заменялись другими на всем протяжении своей длинной истории, говорит только об их исключительной эволюционной активности.
Чтобы понять причины медленного угасания видов, можно воспользоваться теми же приемами — лабораторными и полевыми, что и для исследования появления видов. В периоды биологического расцвета сотни разнообразных родов распространялись по всем возможным ландшафтам морской среды. Если измерять успех группы по количеству и разнообразию участников, то настоящий век трилобитов пришелся на период с середины кембрия до конца ордовика. Тем не менее трилобиты были многочисленны и продуктивны на протяжении всей своей истории: даже в последних слоях, где трилобиты заканчивают свой путь, их находят по нескольку видов сразу. Очень заманчиво было бы представить себе историю трилобитов как быстро нарастающее крещендо, за которым следует медленное, затухающее диминуэндо, которое длится, пока не наступает тишина. Но такая аналогия на самом деле неправомерна. Трилобиты, как и весь остальной природный народец, переживали поочередно биологические успехи и неудачи. Моменты их вымирания совпадали с вымиранием других животных. Это были времена, когда обычные темпы вымирания ускорялись, когда «неудачники» отправлялись за борт, а выжившие распространялись и процветали в последующие эпохи. Некоторые животные, которые появились вместе с трилобитами (хороший пример — моллюски), переживали взлеты и падения вместе со своими членистоногими современниками и в конце концов пережили их всех. Для трилобитов история не обошлась без несчастных случаев со смертельными исходами. По ходу своей остросюжетной истории трилобиты несли большие потери.
Катастрофическое вымирание ближе к позднему кембрию косило трилобитов целыми семействами, вымерли многие из тех, что появились в самом начале эволюционной истории. Лучше изучено другое вымирание, произошедшее около 440 млн. лет назад в конце ордовика, тогда вымерло большинство семейств трилобитов, составлявших лицо прежних фаун. Крошечные, слепые агностиды — эта миниатюрная загадка кембрия — исчезли навсегда. Они продержались 100 млн. лет — задумайтесь о тех нескольких миллионах лет, в течение которых существует наш с вами род, и взвесьте в этом контексте значение слова «успешный». Множество крупных трилобитов, родственных Isotelus и Ogygiocarella, тоже вымерли, а вместе с ними и маленькие тринуклеусы, чьи круглые панцири так часто попадались в ордовикских пластах. На самом деле большинство из тех, кого столь тщательно и подробно изучал Питер Шелдон, вымерли, не оставив наследников. Погибли и большеглазые, свободно плавающие в толще воды пелагические трилобиты, к которым я так привязался и которые после ордовика нигде больше не объявлялись; с тех пор, мне кажется, эту экологическую нишу никакие другие трилобиты так и не заняли. Вымерли олениды, мое любимое семейство трилобитов еще со времен Шпицбергена: они мирно благоденствовали с кембрийских времен, сопротивляясь любым вторжениям в свои оленидные владения. Это был конец живому миру.
Конец ордовика совпал с крупным оледенением, стартовавшим на Южном полюсе — а он тогда приходился на район современной Северной Африки — и к концу ордовика заморозившим почти весь мир. Ледниковые периоды случаются в истории Земли редко и нерегулярно, но всегда имеют серьезные последствия. Самый последний ледниковый период пришелся на плейстоцен, когда жили шерстистые носороги, мамонты и пещерные медведи. Ледниковые периоды оставляют характерные геологические следы, каменные свалы, оставленные отступающими ледниками или отколотыми айсбергами. Все эти камни объединяет некая разнородность в компании: маленькие и большие валуны, галька, камни разного происхождения — все соединены вместе и перемешаны. Лед выступает в роли «перевозчика», и, когда он тает, все, что он насобирал за долгое время, просто падает и остается на месте. Породы ледникового происхождения имеют специфическую комковатую структуру и немного похожи на плохо пропеченный пирог. Такие характерные породы — тиллиты — часто встречаются ближе к концу ордовика; ископаемые из этих отложений носят название Хирнантская фауна. (Hirnantia — это не трилобиты, а брахиоподы; их раковины встречаются на протяжении всего периода оледенения позднего ордовика.) Поразительно, насколько широко распространилась фауна Хирнантия. Только один трилобит, Mucronaspis, прочно обжился в том холодном мире, другие трилобиты встречаются чрезвычайно редко. Его легко узнать по небольшому шипу на конце хвоста. Я собирал их на ветреных склонах холмов северного Уэльса, где древний ледниковый цирк Хирнант подарил название тем самым ракушкам. Я выколачивал Mucronaspis и в южном Таиланде, и пот капал с бровей на щит цефалона. Я находил этого трилобита в коллекциях из сланцев Столовой Горы в Южной Африке. Видел я их в Польше, Норвегии, Китае. Вывод из этого факта очевиден, но от того не менее интересен. Мы имеем дело с холодолюбивым трилобитом.
По мере наползания холодного климата на умеренную зону, а потом и дальше, к самому экватору, он вытеснял своих теплолюбивых современников. Mucronaspis навязал трилобитовому обществу такое однообразие, что невольно вспоминаются времена Мао, заполонившие Китай обязательными синими костюмами. Сегодня нам известно, что примерно в то же время, когда Mucronaspis расселялись по континентальным шельфам, в глубинных морских зонах тоже шло вымирание; с неменьшей силой оно повлияло и на планктонных животных. Возможно, у многих вымерших трилобитов была планктонная личинка, поэтому они столь серьезно пострадали в период массового вымирания. Через это бутылочное горлышко прошли немногие счастливцы. Никогда ведь не знаешь заранее, что спасительными окажутся столь маргинальные свойства: холодолюбивость и донная, а не планктонная личинка. К сожалению, трилобиты не хранили про запас набор генов на черный день. У некоторых случайно оказались качества, которые помогли им пережить кризис. Подобные примеры важно иметь в виду, когда изучаешь природу массовых вымираний. Кто знает, какие уроки вымирания и выживания преподнесут мои любимые животные другому виду, молодому да раннему, называемому человек? И какова причина современного массового вымирания, вымирания не менее жестокого, чем то, которое смело трилобитов в конце ордовика…
Конец ордовика, без сомнения, стал для трилобитов началом конца. Семейства, пережившие ордовик, расселились в изобилии в течение силура — на самом деле, по количеству видов их было почти столько же, сколько и раньше, но происхождение выдавало более ограниченный набор общих предков. Энкринуриды с бородавчатыми головами, Cheirurus с шипастым хвостом украшают многие коллекции; глядя на них, очень соблазнительно поверить, что в возрождающемся мире снова правит изобретательность, подлаживая и так и эдак податливый трилобитовый панцирь. Как раз в это время факопиды со своими умными глазами начали входить в силу. Камни могут быть буквально покрыты ими: силурийское морское дно, как и в прежние эпохи, хрустело бы под ногами. Многие из тех трилобитов протянули до девонских времен, когда в моду вошло все колючее, щетинистое, бородавчатое и пупырчатое. Рядом с этими экстравагантными особами жили вполне обычные граждане, как, например, Proetus, которого легко спутать с обычным трилобитом из кембрия или ордовика. Именно Proetus и его собратья (Gerastos на с. 217) пережили следующий кризис во время позднего девона: между двумя кризисами прошло около 80 млн. лет, и это время трилобиты процветали. В каком-то смысле девонское вымирание более загадочно, чем ордовикское. В тот период произошли одно за другим несколько событий, и во время каждого на континентальный шельф поступали воды с низким содержанием кислорода; в результате погибли коралловые рифы, служившие домом для многих трилобитов. Это как смерть от тысячи булавочных уколов, а не от одного смертельного удара шпагой. Добили трилобитов — и это был «удар милосердия» — события на границе франского и фаменского веков (эти названия относятся к подразделениям шкалы геологического времени), которые приписывают последствиям падения огромного метеорита. Обычно метеорит вспоминают, когда нужно объяснить вымирание динозавров, но динозавровая катастрофа произошла через 180 млн. лет после исчезновения последнего трилобита.
Какой бы ни была причина, но после фран-фаменских событий остались только Proetus со своими соплеменниками, и они продолжали существовать в каменноугольном периоде. Те, кого мы раньше считали десятками, ужались до семейной горстки. И все равно в каменноугольный период образовалось множество новых видов трилобитов. Примерно дважды в год я получаю по пачке статей из Германии с описанием новых каменноугольных видов — поток открытий не иссякает. Боб Оуэне из Уэльского национального музея обнаружил новые формы в хорошо известных слоях ракушника каменноугольного возраста, а уж эти-то места в Ленинских горах исхожены вдоль и поперек. Проетиды расселились по освободившимся экологическим нишам, прежде занятым трилобитами других семейств. Они будто играли ту же экологическую мелодию, что и их предшественники, только на других эволюционных инструментах. Они ушли в глубину, обживали ожившие коралловые рифы. В результате некоторые из этих позднейших трилобитов внешне напоминают своих экологических близнецов из ордовика, силура и девона. Несколько видов даже оказались похожи на Phacops, хотя им и не удалось заполучить великолепные шизохроальные глаза… Какой коварный обман припасла нам природа! Если бы я был настроен несколько более антропоцентрично, то решил бы, что палеонтологические головоломки нарочно отправлены в камень, чтобы испытывать мужество ученых-исследователей. Биологи и палеонтологи только тем и занимаются, что распутывают махинации природы. Повсюду мы видим сходство форм, потому что форму диктуют экологические требования. Животные, ведущие одинаковый образ жизни, напоминают друг друга: есть летучие мыши и птицы, есть черви и змеи. Чтобы раскрыть эволюционную истину, нужно выявить происхождение анатомических структур — то, что называют гомологией. Гомология противопоставляет глубинное соответствие генов и эмбриологического развития лукавым песням сирен о внешнем сходстве. У нас имеется конкретная глабель, и мы должны решить, почему она похожа на глабель другого трилобита — из-за общего происхождения, когда предок обоих трилобитов видоизменил исходное строение, или же сходство это поверхностное, чисто внешнее? А может, морфологические черты связаны только с образом жизни: так, «плоские рыбы», невзирая на плоскую форму, не имеют общего происхождения, а берут начало от разных предков? Может быть, разглядывая Ogygiocarella, Ллуйд ощутил важное сходство, экологическое равенство, но при этом забавно определил биологическое сродство. Может быть, трилобит в душе и был рыбой! В палеонтологии, как и в делах человеческих, истин больше чем одна.
До пермского периода дожило очень немного трилобитов — около двадцати родов. Несмотря на это, местами в породах пермского времени они достаточно обильны. Последние трилобиты исчезли, похоже, незадолго до следующего массового вымирания в конце перми; к тому времени их уже оттеснили на вторые роли в драме морской жизни. Время их славы прошло. Тех, что появляются в финале, в основном находят в тропическом мелководье палеоморей. Может быть, именно потому они оказались слишком уязвимы к климатическим изменениям. Мне обидно, что ни один из этих оставшихся не сумел приспособиться к глубоководным условиям, подобно каким-нибудь их современникам среди брахиопод и моллюсков; может, на глубине трилобиты переждали бы несчастья и катастрофы, постигшие континентальные шельфы. Как бы то ни было, они были частью тех декораций, которых заменили для новой сцены из истории жизни. Я сомневаюсь, что нам известен самый последний, самый-самый последний вид трилобитов, редкий упрямец, оставшийся верным своим палеозойским привычкам, когда предки динозавров уже маршировали по берегам Гондваны. Трилобиты ушли со сцены тихо, без барабанного боя. На память мне приходит произведение Иосифа Гайдна, написанное как тонкий намек, протест против скудной платы музыкантам при дворе Эстерхази. В финальной части «Прощальной симфонии» музыканты покидают зал один за другим, а музыка все звучит и разворачивается. В конце одна последняя скрипка дотягивает мелодию — и только после этого — тишина.
Глава 8.
Возможные миры
Большую часть своего рабочего времени я занимался конструированием мира. Я стаскивал половину Европы в самую середину Атлантики; перегораживал одни морские проливы и открывал другие; разливал моря побольше Средиземного и давал им имена, а потом безжалостно иссушал. От меня требовалось начертить континенты и окружить их морями — в общем, я рисовал географические карты Земли, пригодные к использованию 500 млн. лет назад. Для этого мне понадобились трилобиты. Садясь вместе с утренними попутчиками в 18:21 на электричку обратно в Хенли-на-Темзе, я слышал от них будничный вопрос: «Что сегодня успел?» Порой я отвечал так: «Сегодня сдвинул Африку на 600 км к югу», — и они быстро утыкались в футбольное обозрение. Одной из первых книг, которая открыла мне притягательную мощь научного метода, было собрание очерков величайшего популяризатора-биолога Дж. Холдейна. Книга называлась «Возможные миры» (Possible Worlds), а одна из глав — «Сам себе кролик» — захватывала духом авантюрных экспериментов, столь типичным для великих биологов. С этой книгой мне было не страшно рассуждать о многочисленных загадках природы, а найти разгадку для одной-двух из них я считал благороднейшим делом жизни. Теперь, так уж повернулась судьба, у меня есть право рисовать собственные возможные миры: исчезнувшие, вписанные в воображаемую географию и отспоренные у десятка коллег.
Я грезил рядами вулканических островов, плюющими дымом и лавой, архипелагами, населенными трилобитами и наутилоидами. Я видел, как эти существа задыхаются на разоренном морском дне, одним махом и убитые, и увековеченные. На склонах Уэльских холмов я находил отголоски подобной трагедии: здесь на расколотых твердых породах открываются прослои вулканического пепла, серого, как древесная зола, и в них впечатались тени трилобитов, окаменевшие, кажется, только затем, чтобы мы узнали об их жестокой смерти. Мысленно я наблюдал крушение вулканов и островов, стиснутых необъятными континентальными массами, такими исполинскими, что древний Кракатау показался бы обреченной виноградиной в ореховых щипцах. Это мир ордовика, ничем не напоминающий современный глобус. Там, несомненно, были моря и континенты, но совсем не те, что мы вызубрили со школьных лет. Не той формы, не так сгруппированные и расположенные.
С точки зрения геологии теперешняя география сложилась совсем недавно. В центре Англии, в Херефордском соборе, висит Марра Mundi — карта мира Ричарда Голдинхэма; тусклый внутренний свет предохраняет карту от выцветания, он еще как будто нарочно приглушен, чтобы правильно передать таинственный пергаментный мир конца XIII в. Что за забавные построения на этой карте! Суши гораздо больше, чем морей и океанов, против того, что рисует сейчас привычная меркаторская проекция. В центр мира поставлен Иерусалим. Британские острова разместились где-то с краю. Но город Линкольн нарисован близко к реальности: есть улицы, которые тянутся от собора на холме к реке Уитхэм, на улицах отмечены дома. Так на обложке New Yorker тщательно прорисовывают Манхэттен, а вокруг него приблизительный остальной мир. Вот и Линкольн казался создателям Марра Mundi центром мира, а то, что отдалялось от него, виделось весьма схематично. Путешествовать было трудно, карты составлялись неточно (возможно, Ричарду не хотелось никуда выезжать, подобно некоторым ньюйоркцам, прочно засевшим в Бруклине). На первый взгляд, земли вокруг Средиземного моря кажутся бессмысленным пятном, но, присмотревшись внимательнее, понимаешь — ага, Кипр на месте, и Сицилия узнаваема. В относительно удаленные области карты поселили чудищ и гигантов: в Египет посадили сатиров, около Самарканда разместили киконов — людей с птичьими головами; в Индии объявились единороги и алерионы — птицы, которые в возрасте шестидесяти лет откладывают два яйца, а потом, когда птенцы вылупляются, сразу летят к морю топиться. Более точная картография Возрождения отправила этих мифических созданий к самым пределам мира. А кое-кому они до сих пор чудятся в глубоких озерах Анд или в дебрях Амазонии — в последних неисследованных уголках планеты. Когда я творил географию ордовика, мне тоже пришлось отказаться от собственных драконовых грез — я уплотнял и упаковывал туманные образы, извлекал частицы правды из далекой дымки.
А Марра Mundi пермского времени хорошо известна — тогда все материки съехались в один суперконтинент Пангею. Пангею причисляют теперь к тем научным фактам, которые должен знать каждый образованный человек, вроде тех, что число пи нельзя вычислить с абсолютной точностью или что черная дыра пожирает материю. И если помнить о Пангее, то навязчивое тождество очертаний восточного побережья Южной Америки и запада Африки обретает смысл: оно досталось нам в наследство от расколовшегося единого континента. На месте раскола начал постепенно расширяться океан, он увеличивался по мере добавления океанической коры в районе Срединно-Атлантического хребта. Африка отползала от Южной Америки. И если раньше эта идея казалась возмутительной, то теперь она выглядит практически очевидной — конечно же, Индия оторвалась от Африки (оставив позади кусок в виде Мадагаскара) и наехала на Азию! Азия сморщилась в гигантские складки, которые мы зовем Гималаями. На спутниковых фотографиях край континентальной плиты выглядит так, будто его смяли; можно даже ощутить, как колоссальное давление выдавило наверх Эверест. Из космоса горы выглядят так, будто сделать их проще простого, все равно, что, подвинув, смять складками скатерть на столе. Так же и Альпы: вытянулись через Европу, и этот небрежный тектонический шов напоминает о другом геологическом сюжете, когда кора вспучивалась от движения африканской плиты. Африка двигалась к северу, задевая и перетасовывая по дороге более мелкие плиты Средиземноморья. Пангея раскололась, крепкая спайка континентов разошлась, то был брак, заключенный не на небесах, а как раз, наоборот, на самом фундаменте мира.
Объединение Пангеи совпало с вымиранием трилобитов. Согласно рассуждениям некоторых специалистов массовое вымирание было связано со слиянием континентов, потому что новый, только выкованный суперконтинент диктовал планете такие специфические условия, к которым обычному организму было трудно приспособиться. А мы знаем, что трилобиты уже стали уязвимы. А что было до Пангеи, когда трилобиты еще правили миром? (Я знаю, что поступился научной точностью ради словесной выразительности, но иногда я себе это позволяю, особенно когда есть возможность съязвить по поводу правления динозавров.) Не меньше четверти века назад ученые поняли, что Пангея — всего лишь эпизод в истории континентов. Тектоника плит началась не с раскола Пангеи, мы же не думаем, что она закончилась извержением вулкана на Малых Антильских островах. Континенты движутся по поверхности, направляемые внутренним мотором планеты, а он заводится конвекционными токами глубинного тепла. Представьте пленку на поверхности горячего варева — это будут континентальные плиты наверху планетного вещества, кипящего в безостановочном течении, древнем, как сама Земля. До Пангеи были и другие миры, другие очертания на карте мира. Сама Пангея собралась из более древних континентов, но это был не более чем краткий эпизод объединения, а до него и после него раздробленные куски суши разделялись надолго морями и океанами. Древние континентальные массы в результате тектонической эволюции были сшиты вместе, подобно безумно скроенному лоскутному одеялу. Материал для древних материков использовался все время один и тот же, даже сегодняшние Африка, Северная Америка (Лаврентия), Сибирь или Балтийский щит представляют собой до-кембрийскую континентальную кору. Но только нарезан он был иначе, чем на сегодняшних атласах. Ведь природа не обязана была строить ордовикский мир из знакомой нам современной аппликации. Когда-то ранние материки разделялись океанами, но мало-помалу, по мере сближения материков в единую Пангею, океаны закрывались. Океаническая кора съедалась за счет субдукции — процесса, в ходе которого плита погружается вниз, поддвигаясь под соседнюю, в результате субдукционного движения получаются глубокие океанические впадины; подобный процесс происходит в сегодняшнем мире у берегов Японских островов, такой же точно механизм действовал и в палеозое. В ордовике существовали, по всей видимости, вулканические архипелаги, похожие на вулканы в Индонезии, столь вспыльчиво демонстрирующие тектоническое разрушение континентальной коры. Вокруг этих архипелагов отлагались породы с остатками трилобитов, ставших вещественным доказательством ордовикских бурных событий в море — извержений пара и раскаленных клубов вулканического пепла. Но если ордовикские океаны исчезли, схлопнулись, то откуда нам знать, что они вообще когда-то были? Если они просто стерлись без следа, то для нас сегодняшних они стали невидимы. На самом деле все древние океаны оставляют на поверхности планеты свою памятную роспись. Да, мы знаем, что разъединенные некогда материковые плиты наезжали друг на друга и поднимали ввысь горные цепи, как в свое время подплывшая к Азии Индия смяла и выдавила кверху Гималайские хребты. Древние горные массивы пересекают современные континенты подобно старым шрамам. По линиям этих старых ран можно отследить берега бывших океанов. Старые горные цепи за десятки миллионов лет стираются эрозией, они гораздо ниже сравнительно молодых Альп или Анд. Разглядывая любую физическую карту Азии, нельзя не заметить Урала, горной цепи, тянущейся от Новой Земли (там, где герой моей норвежской саги Олаф Холтедал описывал древние геологические свиты и структуры и заслужил себе славу) на юг до Каспийского моря. Уральские горы смотрятся как рубец, но это именно рубец и есть: горная цепь отмечает шов между Балтийской и Сибирской плитой. В ордовике эти две плиты находились далеко друг от друга: съехались они потом, в другие эпохи, когда океаническая кора между ними полностью погрузилась за счет субдукции в мантийные глубины. И произошло это задолго до образования единой Пангеи. О древних океанах говорят фантомы вымерших вулканов, которые были связаны с субдукцией, или они узнаются по особым, легко изменчивым лабильным минералам или же по скоплению медных руд. Такие легко просачиваются наверх из расплавленного нутра Земли, когда океан умирает. Границы очень старых континентальных плит не так легко обнаружить, особенно если они покрыты более молодыми наслоениями. И вот, чтобы отправиться далеко-далеко в прошлое, увидеть эти исчезнувшие океаны, ученым нужно сначала найти эти затертые швы и вытащить их из каменных архивов. И чем дальше прошлое, тем более неопределенными становятся наши реконструкции, и мы все больше напоминаем Ричарда Голдинхэма. Так что мои попутчики из электрички в Хенли-на-Темзе могли бы с полным правом спросить: «Африку, говорите, сдвинули на 600 км? А почему не на 900? Или на 2000?» Но у нас нет подходящего инструмента, чтобы разглядеть хорошенько ордовикский мир, мы просто пытаемся сложить головоломку, глядя на нее через подзорную трубу с другого конца, с уменьшающего, так что сотня-другая километров бесследно стирается миллионолетней амнезией.
Поэтому забудем о географии, выученной и знакомой, и станем думать о возможных мирах. И для этого у нас есть неплохое подспорье. Некоторые типы пород содержат магнитные минералы. Земля «подобна огромному магниту» — писал в своем труде «О магните» (De Magnete) 1600 г. Уильям Гилберт, придворный лекарь королевы Елизаветы I Английской, и с этого труда началось изучение земного магнетизма с темных тяжелых железных руд, взятых Гилбертом за основу. Между магнитными полюсами планеты течет магнитное поле, оно похоже на силовые линии, которые складываются железными опилками, помещенными на лист бумаги между двумя магнитными палочками. Соответственно, подвешенная магнитная стрелка неизбежно развернется, указав на магнитные полюса планеты. В природе широко распространен магнетит — обычнейший земной минерал; его зерна можно встретить в песчаниках, он рассеян в породе, как кунжутные семечки в печенье. Когда изготавливается природой геологическая порода или застывает изверженная лава, магнитные минералы, если они там присутствуют, намагничиваются; при этом намагничивание обретает свойства магнитного поля, какое существует в момент застывания изверженных лав. И это намагничивание остается — получается своеобразное ископаемое магнитного поля планеты, — оно никуда не исчезает и не меняет направления, даже если плита с этими намагниченными породами повернется и отодвинется далеко от места рождения намагниченного слоя, главное, чтобы камень снова не расплавился. Несложными расчетами углов намагничивания образца определяем положение магнитных полюсов в момент рождения минерала — застывшее в минерале магнитное поле как будто указывает пальцем на древние полюса Земли, ничто не может точнее выдать их положения. Однако таким способом определяется лишь древняя широта (или, как ее называют, палеоширота), но не долгота, для долготы магнитный метод работает много хуже, поэтому совсем точное местоположение древнего континента определить не удается. Тем не менее с палеомагнитными данными на руках уже можно прекрасно начать выстраивать географию ископаемых времен: коллеги называют палеомагнитчиков «палеомагами», и в этом прозвище лишь самая чуточка ехидства. Чем дальше в прошлое, тем больше трудностей: так получается, что, углубившись в трилобитовые эпохи, большинство указаний на палеополюса становятся ненадежными, породы перемагничиваются из-за наложения последующих геологических сюжетов или магнитный сигнал искажается. В результате возникают конфликты между палеомагнитчиками и палеонтологами, и каждый защищает свой географический вариант. Временами дискуссия решается шумными перебранками. Палеомагнитчики громогласно настаивают на том, что только их наука дает твердую основу, а однажды мне довелось слышать от одного горе-магнитчика, что один наш палеополюс стоит тысячи ваших ископаемых. Подозреваю, этот ученый стал бы утверждать, что один физик стоит дюжины палеонтологов, — вот какой невежа! А ведь ископаемыми успешно пользуются именно для реконструкции исчезнувших миров, и здесь сложились давние традиции, имеющие превосходную репутацию. Все же ископаемые послужили ключевым доводом в пользу Пангеи, и было это еще до того, как физики приняли идею объединенного континента. Как получилось, что и флоры, и фауны пермского возраста на юге Африки, в Южной Америке и Индии так похожи? Только потому, что когда-то они составляли одно целое. И про трилобитов можно рассуждать точно так же и по ним картировать древние континенты. Они обживали мелководья внутренних морей ордовикской Северной Америки, они изобиловали в морях, омывающих прямые берега Гондваны (см. с. 231), они копошились в илистом грунте на морском дне будущей Швеции и Эстонии. Наши политические границы трилобитам были нипочем, их останавливали только географические барьеры, непроходимые на их, трилобитовый, лад. В тех мелководных морях на трилобитов оказывал влияние климат и окружающий ландшафт, теперь, в современности, то же самое — тропические организмы не похожи на жителей умеренных широт. Морские существа чувствительны к температуре, и большинство из них придирчиво выбирают, что и где они станут есть. Хищник нацелится на определенную жертву, выбрав ее с особенным тщанием, как ценитель вин, углядевший среди обычных бутылок «Шато Лафит». Некоторые предпочитают каменистые обиталища, другим больше по нраву песок — в него удобно закапываться, третьи выбирают липкую черную грязь. Одним словом, у морских животных есть сродство к месту, и трилобиты не исключение.
Когда ордовикские континенты распределились по океанам, на каждом континентальном шельфе отдельно от других существовали и развивались своеобразные трилобиты, особенно четко они различались на разных широтах. Каждый континент получил в результате свой набор характерных обитателей, и среди этих обитателей было множество трилобитов. Нанесите на карту трилобитов — и получите карту континентов. С подсказкой по палеомагнитным данным теперь можно гораздо точнее определить широту, к условиям которой был приспособлен конкретный набор трилобитов. Ну и, конечно, на разных широтах слагаются разные типы пород и минералов. И если находится такой закономерный набор пород, то гипотеза о палеоширотах и окружающих донных ландшафтах получит неплохое подкрепление. Так, известняки осаждаются под тропическим солнцем и служат хорошим опознавательным знаком тропической зоны. Часто они накапливаются мощными слоями из затвердевших карбонатных илов, называемых арагонитом. Сегодня такие нужно еще хорошенько поискать — пожалуй, только на Багамах найдутся аналоги. Выбивать ископаемых из тропических известняков совсем непросто, это занятие кого угодно приведет в отчаяние: молоток безнадежно отскакивает от неподатливой поверхности. Набравшись немного опыта, уже находишь малейшие признаки присутствия трилобитов — там кусочек хвоста виднеется, а здесь обломочек щеки. А когда нужно отбить от скалы кусок породы с ценнейшим экземпляром, выколачиваешь камень миллиметр за миллиметром и проклинаешь природу, которая устроила трилобитовый панцирь и известняк из одного материала, кальцита. Я потерял два ногтя в такой вот схватке с известняком. Но зато в известняке трилобиты сохраняются лучше всего — если, конечно, удается их оттуда вытащить. С другой стороны древнего мира, у полюсов, известняков не было. Там накапливаются сланцы, и трилобитов из сланцев добыть сравнительно легко, но они редко оказываются столь же прекрасны, как в известняках. Таким образом, чтобы нарисовать картину трилобитового мира, у нас имеются типы осадочных пород, наборы характерных видов и есть магнитные полюса.
Представьте себя участником экспедиции инопланетных геологов, посетивших Землю через 200 млн. лет после того, как усилиями человечества планета стала безжизненной, континенты оголились, примерно как в ордовике. Но континентальные плиты продолжают свои перемещения, их движущие силы человечеству неподвластны. Теперь Австралия раскололась на три больших куска, как некогда распалась Пангея. Каждый кусок отправился своим маршрутом: один, например, к Африке, другой — к Антарктиде, а третий к Азии. И как пришельцу восстановить изначальный облик материка антиподов? Сначала придется определить единообразие геологических блоков на трех кусках. Потом коллекции окаменелостей (фоссилий) покажут тесные связи между фауной всех трех кусков — найдутся кенгуру, вомбаты, опоссумы, коалы и целый ряд других сумчатых, которые будут только там и больше нигде в мире. Объединенные на одной территории, они обретут семейный дом (здесь буквально лучше сказать — подклассный дом, ведь сумчатые — это подкласс млекопитающих).
И если тектонические события не затерли бы контуры материка, то можно было бы, как пазл, сложить три гипотетических фрагмента, чтобы краешки стыковались друг с другом.
И с трилобитами так же: мы словно прибыли из будущего, и перед нами загадочный мир. Можно возразить, что с Австралией и сумчатыми проще, потому что они живут на суше и, следовательно, по ним легче реконструировать материк, чем по животным, плавающим в морях и океанах. Это, безусловно, так. Но в ордовике моря были не похожи на современные, они обширно разливались по материкам, занимая гораздо большие площади, чем сейчас. И те мелководные моря были настоящим эволюционным котлом, в котором изготавливались аборигенные виды (их еще называют эндемичными, распространенными только в одном месте). Если бы Австралию сейчас со всеми ее пустынями и бесконечными кустарниками покрыло море, это как раз и было бы то древнее мелководье. Я собирал трилобитов в самом сердце Австралии, так далеко от обжитого края моря, что даже динго безбоязненно подходили поглазеть на меня. И в ордовике эти места были так же отдалены от края континента, как и теперь, — моря растекались необычайно свободно по континентальным платформам. Динго рассматривали меня с любопытством, а я с не меньшим любопытством рассматривал своих трилобитов, чудесных и невиданных: мы с трилобитами были чужаками в этом мире, хотя каждый на свой манер. С моего удобного наблюдательного пункта на невысоком всхолмии мне была далеко видна вся равнина, там на славу поработала эрозия, будто претворяя слова библейского Исайи: «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими». Я без труда представлял себе, как на этих пустынных землях плещется море, и море я наполнил жизнью, поселив там трилобитов. В тех же породах найдены и самые древние рыбы (из тех, что известны современной науке) — тоже чужаки в этом мире. Некоторые местные трилобиты разительно отличаются от своих соплеменников, как кенгуру от других млекопитающих.
Теперь я попытаюсь нарисовать атлас ордовика, мою собственную Марра Mundi, возрастом 470 млн. лет (см. с. 231). Некоторые куски суши выглядят знакомо. Вот Лаврентия, ее очертания схожи с Северной Америкой и Гренландией, расположенных рядышком и в те давние времена. Но Лаврентия лежит на боку: экватор обнимает ее вдоль, а не поперек. Необычны (с точки зрения сегодняшней географии) и ее восточные области. Там пристроился западный кусочек Британских островов. Трилобиты с северо-запада Шотландии и запада Ирландии оказались такими же, как из Ньюфаундленда и Гренландии. А известняки с острова Скай (того самого, куда бежал Красавчик принц Чарли[41]), осевшие под жарким древним тропическим солнцем, мало отличаются от известняков штата Нью-Йорк. С другой стороны, только западная часть Ньюфаундленда сравнима с Шотландией и Ирландией; со стороны канадского побережья на Северном полуострове, торчащем в море радостным перстом, находятся трилобиты, свидетельствующие о близости с Невадой и Оклахомой.
В XIX в. новатор-палеонтолог Элкана Биллингс нашел и назвал множество ископаемых. Его трилобиты Bathyurellus и Petigurus из семейства Bathyuridae так же обычны для ордовикских слоев Лаврентии, как кенгуру для Австралии. Если они нашлись среди ископаемых, то наверняка вы стоите на древней Лаврентии. Так вот, на Ньюфаундленде они найдены только в западной части острова, а их современники из восточной части — совершенно другие. Шов, образовавшийся на месте древнего океана (его называют океан Япетус), проходит как раз между двумя сторонами острова. В раннем ордовике восточная и западная части острова находились друг от друга так же далеко, как сейчас Бразилия и Нигерия. А трилобиты Bathyuridae распространяются далеко к северу, до самой Шотландии и Гренландии. Шпицберген, мои геологические ясли, тоже был частью Лаврентии. Трилобиты Канадской Арктики, и на острове Элсмир, и на Аляске, и в западной Канаде, и во всей западной части США до великого бассейна Юты, Невады и Айдахо, и в Техасе, Оклахоме, до запада Аппалачей и штата Нью-Йорк, где вездесущий Чарльз Дулитл Уолкотт впервые описал трилобита Bathyurus, — везде и всюду одинаковы. Трудами дюжин палеонтологов Лаврентию изобразили на карте, выверяя ее безошибочными автографами трилобитов. Когда я через много лет после поездки по Ньюфаундленду приехал в Неваду, то под ароматной сенью колорадской сосны нашел тех же трилобитов, что и в Арктике, где на меня, невоспитанного, громко ругались полярные крачки, потревоженные бесцеремонным вторжением к их гнездовью. Это замечательное сходство доказывает, что в ордовике экватор проходил скорее вдоль североамериканской плиты, чем поперек, не так, как в сегодняшней географии. (Нужно признаться, что для иллюстрации положения древних континентов это самый простой пример.)
На другом конце климатического диапазона находится западная Гондвана. Это название означает «земля гондов[42]», и оно сыграло знаменательную роль в понимании Пангеи. Великий геолог Эдвард Зюсс использовал его, чтобы показать соответствие геологической специфики Южной Америки, Индии и Африки (а теперь, как мы знаем, и Антарктиды). Во время пермского периода они объединялись в единый континентальный массив, а затем разошлись по частям. Но Гондвана существовала и до пермских времен: у нее было свое, планетарное «коллективное бессознательное». Спаянные воедино во время позднего докембрия плиты фундамента Гондваны лишь вдвое моложе самой Земли. Неподатливые, неизменные, упорные, они пережили десятки планетных катаклизмов, искореживших широчайшие области земной коры. В учебниках, на которых я вырос, такие древние стабильные блоки называются щитами (например, Канадский щит), и мне думается, что это вполне подходящее название, потому что щит предназначен для защиты от нападения, должен помогать сопротивляться; и действительно по смыслу получается щит, только в масштабе планеты. В ордовике западная окраина Гондваны располагалась близко к Южному полюсу, а сам Южный полюс находился где-то в районе Северной Африки. Почти все южное полушарие — половину мира — занимал гигантский континент, такой огромный, что простирался от Южного полюса до экватора, проходившего через Австралию. Никакой из современных континентов не сравним с тем, ордовикским. Географию Гондваны выверяют по особому набору трилобитов, и они отличаются от Bathyuridae в Лаврентии.
Третий континент известен как Балтика. На современной карте Балтика объединяет Норвегию, Швецию и прибалтийские страны — Литву, Латвию, Эстонию. К востоку Балтика простиралась до Уральских гор. Вспомним, что Урал отмечает край древнего континента, шов, который закалился в столкновении с Сибирью, когда из этой сшибки с Балтикой складывалась Азия. Но в ордовике Сибирь еще представляла собой отдельную плиту — все континентальные швы распущены, все застежки пока что расстегнуты. В 1975 г. вместе со шведским наставником по имени Торстейн Чернвик я изучал ордовикские пласты Балтики. Чернвик провел меня через серию небольших известняковых карьеров на юге Швеции, где слои залегали горизонтально и без всяких деформаций — ничто не тревожило эти породы в течение 450 млн. лет, пока не пришел туда я со своим молотком. Примечательным в этих карьерах было то, как спрессовалось в них геологическое время. В Уэльсе я привык к сотням метров темных глинистых пород, представляющих один-два миллиона лет накопления осадков. В Швеции половина всего ордовика — около 30 млн. лет — уместилась в один карьер. Целое подразделение ордовикской хронологической шкалы оказалось не толще печенья: говоря на нашем жаргоне, этот разрез оказался конденсированным (осадок накапливался очень медленно). Но все же трилобитов там было предостаточно, и они опять же отличались от тех, что я собирал на Ньюфаундленде. В породах во множестве попадались хвосты, похожие внешне на Ogygiocarella, но не родственные им; они принадлежали трилобитам Megistaspis. И ни намека на батиурид! Во время той моей поездки по Швеции Чернвику было уже не меньше 80. Он отлично говорил по-английски оборотами и идиомами из романов Пэлема Гренвила Вудхауза, поэтому его речь звучала очаровательным анахронизмом. Когда находился особенно красивый экземпляр Megistaspis, он восклицал: «Наипрелестнейше, дружище!», — а если он хотел донести до меня какую-то информацию, то говорил: «Вы позволите шепнуть вам словечко-другое?»[43] А в конце дня я неизменно слышал от него: «Доброй ночи, старина». Все, что я видел, свидетельствовало о том, что Балтика была отдельным континентом. При этом и сами типы пород, и трилобиты, а потом еще и палеомагнитные данные отправляли этот континент в умеренные широты, где-то между Лаврентией и Гондваной. Что же до трилобитов, они оказались совершенно бесподобными.
Конечно, к ним прилагаются длиннющие списки имен и местонахождений, но запомнить их невозможно, и только гениальные психи способны держать в голове такие собрания бесполезных подробностей. Кому какое дело, на какой день недели попадало 29 февраля в високосные годы за последнюю сотню лет? Вот и перепись трилобитовых названий столь же занудная. Но, если набраться терпения и сравнить списки трилобитов из десятка местонахождений, получится материал для картирования трилобитовых комплексов. А из этого, в свою очередь, проступает карта границ древних континентов. Трудно вообразить более полезную информацию: сегодня какие-то списки, а завтра они преображаются в целый мир! Поэтому я решил не уклоняться от списков — назову по очереди всех трилобитов, которых можно найти только в западной Гондване, обитателей приполярных морей раннего ордовика: Neseuretus, Zeliszkella, Ormathops, Ogyginus, Colpocoryphe, Calymenella, Selenopeltis, Pradoella, Placoparia, Merlinia… Любители классических скороговорок могут тренироваться, сколько пожелают, а я могу и дальше тренировать их навыки. Каждый из этих трилобитов своеобразен, а все вместе они представляют портрет половины экосистемы. И еще они обеспечили мне научную карьеру, потому я перечисляю их особенно уважительно.
Англия, Уэльс и восточная часть Ньюфаундленда вместе составляли Авалонию, в чьем имени заключена толика романтизма времен короля Артура, а на самом деле оно берет начало от полуострова Авалон на Ньюфаундленде. Судя по характеру пород, восточный Ньюфаундленд и Уэльс некогда составляли единое целое в противовес западному и восточному Ньюфаундленду, которых в ордовике разделял океан Япетус. Авалонию называют микроконтинентом, у него собственный маршрут дрейфа, независимый от путей больших континентов — Гондваны и Лаврентии. Может быть, в данном случае аллюзии с историями короля Артура не так уж и неуместны: Авалония с географическим безрассудством отстаивала собственную независимость, и вся ее история — это сага о прощаниях и столкновениях. В 1980-х гг. ученые спорили о положении Авалонии по отношению к Гондване. Вместе с моим приятелем Робином Коксом, специалистом по брахиоподам, мы предположили, что в раннем ордовике Авалония была, по всей вероятности, близка к Гондване. В подтверждение я привел список гондванских трилобитов, которых нашел в Уэльсе и Шропшире: Neseuretus, Calymenella, Ormathops, Colpocoryphe, Ogyginus, Placopaha, Merlinia. С таким списком общих трилобитов где еще могла находиться Авалония? И при этом не нашлось ни одного общего вида с Балтикой — ни одного трилобита и ни одной брахиоподы, так что мы заключили, что Авалония была отделена морем от умеренных вод Балтики. В 1982 г. мы назвали его морем Торнквиста. (Торнквист — знаменитый геолог, работавший в тех местах.) Вот как запросто мы даем названия исчезнувшим морям и океанам. Позже в течение ордовика Авалония пропутешествовала через все море Торнквиста и встретилась с Балтикой, об этом мы судим по изменениям в составе трилобитовых комплексов. Признаться, я испытывал мимолетные приступы мании величия, перемещая по планете взмахом божественной руки куски суши с живущими на них миллионами людей.
Но палеомагнитные данные сажали Авалонию гораздо ближе к Балтике, рядом с экватором, смещая ее на тысячи километров относительно гипотетической «трилобитовой» позиции, — и возник конфликт. Как обычно бывает в таких случаях, молниеносно разгорелся научный спор. И, конечно, нам в один голос твердили, что палеомагнитные данные стоят тысяч трилобитов. Но мы в ответ парировали, что, мол, если Балтика и Авалония находились так близко, то почему же их трилобиты так разнятся, а тем временем трилобиты из Франции, Испании, Северной Африки так похожи на авалонских? Для нас это была проверка на прочность: «соглашательская» наука против науки «принципиальной», мягкая наука против жесткой, ископаемые против техники! В конце концов, ископаемые победили! Слава Мерлинии! Так как Merlinia носила имя Мерлина, колдуна короля Артура, то судьба Авалонии решилась силами, может, и не совсем научными. Потом было доказано, что в палеомагнитные построения вкралась неточность и последняя версия палеомагнитных реконструкций вполне соответствовала трилобитовым данным. И сегодня на всех палеокартах ордовика красуется море Торнквиста. Оно преодолело ту таинственную грань, что проходит между гипотезой и принятым фактом. Трилобиты восторжествовали. Но века сменялись веками, и Авалония потихоньку пододвигалась к Балтике, а море Торнквиста съеживалось, уносимое субдукцией в глубины мантии; зато позади Авалонии на его месте открывалось новое море. В этом вся суть континентального дрейфа: что он породит, то и порушит.
С восточной стороны исполинской Гондваны находилась Австралия — и что было с ней? Западная часть Квинсленда и прилегающих Северных Территорий были залиты обширным ордовикским морем. Когда мы с Джоном Шерголдом отправились в эти глухие области, о местных ископаемых почти ничего не было известно. Пейзаж в тех местах выглядел как-то особенно безжизненно. То тут, то там посреди полупустыни торчали безрассудные эвкалипты, рядом с водоводами, оживляемыми ветряками, пробавлялись несколько коров. Водоводы часто пересыхали или вода в них портилась. Мощеных дорог не было вовсе. Дороги из городка Боулия ведут в никуда: они бегут к равнинам, где отполированный ветром и песком камень притворяется дорогой, делая ее практически неразличимой. Там легко потеряться, и я большую часть путешествия вылезал и бродил по округе в поисках сломанной ветки или какого-то следа от проехавшего в прошлом сезоне вездехода. Еще приходилось помнить о парадемансии — самой ядовитой на свете змее, обитающей, как назло, именно в тех местах. Ее яда хватает, чтобы одним махом убить сотню лабораторных мышей. Понятно, что в условиях пустыни приходится становиться изощренным хищником с узкими пищевыми предпочтениями, но зачем такая возмутительная смертоносность? Змеи же не охотятся на кенгуру! Перед нами, безусловно, буквальный пример избыточной ударной мощности. Солнце жарит зверски, но вот оно милостиво скрылось за горизонтом и наступили те полчаса, когда можно присесть, открыть банку с пивом, пока на огне жарится мясо, и тогда в голову приходит мысль: какая удача, что мне, счастливейшему из ученых, довелось здесь работать. Годы студенческой нищеты и следующие за ними стесненные годы аспирантуры на подхвате у старших коллег вдруг кажутся не напрасными. «Все когда-нибудь окупается», — говорите вы себе с некоторым сомнением. А потом становится холодно.
Только однажды мой энтузиазм относительно пустынь немного приутих, и вот как это произошло. В округе рассеяны бары, их совсем мало, и все они жалкие и сугубо функциональные: простая барная стойка, деревянный пол, ночлежка в задних комнатах. Работяги месяцами копят свою зарплату, намереваясь отправиться в Брисбен и пожить красиво. Но часто добираются лишь до первого бара. И там их денежки утекают: они сидят у стойки — или, скорее, стоят, — пока не пропьют все до копейки. Ясно, что через одну-две недели пьяного дурмана в них закипает агрессия: в осоловелом прищуренном взгляде плещется тяжелая алкогольная тоска. Они превращаются в скотину, жаждущую драки. Пойти туда со своим английским акцентом — это как раз то, что нужно. «Англичашки чертовы — не выношу!» — цедят они сквозь зубы, сжимая кулаки. Просто Дикий Запад, реликтовый остров посреди острова-континента. За обиды, мнимые или настоящие, там расплачиваются тумаками. Для такого труса, как я, все это представлялось кошмаром. После первой встречи с подобным пьянчугой я несколько часов тренировал примитивный среднеевропейский акцент, чтобы больше не привлекать к себе внимания. Все же им трудновато выразить настолько же однобокое отношение к уроженцу Валахии.
Австралийские трилобиты ордовикских тропиков снова оказались ни на кого не похожи. Отделенные широкой полосой от побережий западной Гондваны и океаном от Лаврентии, они пошли своим эволюционным путем. У этих необычных животных весь головной щит был покрыт бугорками, и внешне они походили на известного нам девонского Phacops, но при более тщательной инспекции у них обнаруживаются родственные связи с Ogygiocarella доктора Ллуйда и с Asaphus (мы теперь называем его Norasaphus). Здесь мы видим изящный пример, как в сходных условиях формируются сходные по внешним признакам трилобиты: так разные актеры наряжаются в один и тот же костюм, чтобы сыграть одну и ту же роль. Это явление носит название гомеоморфии. Живые примеры гомеоморфии мы могли наблюдать там же, где выколачивали трилобитов из мягкого песчаника: они, эти примеры, дремали, пережидая жару, в зарослях колючего спинифекса вокруг нас. Это были сумчатые мыши: они похожи на обычных мышей и внешне и по образу жизни, но все же они сумчатые, такие же, как коала и кенгуру Природа — мастерица на такие обманы. Один из таких, возрастом больше 400 млн. лет, мы с Шерголдом раскусили, сидя на ордовикских камнях в австралийском захолустье.
Было бы нечестно объявлять трилобитов единственными строителями карты ордовикского мира, хотя в решении некоторых спорных вопросов они сыграли ключевую роль. Должен признать, мне немного жаль, что игры с вырезанными из картона кусочками континентов ушли в прошлое. Теперь информацию такой сложности обрабатывают компьютеры: они суммируют данные из многих источников — тут и палеомагнетизм, и трилобиты, и осадки, и все другое. Компьютер решает все трудности с масштабами и проекциями, непременно возникающие при подготовке осмысленных результатов: одно нажатие кнопки — и мир поворачивается другим боком. Компьютер представит вам меркаторскую проекцию ордовикского мира, где Гондвана чудно распласталась внизу карты (в силу того же эффекта Гренландия на многих современных картах выглядит треугольной). Можно понять, какой же была Гондвана, если посмотреть на нее в такой проекции, где полюс посажен в центр карты. Для компьютера это рутинное дело. Но какая бы задача ни решалась, всегда трудно преобразить сферу в плоскость, и еще хуже, если очертания континентов нам не знакомы. Кроме того, компьютерные реконструкции хороши только тогда, когда в них заложена качественная первичная информация; как говорится, что посеешь, то и пожнешь, и эта поговорка приложима к данному случаю не меньше, чем к сельскому хозяйству. Машины, как мы знаем, городят одну на другую прискорбные нестыковки, обрекая тем самым континенты никогда не прийти к согласию. В этой главе я описал мир, каким он был в течение нескольких десятков миллионов лет из всей 300-миллионной истории трилобитов. Я изобразил практически моментальный снимок времени, даже скорее тонкий ломтик времени, но все равно застывший момент в текучей истории изменчивого мира, в которой континенты никогда не прекращают своих медлительных блужданий по планете. Через 45 млн. лет, в силуре, совсем исчез, поглощенный субдукцией, океан Япетус, отделявший Балтику и Авалонию от Лаврентии. А вот Каледониды — древняя горная система, которая протянулась от Аппалачей до Шотландии и породила гористые фьорды Норвегии; они образовались, когда происходило это великое континентальное объединение, столь же драматичное, как и то, что через 250 млн. лет вздыбило к небу Альпы. И тогда трилобиты, жившие до той поры розно, сошлись в единый комплекс. Фауны изменялись в согласии с географией.
Когда через сотни миллионов лет начал открываться Атлантический океан, т.е. Пангея стала раскалываться, линии скола прошли, хотя и весьма приблизительно, по тому самому древнему каледонскому стыку, который образовался еще в девоне. Но в результате фрагменты ранних континентов оказались далеко от своей ордовикской прописки: сейчас северная Шотландия отделена от Лаврентии Атлантическим океаном, а ведь тогда они составляли одно целое; зато две половины Ньюфаундленда, в ордовике разделенные океаном, теперь слились в единый остров. Пусть закрылся океан Япетус, но на его месте появился другой пролив — Герцинское море; оно тянулось от Центральной Европы дальше к востоку. В начале книги уже встречалось это умершее море. На одном из его берегов обитал воображаемый трилобит Гарди, а искореженные скалы и величественные граниты Корнуолла остались его последним потрепанным наследием. Планета, как неспокойный разум, все бередит старые раны. Может, через десятки миллионов лет — кто знает? — Азия снова отколется от Урала? А там, на руинах прежнего дома — кто знает? — объявятся новые животные. Чтобы описать всю «континентальную» повесть, которую пережили трилобиты, пришлось бы взяться за новую книгу. Триста миллионов лет прошло от основания кембрия до конца эпохи трилобитов. За это долгое время мир преобразился дважды. И с каждым географическим переделом мои подопечные должны были подстроиться и приноровиться к новому климату и морскому режиму, иногда все вместе, а иногда по отдельности. Нельзя сказать, что все научные споры закончились, не всегда понятно, где находился в позднем ордовике или силуре иной кусок суши. Не бывает окончательной Марра Mundi: всегда можно устроить мир по-другому. Но устраивать его следует, учитывая партнерство географии и эволюции — они неизменно танцуют в паре, щека к щеке, а трилобиты нам говорят, как менялся рисунок этого великого танца.
И вот теперь-то мы можем воспроизвести мир трилобитов. Наконец нам показались те моря, которые трилобиты видели своими хрустальными глазами. Стало понятно, что вдруг узнал бы несчастный герой Гарди, пожелай трилобит передать ему частицу своей памяти в тот отчаянный момент на корнуоллской скале, мгновенная вспышка — и сброшен темный покров времен. В ордовике трилобиты населили всю планету: они благоденствовали в жарких тропиках, где кораллы строили свои рифовые бастионы; они обживали ледяные приполярные моря, где жестокие штормы и лавины беспрепятственно разрушали голые, еще лишенные растительности донные ландшафты, покрывая их толстым одеялом осадка и превращая в кладбище трилобитов, чтобы они через миллионы лет открылись под нашими молотками и рассказали свои секреты. Перед нами простирается океанская ширь — пустая и безжизненная. Тогда немногие трилобиты пускались в плавание через океанские глубины, разве что пара-другая лупоглазых видов отважно пересекала экватор, подобно современным тунцам, привыкшим к океанским просторам. К каждому древнему континенту были приписаны свои трилобиты, они миллионными стаями роились на мелководьях. Моря глубоко вдавались в континентальные равнины, и на этом продуктивном мелководье кипела жизнь, трилобиты благоразумно рассредоточились по своим экологическим специальностям — какими бы экзотическими ни были те условия, все равно эти специальности или, как их называют, экологические ниши, знакомы нам по современным морям. (В пресных водах не поселился ни один трилобит, если бы это произошло, возможно, трилобиты бы и не вымерли полностью.) Были среди них опасные гиганты размером с кастрюлю, например Isotelus, которые охотились на своих мелких соседей, а те, завидев врага, скорее прятались или сворачивались в непробиваемый шарик. Некоторые из гигантов подгребали добычу мощными конечностями, резали ее на куски и крошили об острую вилку на заднем краю гипостомы. Другие могли просто проглотить свою незадачливую добычу не жуя, целиком отправив ее в вместительный желудок под раздутой глабелью (Crotalocephalus, рис. 19 в приложении). Phacops дорастал до размеров приличного краба, и, чтобы высмотреть в сумеречном освещении свой обед, он использовал острое зрение. И не было среди них примитивных заурядных илоедов, все как один ладно и точно сконструированы для охоты. Здесь и маскировка, и притворство, и защита: иные трилобиты свернутся в твердый колючий шар и становятся аппетитны, как напильник. Другие сажали на панцирь мелких животных, мшанок или гидроидов — что может быть лучше для конспирации на палеозойском дне. А были и такие, которые зарывались полностью в мягкий грунт и только глаза выставляли наружу, днем наблюдали из-под безопасного покрывала, а ночью вылезали на промысел в водорослевый сад. Обитатели зоны приливов обзаводились толстым панцирем, сновали по краю моря, определяя антеннами химические сигналы — запахи пищи или врага, глаза настороже, улавливают малейшее движение. Они видели то, что нам знать не дано: всех тех мелких созданий, не оставивших на память о себе ископаемых слепков, или водорослевых спор, канувших бесследно в вечность. До нас доходят далеко не все подробности истории. Там, где в донном осадке скапливалась органика, обитали илоеды. Эти малявки, такие, например, как кембрийская EIrathia (с. 279), безостановочно перерывали осадок в поисках съедобных кусочков, вспахивая и перемешивая донный грунт; они одновременно и сборщики, и уборщики. Иногда от их ножек оставались следы — косички бороздок с черточками от щетинок, ограниченные с боков канавками, оставленными щечными шипами. Обычно оставленные на песке следы скоро размываются, утренний прилив беспощаден к памяткам прошедшего дня. Но если пропечатанный след в нужный момент присыплется тонкой мутью или песком, то мгновение застынет, каменная летопись запечатлеет улетающий миг, танец времени случайно оставит свой росчерк. Среди любителей ила были и такие, которые жили под поверхностью осадка, такие своеобразные трилобитовые кроты. В современных морях тысячи видов ведут подобный образ жизни. Эта была пехота трилобитовой армии, их люмпен-пролетариат, они трудились дни напролет в грязи на дне, чтобы добыть себе пропитание на короткую жизнь. У трилобитов этой породы гипостома крепилась к дублюре не жестко, она оставалась сравнительно подвижной — так проще было черпать малоаппетитную слякоть. Внешне они все походили друг на друга: от кембрия до карбона все как один были маленькими и компактными, со щечными шипами и небольшими глабелями, в туловище и хвосте сегментов насчитывалось совсем мало, парные ножки работали на сортировке — нужно было в наслоениях глинистой мути отделить зерна от плевел. Они все могли, всюду выстояли, они, как бравый солдат Швейк, выживали тогда, когда другие, более видные и импозантные, занимающие более высокие уровни пищевой цепи, полностью вымерли, не пережив событий на рубежах ордовика или девона. У нас имеются находки нескольких экземпляров с «покусами» на одной из сторон — значит, какие-то хищники считали их неплохим десертом. Их опыт приводит меня к выводу, что лучше счастливо ковыряться в земле и выжить, чем погибнуть в одночасье.
Жили в тех морях и фильтраторы. Обычно они не дорастали до размеров илоедов, но голова у них, как правило, раздувалась и сильно выступала над туловищем, так что под головным щитом получалась поместительная камера. Мы видим — на параде трилобитов выступили вперед Cnemidopyge с шипом на голове, словно с турнирной пикой, а за ним Trinucleus, у которого впереди головы оборка с двойным ситом. Ножками он подгребает осадок к камере под головным щитом и затем профильтровывает мелкую взвесь через дырочки в своем «чепце»: все, что годится в пищу, отсортировывается и отправляется в рот. Будто из тарелки с бульоном вылавливать вермишелинки. Немного они могли, те флегматичные метельщики, — только коротко переползти на слабых ножках к другому пятну, чтобы пополнить свой тощий паек. На щечных шипах, как на полозьях, они могли отдохнуть. Многие из них были слепы, как будто их тихий мир не беспокоили хищники. Но если вдруг их испугать, они молниеносно подворачивали хвост и туловище под выпуклый головной щит, прятали нежное брюшко подальше от хищного взгляда, пока не минует опасность.
Хищники, илоеды, фильтраторы могли сожительствовать, составляя единое сообщество. А теперь вообразите — постарайтесь! — покрытые водой континенты, уходящие краями все дальше и дальше в океан, и эти места населяют серии различных трилобитовых сообществ, распределенных соответственно глубинам. Глубина постепенно увеличивается, меняются условия, и на каждом участке подводного ландшафта занимаются своим делом трилобиты — охотятся, объедают падаль, роются в иле, а если осадок достаточно тонкий, то взмучивают его и фильтруют. На больших глубинах, где кислорода сравнительно мало, доминируют такие специалисты, как Tharthrus (они описаны в главе 3), которым выпадают крайности: то размножиться в изобилии, то погибнуть всей массой от замора. Надо дном, как живые горошинки, роятся маленькие агностиды. В том темном мире глаза становятся бесполезны. Это царство слепых, которым обоняние и осязание заменили зрение, это темный мир прикосновений и тончайших химических сигналов. Каждую древнюю платформу опоясывает, спускаясь в глубину, континентальный шельф — а как же иначе! — и разные трилобиты со своими экологическими способностями располагаются закономерно, ряд за рядом, по глубине шельфа. И тогда начинаешь понимать, почему трилобиты столь разнообразны, почему их видов так много. Они подразделяются по местам обитания на сотни экологических ниш, да еще и по географии, именно так им удалось заслужить звание «Жуки палеозоя». Если бы нам удалось очутиться в лодке посреди ордовикского моря, мы бы ощутили ту же соль на губах, то же солнце ярко блестело бы в брызгах воды, а шторм перекатывал бы волны, перемешивая морские воды. На горизонте так же дымился бы вулкан, свидетельствуя о невидимом, бесконечно медленном, но неумолимом движении тектонических плит. Нам, верно, будет не хватать крикливых причитаний чаек или серебристых отблесков рыбьих стаек в глубине. Но если мы бросим вниз на дно трал, то вытащим его полный трилобитов. Там будет и чудище, огромное, как обеденная тарелка, оно попытается сбежать, продираясь к отверстию трала, бедняжка, ничего не видит, ослепло от яркого солнечного света; но большая часть улова — это мелочь, не больше жука, лежат кучей, а те, что перевернулись на спинку, шевелят беспомощно ножками, вытащенные из своего водяного дома. На дне сети собрались кругляши, все равно что небольшие шарики: приглядевшись, замечаешь — неужели Bumastus? — свернулись покрепче, растревоженные. На суше эта защитная поза не слишком им помогает, но стоит бросить их обратно в воду, как шарик упадет на дно, трилобит развернется и поспешит прочь, целый и невредимый. Даже в илистом месиве, которое вывалили в лодку из трала, полно трилобитов, некоторые не больше божьей коровки. Эти крошки, наверное, из всех самые маленькие. Из водорослей, зацепившихся за трал, мы выпутаем фантастически шипастое создание, притаившееся среди водорослевой гущи, — это одонтоплевридный трилобит. «Ой, больно!» — один из нас зачем-то тронул его пальцем и укололся. А кроме трилобитов кто попался в наш улов? Есть животные, которых мы, кажется, знаем. Это несколько улиток с закрученными ракушками, с десяток мелких ракушек другой формы. Найдутся существа, похожие на креветок, также будут и мшанки (колониальные животные, часто образующие наросты на водорослях), ракушки брахиопод, включая и ту, что можно и сегодня увидеть у берегов Новой Зеландии. Так что не все нам чужие среди тех далеких созданий. Пороемся еще в илистой гуще и наверняка найдем червяков разных мастей — будут и полихеты, и сипункулиды, а если вдруг у нас случится с собой микроскоп, то среди илистых частиц мы увидим красивые раковинки одноклеточных фораминифер, и, конечно, там будут бактерии[44], которые с древнейших докембрийских времен занимаются переработкой морских отбросов. Ордовикский мир был удивительной смесью известного и загадочного. Мы, рыбаки из будущего, сгрудившись в великом волнении над сетью, пытаемся опознать знакомых и радостно приветствуем незнакомцев. Трилобиты как раз на полпути от знакомых к незнакомцам — ни то ни се — с одной стороны, это определенно членистоногие, с другой — какие-то непонятные, особенные. Теперь направим лодку подальше от берега, в открытое море, бросим трал там, где поглубже, и снова вытащим сеть, полную чудес, с копошащимися трилобитами, но уже с другими — среди них мало попалось из прошлого улова. В море ведь много разного.
В живом мире все составлено из множества кусочков, и все слаженно двигается в великом танце жизни. Мельчайший организм выполняет свою роль в экономике природы, занимает свое место. Природа может напридумывать сколько угодно видов, но каждый вид должен сразу встроиться в общую систему взаимосвязей. Трилобиты должны увязать свою трилобитовую правду со всем остальным миром. Вспомним, что Эдвард Уилсон обосновал необходимость объединения и взаимодополнения знаний, научных и культурных: он назвал это взаимосоответствием. Что же, хоть трилобитовая история и не так масштабна, как весь мир, но все же принцип взаимосоответствия исполняется: списки видов и родов сводятся с движением тектонических плит и геомагнетизмом, и все вместе рисуют портрет исчезнувшей Земли. Красоту науки мы узнаем не только в абстрактной чистоте математических теорем, которую снова и снова воспевают в историях о великих практиках, таких как Эйнштейн, Нэш, Гейзенберг, или о прославленных теоретиках алгебры и геометрии. Слов нет — взыскательные упрощения формул привели к блестящему триумфу научного знания. Но синтез может быть не менее важен, чем анализ. Нас привлекают фундаментальные уравнения, потому что позволяют надеяться, что есть какая-то базовая истина, из которой выводится все остальное — даже наш суматошный и непоправимо сложный мир. Следуя строка за строкой по трилобитовой саге, мы, напротив, видим плодотворное слияние разных научных направлений, что-то вроде Пангеи, но только не континентов, а областей знания. Или можно вместо этого представлять себе сходящиеся дорожки, приводящие персонажей разных мастей в одну судьбоносную точку — так на корнуоллской вершине сошлись герои романа Гарди; так эхо трилобитов встречается с эхом исчезнувших океанов, их звучание передано нам искореженными пластами сланца. И к ним присоединяется отзвук моих собственных исканий, описанных в этой главе. Мы изучаем прошлое, в котором трилобиты были не только свидетелями, но и ответчиками. По их свидетельствам мы пытаемся реконструировать далекие события и возможные миры. Но потом воссозданный щедрым воображением мир помогает узнать больше о них самих — о трилобитах. Могу предложить поэтический образ для воссоздания того мира — я в этом не вижу ничего плохого. Все в рамках взаимосоответствия, всякое размышление добавит свою толику в достоверное описание мира. И вспоминаются две строки из Тома Ганна (Волшебный корень, 1971):
- Птица, моль, акула, крокодил, блоха, свинья —
- Как много разного во мне зверья[45].
Глава 9.
Время
Все мы сражаемся со временем. Мы тешим себя иллюзиями, что мы хозяева своего времени, хотя на деле время, отмеренное смертью, властвует над нами. Мы говорим «преждевременная смерть», «дать время», как будто наше существование должно волшебно приладиться к какому-то определенному отрезку времени, подобно серфингисту, поймавшему волну и удерживающему равновесие на стремительно несущемся гребне. Мои дети начинают вопросы словами: «А в твое время…?» — подразумевая, что мое время в каком-то смысле уже прошло. И если это случилось вчера, то как же так, почему я этого не заметил? У палеонтолога больше причин задумываться о времени: о его размерах, протяженности, последствиях. Время научились измерять атомными вибрациями, точность измерений высочайшая, для современных технологий именно такая сейчас необходима. Доля наносекунды не имеет смысла в масштабе нашей жизни или относительно ритма биологической жизни вообще, зато становится решающей, когда дело идет о химических изменениях, влияющих на реакции нейрона в мозгу. Наши мысли — это вспышки вдохновения, а вспышка есть синоним быстротечности. Тем не менее самая естественная для нас единица измерения биологического времени — это сутки. Скарлет О'Хара говорит в конце «Унесенных ветром»: «Я подумаю об этом завтра!» — и мы не воспринимаем это как клише, потому что в нас заложен оптимизм уверенности, что завтрашнее утро наступит. От свидетелей в суде ожидают рассказа об определенном дне; даже генеральный прокурор не может потребовать, чтобы свидетель вспоминал что-то по секундам. У великого аргентинского писателя X. Л. Борхеса есть короткий рассказ «Фунес, чудо памяти»[46], про несчастного человека, который помнил абсолютно все — вместе со всеми сложнейшими взаимосвязями причин и следствий, и власть над временем в результате его парализовала. Мы способны функционировать благодаря выборочной амнезии. Это не освобождает нас (особенно ученых) от обязанности говорить правду, от обещания, которое, как мы скоро увидим, столько раз было нарушено даже трилобитчиками. Добравшись до этой страницы, читатель воспримет слова «сто миллионов лет» либо с беспечным равнодушием, либо обескураженно. Росчерком пера я уничтожал континенты, скидывал со счетов десятки миллионов лет. Кембрий — 540 млн. лет назад, девон продолжался 50 млн. лет. Можно подумать, что такая гигантская шкала относится только ко времени трилобитов; чем дальше вглубь веков, тем меньше точность — плюс-минус миллион не имеет значения. С точки зрения трилобитов существование человечества на Земле продолжается меньше, чем длина жизни любого их вида. Все это верно, но тем не менее верно и то, что мы можем разглядеть один отдельно взятый день из жизни трилобита, перехитрить великий телескоп времени, который растворяет незначительные события в дымке древности. Поверхность осадков может сохранить будничный день трилобитов как страницу ежедневника из истории палеозойской эры. Если этот день был захоронен достаточно быстро, мы вполне способны его восстановить.
Я уже описывал, как трилобиты сворачиваются в шарик — моментальная ответная реакция на угрозу, остановленный момент, окаменевшая паника — капсула со временем. Затем я описал, как трилобиты растут и взрослеют — они линяют. Их пустые раковинки указывают момент, когда трилобит сбрасывает старые доспехи и начинает наращивать новые. Иногда эти старые доспехи отбрасываются с небрежностью подростка, чья одежда валяется по всей спальне. В каких-то случаях, наоборот, видно, что трилобит, когда линяет, аккуратно следует определенной стратегии: совершенно понятно, что в этот момент животное особо уязвимо и должно соблюдать предельную осторожность. Линял-то не только панцирь: даже тончайшие волоски на ножках меняли покрытие. На безопасных участках морского дна надолго оставались лежать сброшенные покровы, они рассказывают нам, сегодняшним, о тревогах и волнениях линьки. Представьте себе, что вы выбираете какие-то короткие отрывки из рассказа о целой жизни, которая сама по себе есть часть еще большего повествования о долговечном виде, а это повествование есть всего лишь крошечный эпизод в эпопее о геологическом времени. Каким драгоценным оказывается тот живой момент, выхваченный из далекой древности!
Линьке предшествовала фаза, когда специальный гормон размягчал брюшной покров, кутикулу (см. приложение рис. 30), затем ослаблялись швы на голове. В определенный момент, часто закрепившись в грунте щечными шипами и используя их как рычаги, трилобиты отделяли подвижные щеки от головы, одновременно сбрасывая и гипостому. Так как у большинства трилобитов поверхность глаза прикреплялась к подвижной щеке, то эта особо нежная часть освобождалась от отслуживших покровов роговицы на ранней стадии линьки. У примитивных трилобитов роговица линяла отдельно благодаря шву вокруг всего глаза. Но вот подвижные щеки сброшены, впереди открылось отверстие, и трилобит мог вылезти через него из своего наружного скелета, оставив позади туловище и часть головного щита, кранидий, как памятку о приключении под названием «линька».
Похоже, процесс линьки протекал зачастую не так гладко, как я описал: бывает, что туловище мы находим отделенным от пигидия, а бывает, трилобит вылезал с кранидием, не пожелавшим расставаться с хозяином, как мокрый старомодный купальный костюм, облегавший тело так капитально, что из него не выпутаться. Бывало и так, что трилобит начинал линять, изворачивая голову и пытаясь соскоблить кранидий обо что-нибудь; при таком извращенном способе щеки оставались по бокам, а между ними вывернутый кранидий, а позади туловище с пигидием, в правильной позиции. У трилобитов, подобных Phacops, у которых исчезли головные швы, порой головной панцирь целиком остается лежать вывернутым наизнанку, или даже трилобит линял «вверх тормашками», с хвоста. Наблюдателю покажется, будто ему демонстрируют акробатические этюды. Некоторые трилобиты, подобно многим другим членистоногим, спаривались на стадии «мягкого панциря, что, понятно, придавало моменту особую пикантность. Сколько же гормонов в этот момент должно было окружать трилобита в воде палеозойского моря: и гормоны линьки, и феромоны, и сперматогены. У нас есть несколько примеров «мягко-панцирных» трилобитов, которые погибли до того, как оболочка успела затвердеть. В их облике есть что-то от привидений: истонченные, зыбкие контуры прежних, реальных Phacops. Наверное, многие из них пытались на это время спрятаться в укромном месте; мой коллега Брайан Чаттертон рассказывал о норе в девонском осадке (прорытой, скорее всего, каким-то другим животным), где уйма трилобитов пережидали, пока не затвердеет новая оболочка. Нора оказалась в результате могилой, а не убежищем: короткая трагедия смерти обеспечила им длинную жизнь в виде ископаемых.
В главе 7, когда я рассказывал об эволюционных механизмах, я коротко описал ход индивидуального роста трилобитов. Отрезок жизни от рождения до смерти определяет наименьшее деление на шкале времени. Удивительно, сколько мы знаем о «личной жизни» трилобитов! Вот трилобит полинял — сбросил старый тесный наружный скелет и вырастил новый, попросторнее, — и мы можем проследить ретроспективный путь взросления трилобита, отбирая сброшенные панцири все меньшего и меньшего размера. Для этого нам нужно отыскать такое место, где все трилобиты разом превратились бы в камень, старые и молодые вперемежку. И такое место нашел величайший исследователь трилобитов Иоахим Барранд (1799-1883) — это знаменитое местонахождение в Богемии носит забавное название «под грушей»[47]. На территории Чехии находятся чрезвычайно богатые обнажения палеозойских пород, и Барранд стал их первым биографом. В отделе редких книг в лондонском Музее естественной истории счастливчику, допущенному в святая святых, откроются целые полки, заставленные томами, каждый размером с телефонный справочник: плоды трудов целой жизни Барранда — это трактат «Силурийская система Богемии» (Systeme Silurien de la Boheme)[48]. Студенты-трилобитчики только что не молятся на эту работу. Какое удовольствие разглядывать страница за страницей великолепные иллюстрации этой книги! (Барранд нанимал самых лучших рисовальщиков.) И можно представить изумление современников Барранда при виде чудесных картинок (одна из иллюстраций приведена в приложении на рис. 32). Я сомневаюсь, что современная фотография смогла бы достичь того же эффекта. Барранд не ограничивался трилобитами; он описывал моллюсков, кораллы и многих других ископаемых. Тем не менее трилобитам он уделил особое внимание, начав изучать и зарисовывать их в 1852 г., когда обнаружил исключительно богатые местонахождения и собирал там коллекции. К концу XIX столетия каждому специалисту были знакомы местонахождения Шарка и Кралув Двар. Один из фешенебельных пражских районов называется Баррандов, там вы можете пропустить кружечку в Трилобитовом баре. На самом деле весь этот чудесный город «глубоко трилобитовый». Сам Барранд начал свою трилобитовую карьеру случайно. Во время воскресной прогулки около одного из костелов (Zlichov Church) он нашел два хвоста трилобита Odontochile rugosa. Принес находки домой, но его домоправительница Бабинка[49] их выбросила (мы-то знаем, что женщины поступали так во все времена). Иоахим заставил ее найти и принести назад выброшенные пигидии, так и произошло его «пострижение» в палеонтологию. Эти два исторических экземпляра прописаны вместе с остальной коллекцией в залах Национального музея — огромного здания с колоннами, величаво взирающего на Вацлавскую площадь в Праге. К ним относятся с трепетом, будто это святые мощи. Ученому посетителю поднесут их, каждый по отдельности, безукоризненно надписанные рукой великого человека. На девонской скале в Праге в честь Барранда установили гигантскую памятную доску — это произошло всего через год после его смерти.
В одной из книг Барранда описаны трилобиты Paradoxides davidis, которых мы сегодня поместили бы в средний кембрий и которых я в начале своей палеонтологической жизни находил в Уэльских холмах Сент-Дэвидса. В Богемии Барранд нашел полные возрастные серии этих трилобитов — от личинки до взрослой особи, окаменевший детский сад со всеми группами. Так как взрослый трилобит часто дорастает до размеров здорового омара, эта находка была просто чудом: ведь его личинка в начальной стадии не больше булавочной головки. Возрастные вариации другого вида, Sao hirsuta, выложены с еще большей тщательностью. Несколько лет назад я посетил знаменитую «грушу» у деревни Скрый — дерево почти засохло, на нем распустилось только несколько грустных листочков; сейчас Барранд, наверное, и не узнал бы ее. Но все равно в сланцевых карьерах неподалеку все еще находят ископаемых личинок трилобитов.
Пока трилобит взрослел, облик его менялся, но самые значительные изменения происходили на ранних стадиях. Трилобит рос от одной линьки к другой, начиная свою жизнь крошечным существом размером с хлебную крошку. Барранд увидел, что трилобиты растут за счет добавления сегментов к туловищу, одного за другим, пока их число не достигнет нужного, характерного для данного вида числа: если у взрослого трилобита восемь сегментов, как у Ogygiocarella доктора Ллуйда, то личинка с каждой линькой будет наращивать по одному, пока не наберутся все восемь, а потом с каждой линькой трилобит будет просто подрастать без добавления сегментов. В этом смысле трилобиты совершенно не похожи на маленьких хорошеньких черепашек из многочисленных телепрограмм про природу; черепашки вылупляются готовыми крошечными копиями своих родителей, тогда как трилобиты немножко меняются с каждой линькой.
Часто трилобит наращивает полное число оформленных туловищных сегментов (а такая стадия с полным числом сегментов называется холаспидной, ее носитель — холасписом), еще не достигнув максимальной длины, когда он очень и очень далек от своих размерных рекордов. Холаспидной стадии предшествует серия линек, во время каждой из них в туловище добавляется сегмент: как правило, чем меньше размер личинки, тем меньше у нее сегментов. А начинался весь процесс с миллиметровой личинки, у которой вообще не было свободных туловищных сегментов: протоцефалон и протопигидий сочленялись напрямую, без всяких признаков вставленных между ними сегментов. А еще раньше, самая первая личиночная стадия представляла собой просто цельный щиток — миниатюрный диск еще не разделившихся головы и хвоста; эта личинка называется протасписом. У некоторых видов стадия протасписа меньше миллиметра. Протаспис, очевидно, вылуплялся из яйца, но то, что исследователи объявляли ископаемыми находками трилобитовых яиц, вызывает немалое сомнение. Если бы мы с абсолютной достоверностью не проследили плавный переход от протасписа к промежуточным возрастным стадиям, а от них и к взрослым формам, было бы чрезвычайно затруднительно в этих крошечных существах распознать личинок трилобитов. У большинства протасписов из коллекции Барранда видны следы пресловутых «трех долей», особенно хорошо заметны контуры глабели, их видно даже у таких мелких личинок. Но преображение приплюснутого миниатюрного диска в великолепного хищника Paradoxides — это настоящий метаморфоз, история жизни, вычитанная из древнейшей каменной книги. По тонкости и изощренности она напоминает знакомое нам превращение гусеницы в бабочку.
Вполне возможно, что ранние личинки были планктонными, плавали в толще воды, питались мельчайшими водорослями или, может быть, другими личинками, так же как и личинки современных усоногих раков (морских желудей или морских уточек) или креветок. На какой-то ранней фазе личинка должна была осесть и начать вести придонную, взрослую, жизнь. Вскоре после открытия окремнелых трилобитов на дне сита среди прочей «мелочевки» ученые нашли прекрасные образцы ранних личиночных форм. А потом, чтобы привязать личинок к соответствующим взрослым особям, понадобилось поистине детективное расследование: пришлось подбирать последовательность возрастных форм уже известных видов.
Мне повезло, и я нашел на Шпицбергене прекрасные экземпляры ордовикских протасписов; их изображение приведено на с. 262. Они выполнены фосфатом кальция, который заместил первоначальную кальцитовую оболочку и создал такую безупречную копию, что сохранились даже микроскопические шипики размером в тысячную долю миллиметра; ведь маленький размер не лишает существо своеобразия. Среди изобилия микроскопического материала жизни нашлись два-три экземпляра, похожие на воздушный шарик, но шарик не простой, а с рожками. Гарри Уиттингтон соотнес их с взрослыми особями трилобитов, вовсе на шарики не похожими, — с Remopleurides. А у родичей нашего старого знакомого Ogygiocarella личинки были гладенькими, такие же примерно были и у Trinucleus, и на них не видно ни следа тех оборок на голове, которые сразу отличают взрослых особей Trinucleus. Мой канадский коллега Брайан Чаттертон считает, что эти малюсенькие чечевичинки приспособились особым образом к планктонному образу жизни. Брюшная часть почти герметически запечатывалась, оставляя только отверстия для трех пар отчаянно трепыхавшихся ножек. Иногда в прудах, в зеленой воде, видны тучи мельчайших водяных блох, дафний, беспорядочно снующих вверх-вниз. Мой отец ловил их миллионами и продавал как корм для рыбок в своем зоомагазине. Мое представление о трилобитовом планктоне в морях ордовика родилось в те летние послеполуденные дни, когда я часами лежал на берегу, вглядываясь в колышащуюся взвесь зоопланктона. В отличие от дафний, личинки трилобитов, взрослея, претерпевали изменения и достигали размера иногда в сто раз больше исходного размера личинки.
Естественно, никаких личинок-младенцев не было бы без полового размножения. Должен с грустью признать, что о спаривании трилобитов нам хотелось бы знать больше. Если полагать, что трилобиты в этом смысле подобны современным морским членистоногим, то самки трилобитов должны выметывать в воду икринки или яйца, которые затем оплодотворялись самцами. Для этого существует несколько способов, простейший из них — когда самец выделяет сперму в воду рядом с кладкой и сперма попадает к яйцам с токами омывающей воды и оплодотворяет их. Определить пол трилобита оказалось необычайно трудно. Никому не удалось разглядеть ни половых органов у трилобитов, даже у тех, у которых сохранились следы мягких тканей, ни каких-либо очевидных вторичных половых признаков, как, например, особые крючочки, которыми некоторые самцы креветок прикрепляют к самке сперматофор со сперматозоидами. Должно быть, половые различия у трилобитов были очень неприметными. В 1998 г. мы с коллегой Найджелом Хьюзом обнаружили трилобитов, которые предположительно являлись самками некоторых известных нам видов. У всех этих трилобитов была похожая черта: вздутие или шишка на средней части головы перед глабелью. В некоторых случаях эта шишка была вполне внушительной. Когда подобное образование встречается у современных членистоногих, это бывает выводковая сумка для вынашивания яиц и личинок. Может быть, и трилобиты имели такие же передвижные ясли? По крайней мере расположение шишки подталкивает именно к такому объяснению.
Однажды я сидел в ресторане на берегу моря в южном Таиланде и раздумывал, что бы мне такое заказать на ужин. Мое внимание привлек большой аквариум со всякой деликатесной живностью, которой позволили поплавать еще немного, прежде чем украсить петрушкой и отправить на тарелку. Был там и мечехвост, Limulus, или один из его близких родичей, обреченно ползавший среди других, соблазнительно вкусных рыб и креветок. Я замер. Limulus — это самый близкий из ныне живущих родственник трилобитов (с. 182), считай, их многоюродный брат. Его личинки целое столетие считали схожими с «личинками трилобитов», они и вправду напоминают протасписов моих трилобитов. У меня появилась возможность узнать, каков был трилобит на вкус! Как же я удивился, когда мне принесли мечехвоста, сваренного целиком: выглядело на редкость неаппетитно. Но удивление мое выросло еще больше, когда официант открыл изнанку головного щита — то, что мы называем дублюрой у трилобитов, — и там, внутри головы, находилась съедобная часть мечехвоста: крупная икра. Очевидно, мечехвосты вынашивают икру в головном отделе, в отличие от креветок и других ракообразных, у которых она размещается под туловищем. Именно на том же месте головы, спереди, мы обнаружили те шишки у трилобитов; доказательство так себе, косвенное, но лучше, чем никакого. Ну а вкус? Резкий и противный, даже если все время заедать макаронами. Хотелось бы думать, что трилобит был вкуснее.
Траекторию от протасписа к взрослой особи называют онтогенезом трилобита. У любого сложного животного есть онтогенез — мы с вами, как нам прекрасно известно, начинаем развитие в виде оплодотворенного яйца, которое далее превращается в клубочек эмбриона, потом становится зародышем, а затем рождается младенец. В ходе подробного изучения онтогенеза трилобитов подтвердились весьма неожиданные гипотезы. Я уже описал механизм появления эволюционных новообразований, связанный с вариациями в темпах достижения зрелости. Многие мелкие трилобиты могли произойти от предковых форм нормального размера, приспособившись размножаться раньше обычного. Эту гипотезу можно проверить на материале онтогенетических серий разных трилобитов. Если сравнивать личиночные стадии разных трилобитов, окажется, что они очень схожи, несмотря на существенную разницу между взрослыми особями. Поэтому ясно, что они близкие эволюционные родственники, пусть и с непохожей на первый взгляд внешностью. Личинки помогают отбросить исторические наслоения и обнажить самые корни родства. Здесь надо бы вместо заученного полсотни лет назад зоологического заклинания «онтогенез повторяет филогенез» выразиться точнее: «по младенцам их узнаешь их». Так, личинки подсказывают, что Calymene, скорее всего, является родичем Phacops, a EIrathia — родичем Triarthrus. Все больше обнаруживается подобных родственных связей в мире трилобитов: может так случиться, что в результате у нас в руках окажется по-новому сформированная классификация богатейшего каталога трилобитов. Удивительнейшим образом нам открывается, как формировалась замечательная кайма на голове у Trinucleus: сначала на ней появляется один ряд углублений, кайма постепенно расширяется, ряд ямок реорганизуется в две симметричные полосочки. Или мы можем увидеть, как в процессе онтогенеза увеличиваются шипы у Атрух, будто нос Пиноккио с каждым новым обманом. Гарри Уиттингтон обнаружил, что даже самый ранний мераспис (личинка с неполным числом туловищных сегментов) Атрух, еще не имея ни одного туловищного сегмента, способен сворачиваться. Да, похоже, у трилобитов, маленький не маленький, а умей позаботиться о себе сам! У личинок Odontopleura и их родичей уже есть шипы: зубасты и клыкасты прямо с пеленок! У самых примитивных трилобитов, Olenellus и Agnostus, протасписов не нашли, может, их и не было вовсе, а может, протасписы у этих трилобитов[51] не имели кальцитовых покровов и потому не сохранились. Судя по имеющимся на сегодня данным, их развитие стартовало от ранних мерасписов. Как я уже упоминал, в 1926 г. Джеймс Стабблфилд продемонстрировал появление и рост туловищных сегментов: они «отпочковываются» от передней части пигидия, а не от, скажем, заднего края головы. Он показал это на примере небольшого ордовикского трилобита Shumardia, У взрослых Shumardia имеется один особо крупный (или макроплевральный) сегмент (с. 267) — четвертый, если считать от головы. В смысле роста Shumardia не отличается от остальных трилобитов. Развитие начинается с крошечного щита протасписа; затем появляется разделительная граница между протоголовой и протохвостом; с каждой последующей линькой в туловище добавляется сначала один сегмент, потом еще и еще один, пока, наконец, их не образуется шесть. Крупный, макроплевральный сегмент появляется четвертым по счету на соответствующей — четвертой — стадии развития. На стадии пяти сегментов макроплевральный сегмент все равно остается на четвертой позиции, а сегмент обычного размера вырастает позади него. У сформировавшейся взрослой особи позади макроплеврального сегмента уже два обычных сегмента. Другими словами, в процессе взросления макроплевральный сегмент подвигается вперед, по мере того как позади него добавляются остальные недостающие сегменты: они отпочковываются от передней части хвоста. Я пересмотрел материалы Стабблфилда 64 года спустя и поразился скрупулезной точности его исследований. С тех пор, с 1926 г., наблюдения Стабблфилда подтверждены на многих трилобитах. А собственный его онтогенез к моменту написания книги длился уже почти столетие, и все — даже леди Стабблфилд — называют его Стабби[52]. Публикация того знаменательного открытия выдвинула его на должность директора Британской геологической службы, а потом он стал кавалером ордена Британской империи, сэром Джеймсом.
Смотрите, каких высочайших карьерных и социальных высот достиг трилобитчик, и он поднялся наверх, изучая в микроскоп наимельчайших ископаемых. В конце 1980-х мы с Бобом Оуэнсом собирали коллекцию в тех же шропширских холмах, где полвека назад, в 1927 г., ходил сэр Джеймс и где родилась его знаменитая работа. На обложке ее синими чернилами он напишет: «С несколько запоздалым приветствием…»
А вот трилобитовый след, как моментальный отпечаток промелькнувшего события, может, какого-нибудь простого ужина… Окаменевшее время, можешь ли ты быть так мимолетно? Но чей же это след, какой именно трилобит его оставил? Определить это чрезвычайно трудно. Следы обычно сохраняются в песчаном грунте, в котором самих трилобитов находят очень редко.
Мы ведь, если подумать, не натыкаемся на мертвое тело в конце каждой цепочки следов на пляже! А кроме того, следы, подобные трилобитовым, оставляли и другие членистоногие. И как же обнаружить наследившего? Несколько лет назад я участвовал в полевых работах в Омане, это была экспедиция на тогда еще не исследованные местонахождения верхнего кембрия возрастом примерно 490 млн. лет. Трилобиты попадались редко, но так как, кроме них, других трилобитов соответствующего возраста на всем Аравийском полуострове не было известно, то потрудиться стоило. Дело было в отдаленном районе Хакф, полностью лишенном растительности за вычетом одного жалкого деревца. Песчаники и известняки сформировали невысокие коренные склоны, так что, следуя на четвереньках по поверхности какого-нибудь пласта, вы, считай, будете ползти по дну кембрийского моря, где отпечатались каждый след и каждая ямка. Все указывает на то, что породы здесь формировались на дне очень мелких морей — иногда море вдавалось в сушу такими длинными мелкими заливами, что все пересыхало и образовывало солончаки. Немногим трилобитам пришлись по вкусу эти мелководные лужи. Тем более восхитили нас обнаруженные слои со следами трилобитов; и уж совсем необычным оказалось то, что в породах со следами нашлись фрагменты трилобитов — определенный вид, очевидно, облюбовал это побережье. Сможем ли мы узнать, кто оставил эти следы? Если тот самый трилобит, то его размеры должны соответствовать размерам следов.
В 1994 г. я снова приехал в Оман, но теперь со мной был великий немецкий палеонтолог Долф Селяхер, патриарх-следопыт, лучший специалист по ископаемым следам. Мы осторожно переворачивали каждую плиту, где на обратной стороне могли бы сохраниться ископаемые отпечатки. Осторожность была более чем оправдана: частенько под небольшими камнями днем прятались скорпионы. Мои оманские коллеги объяснили, что бояться нужно не больших, размером с краба, черных скорпионов, а других, вполовину меньше, желтоватых, сливающихся с камнями юрких тварей с настороженным сбоку, как лассо, жалом. Именно здесь, в пустыне, я осознал глубинную связь между скорпионами и трилобитами: здесь, под камнями, ставшими пристанищем и для тех, и для других. Скорпионы принадлежат к паукообразным, большой группе членистоногих, включающей пауков, клещей, а также и самого примитивного из них — мечехвоста, чью икру мне довелось попробовать в ресторане в Таиланде. Современные исследования[53] эволюции членистоногих показали, что самым близким из ныне живущих родичей трилобитов является Limulus, а скорпионы попадают в разряд «следующеюродных» родственников. Таким образом, в этом отдаленном уголке Омана встретились, невзирая на бесконечность временного пространства, два древних родственника: скорпион и трилобит; мне же осталось лишь почтительно засвидетельствовать эту знаменательную встречу. Ранним утром на песке в пустыне хорошо видны ряды скорпионьих следов — всего лишь в нескольких сантиметрах от древних, окаменевших следов, предмета нашего изучения. Долф уверил меня, что скорпионьи следы находят даже в девонских породах. Только представьте себе, что наши Phacops какое-то время жили рядом с тварями, в которых мы с легкостью опознали бы скорпионов, уже тогда снабженных смертельным жалом, ставшим для них пропуском в будущее. Если бы те, древние, сумели перенестись в наше время и пробежаться рядом со своими нынешними потомками, то следы тех и других оказались бы похожи. Там, в Хакфе, в расплавленный от жары полдень, ко мне пришло ощущение времени — прошлого и настоящего, времени побежденных и победителей.
Наши усилия оказались не напрасными. Размеры трилобитов как раз укладывались в размерный диапазон следов, а щечные шипы по краям головы оставляли канавки по обе стороны от следовых дорожек. Долф предположил, что эти трилобиты, похоже, добывали пищу, совершая круговые движения головой — такими примерно движениями хозяйки моют окна. Эти следы даже имеют специальное название, присвоенное ему больше века назад «английским Баррандом» — Джоном Солтером. Впервые подобные ископаемые следы нашли в верхнекембрийских породах в северном Уэльсе, недалеко от деревни Меринет, в местах диких, гористых и дождливых, т.е. настолько не похожих на Хакф, насколько это вообще возможно. Последним штрихом в нашей доказательной картине стала недавняя находка того самого оманского трилобита, но уже не в Омане, а в северном Уэльсе, недалеко от тех первых солтеровых следов. Кажется, вот он, моментальный снимок, выхваченный из жизни трилобита: вот дрожит ворсинка, шевелится ножка…
А есть еще время геологическое.
Мы измеряем геологическое время миллионами лет, а можем измерить его трилобитами. Так как трилобиты быстро появлялись и эволюционировали, они стали специфическим хронометром — исторической шкалой, размеченной трилобитовыми портретами. Трилобитов мы узнаем, можно сказать, в лицо, как опытный нумизмат с одного взгляда определит какого-нибудь мелкого римского правителя на старинной монете.
Определенный набор видов трилобитов так же характерен для своего геологического времени, как фараон Тутанхамон для своего исторического периода. На практике исследователь стремится отыскать как можно больше ископаемых видов, чтобы потом можно было сверить наличие тех или иных из них в разных местах и слоях. Меня никогда не перестает удивлять, насколько надежна оказывается стратиграфическая система. Моя поездка в Оман подтвердила позднекембрийский возраст пород буквально через пару часов после начала экспедиции. Еще один пример: я откорректировал возраст некоторых известняков в южном Таиланде, которые на всех геологических картах значились как силурийские. Сравнив находки трилобитов из этих известняков с трилобитами, найденными в Китае несколькими десятилетиями раньше, я отнес известняки к ордовику. Все это стало возможным благодаря работам сотен безвестных баррандов — кстати, одному из таиландских видов название дал-таки один из современников Барранда. Знание имеет свойство накапливаться, но это сокровище добывается тяжким трудом. Перечислить все названия и расположить их в правильном порядке, проведя попутно инвентаризацию по шкале геологического времени, — задача непомерно трудоемкая. На свете так много трилобитов, и объявляются все новые и новые — жизни не хватит, чтобы всех их выучить. Я работаю в палеонтологии без перерыва уже 25 лет, а все равно есть на геологической шкале времени целые интервалы, где я чувствую себя совсем неуверенно. Мы, геологи и палеонтологи, конечно, стремимся вызнать каждую мельчайшую подробность, но при этом не выпускаем из виду всю грандиозную картину геологического прошлого, где поколения видов сменялись другими, и так раз за разом.
Во времена нижнего кембрия, около 540 млн. лет назад, видообразование у трилобитов шло ускоренными темпами. Появились трилобиты, типичные для той эпохи: с узкими, удлиненными трапециевидными глабелями. В Северной Америке процветали Olenellus и их родичи, у всех их было длинное туловище с многочисленными сегментами и маленьким хвостиком, причем хвостик с узкими кольцами начинался сразу за крупным туловищным сегментом. Удлиненные глаза заходили на глабель, но лицевых швов для линьки на верхней части головы не было. В Китае, да и на территориях Ближнего Востока, существовали сходные трилобиты, но все же у них имелись лицевые швы; среди самых распространенных упомяну, в частности, Redlichia. Именно этих трилобитов я собирал на нестерпимо раскаленных склонах Квинсленда, в Австралии: тогда я почти совсем приблизился к возможности попробовать жареного трилобита. Китайцы очень дробно разметили горные породы на своих территориях, используя в качестве индексов временной шкалы разных животных. В тех же по возрасту слоях появляются первые мелкоразмерные трилобиты, такие как Pagetia, которых я считаю примитивными родственниками Agnostus. Некоторые из этих миниатюрных форм — обычно они размером с мелкую мокрицу — имеют маленькие невыразительные глаза и три туловищных сегмента; другие же глаз не имеют вовсе, а в туловище у них два сегмента, как у агностид. Они дожили и перешли границу среднего кембрия, когда начинают свою историю по-настоящему незрячие агностиды, в изобилии встречающиеся в среднекембрийских слоях. Все эти мелкие трилобиты чрезвычайно важны для датировки пород, так как некоторые виды распространены почти повсеместно, быстро эволюционировали и своевременно замещались другими видами. Если они и вправду были планктонными животными, то легко объясняется их широкое распространение. Трилобиты — они для нас как маленькие хронометры, к тому же мастерски скроенные — каждый их кусочек, каждый фрагмент скелета прилаживается друг к дружке, чтобы надежно защитить идеальный шарик-капсулу.
Вместе с малютками агностидами в среднекембрийских пластах находят гигантов, подобных Paradoxides, которые, несомненно, предпочитали ползать по дну, а не бороздить вплавь толщу воды. Трилобиты этого типа также полезны для уточнения временного интервала: если вы определили Paradoxides, то перед вами породы среднего кембрия. Рядом с ними обитали и трилобиты нормального размера, например лишенные глаз Meneviella. Некоторые из этих слепых трилобитов были известны еще Иоахиму Барранду, т.е. больше столетия назад; находки из Франции, Уэльса и Испании стали первым указанием на связь геологического времени и трилобитов: и теперь трилобитов можно использовать для датировки геологических осадочных пород. У родственников слепых трилобитов были нормальные глаза, значит, логично предположить, что эти трилобиты утратили глаза в результате эволюционных преобразований. Они жили на большой глубине или по крайней мере в мутной воде. К их зрячим родичам относятся Ptychopaha striata — вид, великолепно представленный материалом из Богемии. Это, можно сказать, обыкновеннейший Иван Иваныч Трилобит, со скромным хвостом, с немного сужающейся глабелью и глазами среднего размера, с довольно-таки многочисленными сегментами туловища: ничего выдающегося ни в каком отделе. Есть такой же североамериканский середнячок — Elrathia kingi — заурядный обитатель витрин в лавках окаменелостей, только выглядит поменьше и пошире. Существуют десятки довольно похожих трилобитов, определение которых даже у самых терпеливых специалистов вызывает зубовный скрежет. Чтобы их правильно определить, требуется умение и опыт, так как множество почти одинаковых трилобитов находят в пластах и среднего, и верхнего кембрия. Уж куда проще узнать какого-нибудь шипастого трилобита среди среднекембрийской фауны, первым в истории трилобитов прикинувшегося подушечкой для булавок. Трилобиты с большим пигидием тоже стали явлением вполне обычным для среднего кембрия. Самый выразительный среди них, пожалуй, Corynexochus и его родичи (см. Fieldaspis на с. 276) — специфичные трилобиты с удлиненными, вытянутыми кпереди глабелями в форме пестика, с туловищем в шипах и легко узнаваемой гипостомой. Средний кембрий — время благоденствия трилобитов, а если еще вспомнить, какое количество самых разных членистоногих нашли в сланцах Бёрджес, то было бы уместно присвоить этому времени название «эра Членистых Ножек»: кажется, это был пик эволюционных опытов над конструкцией ножек.
Агностиды и многие другие благополучно переползли в верхний кембрий. В Китае в пластах этого возраста нашли диковинных трилобитов, более или менее связанных родством с Damesella (см. Drepanura, с. 279): у них по бокам хвоста необычно расположенные шипы, напоминающие расческу или какие-то странные грабли. Один из них даже попал в китайские микстуры: его называли «лечебный камень», растирали в порошок и добавляли во всякие зелья. Считается, что все китайские традиционные лекарства помогают от возрастных немочей: ну что ж, если допустить, что «подобное лечат подобным», то перед нами очень уместный пример такого лечения. Будучи ингредиентом китайских лекарств, Drepanura первым из китайских трилобитов стал известен на Западе. Родственные ему виды распространились до Австралии. Их раздобыл в центральном Квинсленде, продираясь сквозь колючий буш, и затем описал выдающийся эстонский эмигрант Александр Армии Эпик. Точно так же работал и не менее выдающийся американец Алисон Палмер, которого все трилобитчики зовут просто Пит: вот уж кому действительно подходит эпитет «неутомимый»! Его работы по центральной части Северной Америки — той, что именуется Великий Бассейн — огромной территории, включающей Юту и Неваду — настоящая победа разума — и молотка — над материей. Я сам побывал на некоторых разрезах в том районе, на высоте, от которой дух захватывает. Любая неосторожность — и вы сползаете по крутому склону прямо вниз, откуда с таким трудом забрались. Воздух напоен запахом хвои, потерявшего бдительность подстерегает опунция, то и дело вы вздрагиваете от неожиданного стрекота гремучей змеи, но в общем вполне дружелюбная, хотя и жаркая, местность. Со склонов, где сиживал Пит, вы увидите долину, заросшую морем полыни, с точками коров внизу, а еще ниже — поблескивающие белые солончаки. Здесь, в этих горах, Пит собрал образцы из всех обнажений, и его трилобиты рассказали нам о временах позднего кембрия, об историях, зашифрованных в тонких слоях известняка и сланца, о местных драмах вымирания и рождения новых видов. Пит знал досконально каждый из здешних видов, изучал их с тем заразительным энтузиазмом, какой характерен для американских интеллектуалов и благодаря которому они завоевали мировой авторитет.
По краям Северо-Американского континента, а также в Скандинавии и Уэльсе в позднекембрийских слоях находят трилобитов Olenidae, которых в главе 7 я уже расхваливал. Они приспособились к особой среде с низким содержанием кислорода. По ним можно отмерять время с точностью до полумиллиона лет. Вроде бы не очень точно по сравнению с 4:39 утра 15 августа 1931 г. Но для промежутка в 500 млн. лет такая точность равняется 1/1000. Когда дело касается времени, точность оказывается понятием относительным.
В ордовике трилобиты жили почти везде, они заселили самые разнообразные экологические ниши в океане. Они обитали и на мелководьях на песчаных грунтах, и на самых глубоководных илах, на освещенных солнцем рифах, и в непроницаемой тьме глубин. Некоторые кембрийские группы выжили, как, например, олениды и агностиды, но особый ордовикский колорит обеспечили не они, а новые группы трилобитов: херуриды, одонтоплевриды, проетиды, калимениды, энкринуриды, лихиды, факопиды, далманитиды — список можно продолжать и продолжать. Я мог бы извиниться за скучный перечень семейств (типовые образчики большинства из перечисленных уже мелькали в этой книге), если бы этот список не являлся одновременно календарем ордовика и следующих за ним времен. Знакомство с парой десятков этих животных позволит вам определить временную точку, или хронологию движения континентов, или время появления первого скорпиона. Даже сами названия имеют значение. Для маркировки ордовикских пластов наиболее ценны те трилобиты, которые не дожили до силура. Их список включает вольных пловцов, таких как Cyclopyge и Carolinites; многочисленных жителей дна, азафидных родичей Ллуйдовых Ogygiocarella, а вместе с ними и великолепных тринуклеидов, и обладателей рапир — родственников Атрух. Среди них найдутся твари, колючие, как дикобраз, и гладкие, как яйцо; трилобиты больше омара и меньше комара. Так как континенты в то время разошлись, то и трилобиты на каждом из них жили разные, все с собственной историей и хронологией. Да, здесь читатель может остановиться и почувствовать тот трепет и благоговение, какое испытывает исследователь, осознавший непомерную огромность своей задачи — изучить трилобитов.
В конце ордовика произошло массовое вымирание — одно из самых важных событий в истории жизни планеты. Начавшееся с Северной Африки великое оледенение, несомненно, принесло решительное похолодание, и, вероятно, из-за этого наступил фаунистический кризис. Осадочные породы ледникового происхождения, соответствующие позднему ордовику, мы находим не только в Африке, но и повсюду в мире, и — удивительно — где-нибудь неподалеку всегда обнаруживаются трилобиты. Некоторые виды были, очевидно, устойчивы к холоду, и один из них, Mucronaspis, очень широко распространился в ледниковые времена. Именно его я нашел в Таиланде, и каково же было мое изумление, когда я определил вид, известный по находкам в Скандинавии. Трилобитовые часы работают во всем мире! В конце ордовика вымерло большое количество семейств, среди них многие из тех, чья история уходит корнями в кембрий. Пострадали и мои любимцы: не стало больше Trinucleiis,Me стало Isotelus. Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова объявились вольные пловцы среди трилобитов. После ордовика в мире трилобитов все изменилось. Но те семейства, которым удалось выжить, вскоре набрали силу и к середине силурийской эпохи мощно разрослись. Даже неопытный студент с легкостью определит силурийских Balizoma, Calymene, Proetus или Ktenoura. Они достаточно широко распространены и потому служат удобными хронометрами.
Между девонскими и силурийскими трилобитами значительно меньше отличий, чем между кембрийскими и ордовикскими или ордовикскими и силурийскими. Phacops и родственные ему виды стали высшим достижением девонской эпохи: тогда их шизохроальные глаза победно взирали на мир. Тогда же появились удивительно разнообразные шипастые трилобиты. В некоторых местах, особенно на территории современного Марокко, каждый девонский трилобит, кажется, покрылся шипами и колючками. Всего за неделю до того, как написать этот абзац, я видел нового трилобита, еще не получившего имя[54], у которого на глабели торчал здоровенный трезубец — уникальное и совершенно необъяснимое приспособление (с. 301). Доведись вам увидеть такого, и вы будете точно знать, о какой точке геологического времени идет речь. Но во всем остальном тот трилобит был вполне заурядным — просто еще один родственник Dalmanites. Еще там обитали трилобиты с великолепными закрученными рогами, начинавшимися прямо от «шеи» (их можно рассмотреть на рисунке на с. 282), и трилобиты с устрашающими рядами вертикальных шипов. Некоторые родственники Lichas не чурались украшать себя с роскошью королей Ренессанса; а другие (например, одонтоплевриды) — всегда в колючках в соответствии со своими ордовикскими привычками — теперь практически превратились в пучок иголок. Даже привыкший к самым разным курьезам природы зоолог присвистнет, увидев впервые подобных тварей. Понятно, что все эти шипы и колючки служили защитой. Но какая же новая опасность заставила их одеться в столь богатые доспехи? Может быть, виной тому начавшийся тогда расцвет челюстных рыб? Но как всегда случается, логичная и на первый взгляд явная взаимосвязь совершенно не обязательно верна. Где-то в сторонке зачастую поджидает альтернативное объяснение. Но для определения времени нам не нужно искать объяснения: трилобитовые странности мы примем, как занятные тотемные столбы из затерянной культуры — они отмечают конкретный момент истории, фиксируют его положение в прошлом.
Почти все эти фантастические существа не пережили событий в позднем девоне: в конце девонского периода одно массовое вымирание следовало за другим, истребляя семейство за семейством. Самым губительным из критических эпизодов было так называемое фран-фаменское вымирание (вымирание на границе франского и фаменского веков позднего девона). Выжили очень немногие трилобиты: даже факопиды обреченно сгинули. А те, кто остались, группировались вокруг Proetus, малозаметного и наименее эффектного трилобита девонской фауны. Маленькие, компактные, все наряды с шипами они оставили своим ушедшим современникам. У некоторых из них головы были покрыты бугорками, но это максимум украшений, которые они себе позволяли до самого каменноугольного периода. Во время каменноугольного периода на геологическом календаре отмечены только разные вариации проетид. Мой друг Боб Оуэне может без конца расхваливать их разнообразие. Герхард и Рената Хан, немецкие палеонтологи, тоже досконально их изучили. Действительно, в первые века каменноугольного периода, когда теплые тропические моря затопили большую часть Европы, проетиды изобрели множество новых конструкций. Некоторые напоминали трилобитов предыдущих эпох, может быть, из-за схожего образа жизни. Глубоководье заселили слепые обитатели; в окристаллизованных известняках находят трилобитов, которых неопытный коллекционер спутает с Phacops, другие похожи на ордовикских Harpes. Тем не менее солидные, надежные, большеглазые трилобиты типа Griffithides стали в те времена самой распространенной группой. Я считаю, что трилобиты в это время совсем не угасали, а наоборот, сохранили способность к развитию, инновациям, заново освоили старые места обитания, еще раз приспособились к глубоким водам. Новые виды появлялись так быстро, что оказались вполне пригодны для разметки некоторых промежутков геологического времени, хотя будет преувеличением утверждать, что в каменноугольных морях они были столь же обычны, как и в силурийских. Если бы герой Гарди болтался на ордовикской скале, а не на каменноугольной, его встреча с трилобитом была бы гораздо вероятнее. Мир трилобитов явно съеживался; и еще теснее он стал в следующий, пермский, период. В нескольких знаменитых местонахождениях на Сицилии и Тиморе мы все еще видим большие скопления трилобитов, облюбовавших здешнее мелководье 250 млн. лет назад. Все еще появляются новые роды, поэтому трилобитовые часы продолжали тикать до самого конца. А затем, отмерив времени втрое больше, чем эпоха динозавров, часы остановились.
Я бы не хотел, чтобы создалось впечатление, будто великую историю геологического времени легко прочитать, будто имеется в нашем распоряжении одна мощная гора с непрерывными осадочными последовательностями, где слой за слоем расположены по порядку определенные виды трилобитов. Существует совсем немного мест, где время читается так просто; на самом деле временная шкала складывается из кусочков, из отрывков истории, взятых то тут, то там. Да, совершались ошибки, бушевали споры, порой довольно желчные. Заблуждался даже великий Чарльз Уолкотт. В 1883 г. он написал в своем дневнике, как всегда, сухо и сдержанно: «Под Потсдамскими известняками [формация в Неваде] мы находим своеобразную фауну, в которой значительное развитие получили трилобиты рода Olenellus; личиночные формы некоторых его видов указывают, что род берет начало от Paradoxides и соответствующего семейства и датируется, таким образом, более поздним временем». Напомню, что Paradoxides является путеводителем по среднекембрийским пластам, тогда как Olenellus размечает нижний кембрий; у Уолкотта же все наоборот. Уолкотт явно перепутал две категории времени, о которых я говорил выше: время, относящееся к развитию особи, и геологическое время. Он заметил, что некрупные Olenellus довольно похожи на Paradoxides, но есть и другое объяснение, которое нам предлагают правила гетерохронии: время сдвигает иные этапы индивидуального развития. Похожие черты могут быть всего лишь свидетельством происхождения от общего предка. Остерегайтесь рассуждений о времени, вас рассудят камни! Именно так несколько лет спустя после тех записей и произошло с Уолкоттом, когда скандинавский геолог В. К. Брёггер доказал, что в Норвегии породы с находками Olenellus и ему подобными залегают ниже пластов с Paradoxides. Он показал нам две каменные страницы истории, сохраненные в непрерывной последовательности отложений. Уолкотту и его другу Дж. Мэтью — он работал в районе Нью-Брунсвика, где картина геологической отложений весьма неоднозначна и усложнена складчатостью — пришлось пересмотреть все данные, и, поскольку Уолкотт был настоящим ученым, он изменил свое мнение в соответствии с фактами. Он не стал убивать время — да-да, именно убивать время — в попытках подогнать факты к своим взглядам.
Не похоже, чтобы споры вокруг временной шкалы когда-нибудь прекратятся; знания накапливаются, временная шкала прошлого дробится и уточняется, ее разрешающая способность все увеличивается. Большую часть моей научной жизни я наблюдал, как медленно и постепенно международное сообщество ведет поиск удобной границы между кембрием и ордовиком; и в этом деле не последнюю роль играет трилобитовый хронометр. Какой бы отвлеченной ни казалась подобная задача, но я наблюдал взрослых людей, кипящих от ярости, по поводу этой метафорической миллисекунды в длинной истории жизни. Для эталонного разреза, по которому можно было бы определить границу кембрия и ордовика, предлагались самые разные местонахождения и на Ньюфаундленде, и в Юте, и в Китае, и в Норвегии — я побывал везде.
В Китае недалеко от городка Чаншань я напрямую ощутил еще одну эманацию времени. Наша команда работала на разрезе, который так или иначе включал ту спорную границу; мы — и я в том числе, счастливый и беззаботный, как жаворонок (или еще счастливее) — сидели на теплом склоне и собирали трилобитов. Над ухом время от времени жужжали какие-то насекомые, но я ничего не замечал, полностью погруженный в работу. Неожиданно меня пронзила боль в боку. Какое-то гигантское насекомое заползло под куртку, и я явно разозлил его размахиваниями молотком. Я вскочил на ноги, и на землю из-под куртки упал громадный шершень, самый большой из когда-либо виденных мною. Я не понимаю, как существо такого размера, да еще и налитое до краев ядом, может оторваться от земли, не говоря уже о том, чтобы лететь. Боль усиливалась, и я попытался заинтересовать переводчицу настоятельной неотложностью происходящего. Так как она не знала слова «шершень», я размахивал руками, жужжал, пронзал себя пальцем в бок, изображая укус. «Ага, — сказала она с теплой сочувственной улыбкой. — Пчела! Опасно нет!» Но к этому времени рисовые поля уже поплыли у меня перед глазами. К счастью, мой друг Дэвид Брутон все видел и сумел втолковать нашим распорядителям, что меня ужалила в живот не пчела, а один из вон тех летающих монстров. Один из рослых американцев, Джим Миллер, бережно нес меня по дорожкам вдоль лабиринта рисовых полей, петляя, сворачивая то направо, то налево. Человеку с низким IQ ни за что бы не выбраться на дорогу из этого лабиринта. Я помню, в какой-то момент мне привиделось, будто в полусне, что я гляжу со спины Джима в воду небольшого прудика с зарослями сладкой болотницы, и мелькнула мысль: «Мое время вышло». Все, кончилось мое время, кончилось прямо здесь, посреди Китая, в погоне за ответами, интересующими меня и еще горстку таких же идиотов. Вот мой миг, а вот тот, ушедший 489 млн. лет назад, и они связались в узел. На мгновение я почувствовал свою ничтожность перед лицом геологического времени.
К счастью, мы успели добраться до машины, которая домчала меня до Чаншаня. Приезд иностранца в начале 1980-х произвел целую сенсацию, и весь город явился провожать мое распростертое тело в «больницу» — ею оказалось незаметное строение с окнами без стекол. В оконные проемы тут же просунулось несколько десятков голов, чтобы получше все разглядеть. Похоже, такого развлечения у них давно не было. Помню я немного, но мне потом рассказали, что вздутую к тому времени опухоль вскрыли, рассекли стерилизованным ножом, выпустили довольно много крови. К ране приложили кашицу из растений. Удовлетворенно кивая, доктор сообщил через переводчицу: «Мы здесь для лечения комбинируем западную и китайскую медицину». Мне выдали аспирин — это была западная часть лечения, и громадный флакон с большими белыми таблетками из водорослей — китайская часть. Все это сработало, и уже через два дня я был на ногах. Забавно, что из-за этого случая я вскоре оказался некоторым образом посрамлен. Известный китайский профессор Лу Йен-Хао сказал мне, когда я выздоровел: «Я видел этих насекомых много раз, но вы первый, кого они покусали, — и, задумавшись на миг, добавил: — ну, кроме, может, крестьян». По возвращении в Лондон я рассказал специалисту по шершням из Музея естественной истории об этом случае. «Что же вы не привезли проклятую тварь, — была его реакция, — у нас в коллекции такой, кажется, нет».
Наука требует честности. Для той истории, которую я только что рассказал, не так уж важно, если я что-то приукрасил или даже придумал на забаву читателю, хотя, уверяю вас, я постарался изложить все в точности, как мне запомнилось. Но вот что категорически не разрешается ученому — так это умышленно вводить в заблуждение. И еще хуже, если лгут ради собственной славы. Именно так и получилось с «делом Депра».
Жака Депра, молодого геолога, приняли на работу в Геологическую службу Индокитая. Произошло это в самом начале XX столетия, когда территория нынешнего Вьетнама была французской колонией. То были годы героических геологов. Научные методы приоткрыли завесу над тайнами геологического строения Альп и Гималаев; казалось — еще немного и строение Земли целиком станет доступно дерзкому разуму. Поэтому так необходимы были экспедиции в дотоле неисследованные земли. Жак Депра обладал, несомненно, всеми необходимыми качествами: талантом, мужеством, энергией. К тому же он был заядлым альпинистом и собирал материал на самых недоступных вершинах. А еще он обладал даром реконструировать сложные геологические структуры в трех измерениях и вдобавок слыл неплохим палеонтологом. Сейчас уже практически не существует людей такого широчайшего кругозора. Нужно еще сказать, что добился он всего этого талантом и упорным трудом, выйдя за пределы уготованного ему происхождением круга мелких буржуа: просто герой нашего времени. Учитывая тогдашние французские классовые предрассудки и элитарность, это было действительно огромное достижение. Чтобы заработать себе репутацию, Депра был согласен трудиться на самых окраинах Французской империи, но даже и там местная французская верхушка презирала низкорожденных, презирали все, включая его непосредственного начальника, зловещего офицера Оноре Лантенуа, воспитанника элитарной французской школы. Но уже к 1912 г. Депра сделал себе имя; его неустанные, трудоемкие исследования на местности показали, что информация о европейских геологических структурах вполне применима к складкам и надвигам в Индокитае и, что самое замечательное, местные породы ордовикского возраста надежно датируются ископаемыми находками трилобитов. Среди находок оказались те виды, которые в районе Праги собирал и определял Иоахим Барранд: какое еще доказательство потребуется, если нашлись виды, описанные самым великим хранителем времени? Эти виды известны сегодня как Deanaspis goldfussi, Dalmanitina socialise Dionideformosa. Первые два знакомы по находкам из свиты (формации) Летна в Богемии, там они часто встречаются; практически во всех старых коллекциях в глубине ящика обязательно найдется один-два экземпляра этих трилобитов. Dionideformosa — более редкая форма из свиты (формации) Винице, но все равно она хорошо известна. Стало очевидно, что данные виды, зарекомендовавшие себя надежными временными ориентирами, имеют широкое распространение. Официальное описание экземпляров из Вьетнама составил коллега Депра, местный палеонтолог Анри Мансуи, оно вышло в Трудах геологической службы в 1912 и 1913 гг. Репутация Депра казалась неколебимой.
А затем возникли сомнения. Мансуи начал поглядывать на Депра с опаской. Лантенуа пошел еще дальше: он уверял, что образцы goldfussi и socialis действительно являются таковыми, но только потому, что они на самом деле обманом привезены из Богемии, а совсем не добыты в местонахождении Нуи-Нга-Ма рядом с поселением Винх в Индокитае. И что это «подложный материал», фальшивка, обман. Самое мягкое выражение употребил Жан-Луи Анри в 1994 г., пересказывая «дело Депра»: он написал «апокрифичный», т.е. сомнительного происхождения. Но если все это так и было, то нарушалось золотое правило науки — честность. Депра отчаянно защищался, отметая обвинения как клевету. Он верно почувствовал, что менее талантливый, хотя и уважаемый в обществе Оноре Лантенуа досадовал на продвижение «выскочки» на поприще геологии. В конце концов, это ведь он, Лантенуа, прочно поставил Геологическую службу Индокитая на научные рельсы, а Депра сорвал аплодисменты. Никогда не нужно недооценивать желчных людей. Одно судебное слушание следовало за другим, в дело вмешалось Геологическое общество Франции, в свидетели призывались все великие голоса французской геологии, а для Депра ситуация становилась все хуже. Экспедиция в Нуи-Нга-Ма, призванная повторить исследования Депра, вернулась без каких-либо определенных результатов. Депра отказался предоставить суду в качестве свидетельств свои полевые дневники, что было расценено как несомненное доказательство вины. И пока десятки тысяч молодых французов погибали в окопах, жернова французского правосудия медленно делали свое дело — колониальный Индокитай существовал будто в другом измерении. Письма шли морем неделями, привозя с материнской земли очередную порцию узаконенной справедливости. Для умирающих время летело со скоростью пули, Лантенуа же преследовал Депра, будто в замедленной съемке, издалека. Наконец Жак Депра был обесславлен, сломлен теми самыми геологами, которые однажды посадили его на трон. Профессор Тамье, патриарх Парижского геологического сообщества, который когда-то боролся за Депра, нехотя принял на себя обязанность окончательно уничтожить его доброе имя. Расширенная комиссия знаменитого Геологического общества Франции постановила, что трилобиты из Нуи-Нга-Ма подложны или сомнительного происхождения. Люди, когда-то певшие молодому Депра дифирамбы, сегодня хоронили его репутацию. В ноябре 1920 г. Депра был исключен из Геологического общества. Никому не позволено лгать в научных вопросах, ни когда дело касается трилобитов, ни когда дело касается шкалы времени. Ложь выйдет наружу.
Вот только репутация Депра не разрушилась — по крайней мере не окончательно. Жак Депра по истечении времени, удалившись на покой и немного зализав раны, написал обо всех этих событиях книгу. Он написал ее в жанре roman a' clef — «романа с ключом» — и назвал его «Воющие псы» (Les Chiens Abouient). В романе мы находим едва завуалированную историю его переезда во Вьетнам, его отношений с Лантенуа и Мансуи, его падения. Конечно, это весьма необъективный рассказ, но в нем слышится правда. Современный читатель с легкостью проникнется симпатией к парии, очерненному нетерпимой и бездушной элитой. В 1990 г. М. Дюран-Делга предпринял смелую попытку реабилитировать Депра на специальном заседании Геологического общества Франции, повторяя утверждение Депра, что его «подставили» завистники. Именно такую стратегию защиты выбрал в конечном итоге и сам Депра (он несколько раз менял свою позицию). Из этой истории мог бы сейчас получиться добротный психологический роман. К тому же нам не в чем упрекнуть Депра в отношении других его открытий. И скажите, есть ли другой такой ученый, который, даже став злодеем в глазах всего света, нашел бы в себе силы и талант стать писателем?
Но вопрос «подменил или не подменил» все-таки остается открытым. Едва ли возможно, что Анри Мансуи, палеонтолог чрезвычайно прилежный всегда и во всем, вдруг расслабился и принял за чистую монету доказательства сомнительного свойства. Кроме того, Депра собственноручно сфотографировал тот подозрительный кранидиум Deanaspis goldfussi, опубликованный в 1913 г. И если он был невиновен, почему тогда сыграл на руку обвинителям, отказавшись предъявить свои полевые дневники? В то же время мы можем спросить себя, зачем человеку понадобилось так глупо обманывать, поставив под удар свою репутацию, которая как раз была на взлете? Может быть, он возомнил себя всезнающим? А возможно, был настолько неуверен в себе, что ему пришлось приукрасить правду для пущей убедительности? Каким бы ни был ответ, как геолог Депра прекратил существование.
Несколько лет спустя Депра начал новую жизнь, уже как писатель по имени Герберт Уайлд. Именно Герберт Уайлд написал роман «Воющие псы», но внимательный читатель сразу же свяжет имена Депра и Уайлда. Следующие его романы получили одобрение критиков, а один из них был номинирован на Гонкуровскую премию; значительные писательские гонорары обеспечили ему и его семье безбедное существование. Он снова стал заниматься альпинизмом, достиг известности и на этом поприще, забрался на Пиренеи и первым покорил несколько сложных вершин. Занятия альпинизмом в результате стоили ему жизни; примечательно, что в 1935 г. он написал роман, где подробно описана гибель в горах. Именно так некоторое время спустя погиб он сам. Только после его смерти открылось, кто скрывался за именем Герберта Уайлда.
Есть некая многозначительная симметрия между этой историей и той, с которой начиналось наше повествование, — со сцены из романа «Голубые глаза». И в той и в другой присутствуют выдуманные трилобиты. Герой Гарди висит над кручей, глядя в глаза трилобита, в которых отражается смерть; сорвавшись, умирает Депра, задолго до этого погубленный трилобитами. Для пущего драматизма Гарди использовал удачную выдумку — корнуоллского трилобита каменноугольного периода: литературный прием профессионального писателя, чья репутация так же безупречна сейчас, как и во все прошедшие годы. Никому не придет в голову ославить его на основании того, что его трилобит — фикция: в конце концов, писатель и призван вызывать к жизни таких вот созданий. Депра развенчали за то, что его фикция создавалась внутри другого кодекса; он должен был следовать правилам научного метода. Как бы мы ни сокрушались о выброшенном на ветер таланте, как бы ни осуждали мстительность преследователя, Лантенуа, но научный прогресс целиком зависит от того, чтобы воздерживаться от деяний, в которых обвиняют Депра. Этот принцип не допускает компромисса: невозможно доверять ученому, если он говорит правду в 78% случаев. А как мы распознаем, не попало ли утверждение в процент с пороком? Волею судеб Депра стал писателем и, может быть, даже восхищался романами Томаса Гарди. Если бы, будучи мистером Уайлдом, он придумал трилобита в качестве литературного персонажа, никто бы и слова не сказал. Разница между творчеством в науке и в искусстве едва ли прослеживается лучше, чем на примере нашей истории о двух трилобитах. А разница вот в чем: как и любой художник, Гарди создает временное пространство, очерчивает некий повествовательный круг, в который читатель волен вступить, открыв книгу. Правдоподобность трилобита случайна, как не имеет никакого значения тот факт, что он считал трилобита каменным ракообразным. И наоборот, готовность Депра исследовать предмет времени уже сама по себе заключает клятву научному кодексу, сформулированному еще Фрэнсисом Бэконом в «Новом Органоне» (Novum Organum, 1620):
Но если человеческому разуму искренне потребуется преуспеть в новых знаниях, вместо того чтобы погрязнуть в косности и успокоиться на старом; выигрывать битвы у Природы, будучи честным тружеником, а не пустопорожним критиком или самохвальным диспутантом; если захочется обрести твердое, доказательное знание вместо привлекательного и беспочвенного рассуждения, такого человека мы с готовностью примем в свои ряды как истинного сына Науки.
Тот, кто обманул и презрел необходимость «твердого, доказательного знания», недостоин называться «истинным сыном Науки». Воображение есть источник, из которого черпают вдохновение и художники, и ученые, но художник счастлив в фантазиях, тогда как ученый — в новых открытиях. Время — вот испытатель проницательности художественного видения и надежности научных открытий.
Глава 10.
Глаза да увидят
Большинство ученых работают в одной узкой области. Расхожее мнение, опирающееся только лишь на знание о великих открытиях, рисует ученых в белых халатах, неустанно создающих общую теорию поля, или определяющих ген рака, или открывающих нейрофизиологическую основу сознания. На деле научный поиск ведется в тысячах различных направлений, но только очень немногие сочетают ту своевременность и новизну, за которые даются Нобелевские премии (или «поездка в Стокгольм», как ее назвал один почтенный член Королевского общества). Но вся наука взаимосвязана: она подобна паутине, всей поверхностью реагирующей на движение в любом ее конце, и прочнее всего она на переплетениях нитей. Вот и наука о трилобитах отсылает нас к более общим научным вопросам: как появляются и умирают виды; о природе кембрийского взрыва (и был ли этот взрыв); как вообще зародился известный нам биологический мир; как в древности выглядели контуры континентов. Какой-нибудь ученый будет трудиться годы, движимый любовью к предмету своих исследований, и станет известен только десятку ближайших коллег. Но, обнаружив неожиданную взаимосвязь, ученый оказывается на передовом рубеже, восхваляемый лауреатами, засыпанный наградами. Древняя мудрость гласит (так мог бы заявить и трилобит): имеющий глаза да увидит. Двум специалистам из маленького американского университета, Рут и Биллу Дюел, почти не с кем было разделить интерес к крошечным, коротконогим тихоходкам, вездесущим малявкам, живущим под каждой мшистой кочкой, близким, возможно, к древним членистоногим. Эти двое поняли, что несколько важных признаков в анатомии головы связывают тихоходок с некоторыми ископаемыми кембрийскими животными; а молекулярные методы, с помощью которых они реконструировали историю тихоходок, вынесли их из закоулков науки в самый ее авангард. Годы терпеливых наблюдений подвели Дюелов к ключевым вопросам, касающимся эволюции членистоногих — самой разнообразной группы животных на планете.
Красота научной жизни состоит в том, что каждый добросовестный ученый может встроить свой камень в здание науки. Имя его, возможно, вспомнят лишь несколько интеллектуальных последователей, но научный вклад останется, даже если он анонимный. Чтобы оставить след в науке, совершенно необязательно быть одним из знаменитостей. Я знаю, что из десятка тысяч человек (не считая пражан) ни один не слышал о великом палеонтологе из Богемии Иоахиме Барранде, а он — значительнейшая фигура в трилобитовом мире. Ну и пусть: памятником ему служат геологические карты его родной Богемии, да и сама материя геологического времени. Копнув немного глубже, исследователь увидит имя Барранда в названиях сотни важнейших окаменелостей. А затем обнаружит, что Барранду, как и любому другому, случалось ошибаться, особенно в обсуждении последовательности возникновения животных в его родной Богемии; эти ошибки произошли из-за неправильного сопоставления (или, как говорят, корреляции) пород. Неважно: здание науки строится не из ошибок. Скорее, ошибки — это материал, который потом размусоливают историки, отслеживающие путь от идеи к принятой истине. В конце концов наш исследователь доберется до человеческой стороны Иоахима Барранда и поймет его, придирчивого перфекциониста, посвятившего жизнь распространению в мире знаний о богатстве палеозойских пород Богемии и назвавшего моллюска именем своей домоправительницы. Подобно Марселю Прусту, чья неврастеническая одержимость породила один из самых великих и длинных романов, Барранд посвятил свою жизнь одной великой идее. Как и Пруст, Барранд жил в городской квартире, и его дом вела домоправительница с железным характером. Наука в основе своей — просто один из видов человеческой деятельности и, следовательно, отражает все слабости и причуды человеческой природы. История жизни ученого подобна любым другим историям, о подробностях ее точно так же интересно посплетничать. Но для Науки с большой буквы не имеет значения, был ли Барранд святым или грешником, трансвеститом или вообще сменил пол, не имеет значения до тех пор, пока он оставался честен.
Для человека думающего, ищущего в жизни смысл, наука тем, быть может, привлекательна, что дает обещание бессмертия, правда, не совсем обычного. Другие обещания посмертного существования в наше нерелигиозное время подрастеряли свою убедительность. И если нравственные добродетели сами по себе являются наградой, то наградой научным добродетелям становится вечность — обещание, что вы меняете мир к лучшему. Самый очевидный и простой пример — когда исследователь навсегда дает свое имя новой идее или открытию: болезнь Крейтцфельда-Якоба, синдром Аспергера, принцип неопределенности Гейзенберга, комета Галлея. В биологии и палеонтологии название вида навсегда прикрепляет к себе имя человека, описавшего этот вид и давшего ему название: например, трилобиты Illaenus katzeri Barrande или Balnibarbi erugata Fortey подарили нам чуточку бессмертия. В других областях науки происходит то же самое, может, не так прямо. Смерть, конечно, не обманешь, но открытия, сделанные, пока мы дышим, вполне способны пережить бренное тело.
Я думаю, что на примере трилобитов можно наглядно увидеть творческую часть научного процесса. В исследованиях по ядерной физике или физиологии задействованы тысячи ученых. Открытия там совершаются постоянно, и они то и дело заставляют пересматривать наши представления. Мне рассказывали, что журнальные публикации в этих областях через десять лет едва ли кто вспомнит. Ученые не успевают следить за тем, что делают их коллеги, не говоря уже о глубоком изучении научного исторического наследия. История выбрасывается за борт, как ненужный балласт, мешающий удержаться на передовой. В то же время, чтобы не сталкиваться с высокой конкуренцией и справиться с техническими трудностями, ученым приходится очень узко специализироваться. Выпустите мяч на секунду из поля зрения, и — раз! — кто-то уже бежит с ним дальше. Совсем иначе с трилобитами: сама их древность позволяет не спеша разбирать историю во всех подробностях. Мы с одинаковой легкостью находим общий язык с доктором Ллуйдом из XVII столетия, с современниками Линнея из XVIII или с Уолкоттом и Баррандом из XIX в. Открытия прошлого века естественно перенимали знания предыдущих столетий, не совсем плавно, конечно, потому что дорога открытий всегда состоит из рывков и остановок. Так, Гарри Уиттингтон не открыл бы подробности личиночного развития трилобитов, не будь у него достойных предшественников, таких как сэр Джеймс Стабблфилд или профессор Бичер. Мы постоянно обращаемся к прошлому; библиотека — именно то место, где отдается дань прошедшим до нас. Литература о трилобитах не стареет. И хотя в нашей паутине знаний трилобиты оттеснены на окраины, они чувствуют те же подрагивания и отзываются на те же сигналы, что и науки, находящиеся в центре внимания. История трилобитов говорит о том, что прошлое изменяемо и что, совершив открытие, мы переписываем исторические сюжеты. Палеонтолог призван создать прошлое заново. Есть ли задача более ответственная для воображения ученого!
Некоторые до сих пор считают, что наука и искусство суть вещи противоположные. Первое расчленяет, второе складывает.
В 1950 г. Чарльз Перси Сноу, писатель и государственный деятель, подчеркнул этот разрыв знаменитым термином «две культуры». Взгляды Сноу имели длинную родословную, отсылавшую нас, например, к мистику, поэту и художнику Уильяму Блейку, а также и к тем, кто противился «экспериментаторскому» подходу, которому покровительствовало британское Королевское общество XVIII столетия вместе с учеными западного мира. Предполагалось, что художник с помощью воображаемых материй докопается до истин более великих, чем одержимый ученый, который отрывает крылышки бабочке, чтобы разгадать ее секрет. Позиция критика предельно ясно выражена в стихотворении Эдгара Аллана По:
- Наука! Ты — дитя Седых Времен!
- Меняя все вниманьем глаз прозрачных,
- Зачем тревожишь ты поэта сон,
- О коршун, крылья чьи — взмах истин мрачных![55]
И что же тогда палеонтология, если не «дитя седых времен»? Без этого она теряет всякий смысл.
В этой книге из главы в главу я переносил образ «внимательных прозрачных глаз», чтобы через него пришло понимание трилобитового мира; также этот образ у меня связан с ученым, вглядывающимся в окаменелое животное, чтобы вдохнуть в него жизнь: глаза в глаза, не мигая. Мы вглядываемся — значит, мы познаем. Но тем не менее все наше знание я считаю материалом, из которого лепит художник. Даже самое незначительное научное открытие приносит радость, и истина блестит и трепещет радужными крыльями махаона.
Так почему же столько людей подозрительно относится к науке и ученым? На ум приходят несколько образов. Во-первых, это растиражированный телевизионными рекламами типаж, который я бы назвал «мягкотелый умник». Лысеющая макушка, остатки волос курчавятся на висках, отчаянный нервный тик такой силы, что мухи разлетаются, наш умник в страшном возбуждении носится со своим последним открытием — обычно с какой-нибудь штуковиной непонятного назначения. Одевается он в потрепанный мешковатый пиджак, из нагрудного кармана торчат отвертки. И очки — обязательные очки с толстыми стеклами. На самом деле и впрямь существует статистическая зависимость между близорукостью и интеллектуальным потенциалом. Телосложения этот умник хилого. Почему-то считается, что развитие мозга должно происходить за счет развития физического. Будто бы мозги паразитируют на остальном теле: чем больше растет череп, тем меньше становятся бицепсы и грудные мышцы, пока не достигается состояние идеального умника — мощный мозг на тонких ножках, этакий палочник с калькулятором вместо головы. Профессор Калькулюс из комиксов про Тинтина, молодого репортера, — типичный пример такого ученого: умного как никто, все время витающего в облаках, и для достижения реального результата ему явно недостает приземленного здравого смысла. Его изобретения поначалу неизменно приводили к катастрофам. Но при этом никто не сомневался, что сердце у него доброе. Радуясь за других, он всегда изобретает что-то немножко волшебное — какие-нибудь предметы, которые умеют совершать невозможные вещи в самое неожиданное время. Современный вариант умника больше ориентирован на компьютеры: он играет на клавиатуре своих машин с отрешенностью концертирующего пианиста. Его электронное мастерство рождает… прекрасного робота? машину времени?
Ученый по Эдгару По[56] в целом более зловещий — этакий бессердечный кромсатель невинных животных, или генный инженер, или плотник от анатомии, примерно как в «Острове доктора Моро». История Г. Уэллса легла в основу нескольких фильмов; вышеозначенный доктор населяет свой остров мерзкими химерами, жестоко перекроенными из разных видов животных. И как это часто случается с фантазиями Уэллса, то, что когда-то казалось плодом извращенного воображения, сегодня кажется почти возможным, хотя и не таким зловещим. Мы больше не верим, что пересаженное сердце свиньи может придать реципиенту «свинообразие». Тем не менее Уэллс внес свою лепту в демонизацию образа ученого, показав, что может произойти, если технические возможности не соотнесены с морально-этической ответственностью. В конце концов, у нас есть примеры из эры нацистов середины XX столетия, которые оставят далеко позади самые тягостные кошмары Уэллса. Совершившего эти безумства вряд ли можно назвать «коршуном, чьи крылья — взмах истин мрачных» из сонета По, потому что такой преступник совершает зло намного более активно, чем просто коршун-падальщик. Два типажа ученого — доброго и наводящего ужас — отражают ту двусмысленность в восприятии науки, которая свойственна расхожему мнению. С одной стороны, многие видят в ученых панацею, еженедельно выдающих на-гора готовые решения. С другой стороны, сам факт решения и непонятный язык, которым это решение объясняется, ведет к отчуждению, к ощущению того, что нас водят за нос: как, например, персонаж Стенли Кубрика доктор Стрейнджлав или хозяева лабораторий, которые Джеймс Бонд пускает ко дну во имя счастья всех нас.
К трилобитам тем не менее претензий нет. Я полагаю, что образ палеонтолога будет ближе к профессору Калькулюсу, чем к доктору Стрейнджлаву. И как ни старайся, я не могу сочинить сценарий, в котором тоталитарный режим ухитрился бы угнетать народ с помощью науки о трилобитах. «Ага, мистер Бонд! Вы прибыли как раз вовремя, трилобиты прямо сейчас восторжествуют над человечеством!» Я бы сказал, что 80% всех научных исследований так же безвредны в этическом плане, как и исследования трилобитов. Парадокс в том, что именно из-за этой безвредности очень трудно найти деньги на исследования: за деньги не грызутся только научные области, связанные с медициной или войной.
Вот она, чума современных Эдгаров По! Они вынуждены обращаться к скучнейшей теме добывания денег на исследования, которые не принесут и не могут принести ощутимых результатов в течение финансового года, когда бухгалтеры вытаскивают из ящиков свои электронные счеты. Требуется гораздо больше времени, чтобы понять реальную ценность такого академического исследования. Возьмем, например, повсеместное увлечение динозаврами и вспомним, что именно преданные своему делу, упорные ученые собрали из кусочков этих фантастических животных. Иногда этот процесс занимает десятилетие: выкопать, подготовить и потом собрать разрозненные фрагменты, в конце концов, облечь кости воображаемой плотью. Представьте, если бы мы не узнали о тираннозаврах, жизнь скольких детей стала бы намного беднее. В конце концов тщательная научная работа оказалась вознаграждена даже деньгами, если принять во внимание все книги и фильмы про динозавров и другую менее симпатичную побочную продукцию.
Я представляю, как изображенный здесь мой трилобит с трезубцем на голове однажды разбудит любопытство какого-нибудь ребенка, а потом этот любопытный малыш станет настоящим ученым, увлеченным поисками сокровищ истины. Или же мой трилобит захватит воображение поэта, и тот перепишет заново мрачный образ, выпущенный Эдгаром Алланом По: коршуна превратит в свободно парящего красавца орла.
И никогда ведь не скажешь, мол, пора остановиться, мы знаем уже достаточно. Мы раскопали дюжину динозавров — зачем нам нужен тринадцатый? И что, в мире не хватает трилобитов?
На что я отвечу: поиск не закончится никогда, мы никогда не знаем наперед, что ждет за следующим поворотом или что прячется внутри очередного камня. Мой трилобит с трезубцем был призраком, химерой, его просто не могло быть, и тем не менее вот он перед вами. Мир был бы намного беднее, если бы мы не нашли его. Я предвижу множество подобных открытий и фактов — если хотите, поразительных фактов. Может быть, какой-нибудь удачливый исследователь отыщет конечности трилобитовой личинки, и мы узнаем, чем отличалась жизнь личинки от жизни взрослого животного. Или кто-то найдет почившего докембрийского предка трилобитов во всей его, теперь уже вечной, красе? И мы должны быть готовы встретить эти чудесные открытия, которые объяснят нам все про ножки личинок, как некогда Уолкотт объяснил про ножки трилобитов. Как это не похоже на «скучные материи» Грэдграйновских фактов: это крылья нашего воображения. Как бы мне хотелось пожить подольше, чтобы все это узнать, но даже и тогда я не воскликнул бы: «Хватит!»
Очень трудно прогнозировать, как будущие открытия увяжутся друг с другом в паутине знаний, ведь эти связи зависят от продвижения десятка смежных дисциплин. Но я убежден, что новые связи обязательно возникнут, потому что в прошлом всегда так и происходило. Хотя про рынок акций говорят, что «прошлые удачи не гарантируют прибылей в будущем», разумный человек учтет столетний опыт неуклонного роста дивидендов от вложений в те или иные акции. Я могу предположить, что физики заинтересуются оптикой трилобитовых глаз, и мы лучше узнаем, как трилобиты видели. И тогда наши трилобиты с первозданной ясностью увидят исчезнувший мир. Молекулярные исследования помогут сравнить между собой современных родственников трилобитов; и мы поймем, на какие черты анатомического строения следует обратить внимание.
И наверняка поймем, как трилобиты сбрасывали свой панцирь: электронный микроскоп позволит увидеть все до мельчайших кристалликов. А может, мы обнаружим в панцирях следы редких элементов — ведь, возможно, в шкурках концентрировались какие-то элементы, как сегодня в тканях животных накапливаются различные загрязняющие вещества из окружающей среды, — и по ним мы сможем узнать нечто важное об исчезнувших морях; современные технологии так точны, что определяют самое мизерное количество включений, даже если их одна часть на миллиард. И геологическое время станет у нас отсчитываться надежно и точно, и вот уже историки спешат к нам с протянутой рукой. Если так, то трилобитам больше не нужно будет исправлять службу геологического метронома, а мы, напротив, станем по новым точным геологическим часам выверять эволюционную историю трилобитов; и тогда нам откроются новые стороны эволюционных механизмов, так занимавших несчастного Рудольфа Кауфмана. В этом новом качестве трилобиты могут оказаться востребованы — они предстанут дрозофилой палеозойской эры, лабораторным материалом для изучения истории жизни.
Конечно, это мечты. И все же я знаю, что нет ничего прекраснее дороги к мечте, что жажда познания — это одна из лучших сторон человеческой натуры и что трилобиты наградят исследователя валютой более звонкой, чем доллар, и более весомой, чем слава.
Благодарности
Прежде всего я хотел бы поблагодарить профессора Гарри Уиттингтона, патриарха палеонтологии, за то, что он принял меня в круг профессионалов, и за его щедрость, с которой он в последнее время предоставлял мне в пользование фотографии. Я признателен профессорам Винифред Хаас, Брайану Чаттертону, Юану Кларксону, Рикардо Левисетти, докторам Дереку Сиветеру, Бобу Оуэнсу, Эллис Йохельсон, Адриану Раштону, а также Музею естественной истории — все они с готовностью поделились со мной многочисленными фотографиями, существенно обогатившими книгу. Хезер Годвин не только редактировала книгу, но и постоянно поддерживала меня, и я в долгу перед ней за каждую написанную страницу. Робин Кокс был первым, кто читал рукопись, он сделал несколько замечаний, привнесших ценный вклад в конечный вариант. Моя жена аккуратно выверяла гранки. Отдельно хотелось бы поблагодарить Клер Мелиш за техническую поддержку и Николу Уэбб за помощь в переводах с немецкого. Арабелла Пайк и Майкл Фишуик из издательства постоянно помогали и поддерживали меня. Арабелла заметила и исправила множество мелких ошибок, ее неизменный юмор провел меня через непростой процесс издания книги. Я благодарен моим попутчикам из поезда в 8:02, которые не однажды поднимали мне настроение, когда я впадал в уныние. И, наконец, я никогда не смог бы написать эту книгу, если бы не сотрудничество с моими коллегами-трилобитчиками, разбросанными по всему миру. К сожалению, здесь нет возможности назвать их всех.
Указатель латинских названий
Курсивом указаны страницы с иллюстрациями
Acanthopleurella 204, 205
Agnostus 41, 89, 265, 273
A.pisiformis 89, 179, 312
Ampyx 265, 278, 318
A. salteri Hicks 64, 65
Asaphus 239
Bathyurellus 230
Bathyuridae 230, 231, 233
Bathyurus 232
Bergeroniellus 158
Bonnia 142
Bumastus 92, 246, 309
Calymene 40, 92, 93, 201, 235, 236, 265, 280, 314
C. blumenbachii 92
C. senaria 73
Canadaspis 151
Carolinites 130, 131, 278
Ceraurus pleurexanthemus 71, 75
Cheirurus 214
Cloacaspis 82
Cnemidopyge 200, 202, 245, 318
Comura 95, 323
Corynexochus 275
Crotalocephalus 95, 243, 316
Cruziana 149
C. semiplicata 271
Cybelurus 262
Cyclopyge 91, 130, 131, 278
Dalmanites 95, 280, 309
D. socialis 287
Damesella 275
Deanaspis goldfussi 287, 290
Dicranurus 282
Dionide formosa 287
Drepanura 275, 276, 279