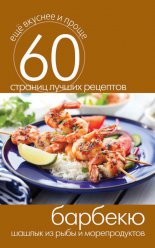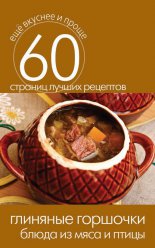Ура! Шаргунов Сергей
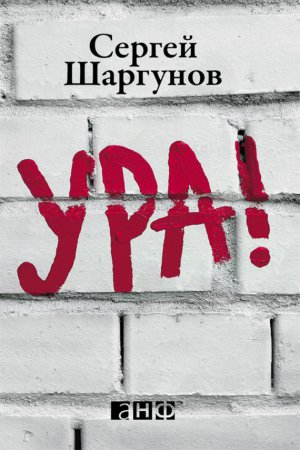
КРОШКА МОЯ, Я ПО ТЕБЕ СКУЧАЮ!
— Се-ергей? — вкрадчиво звучит в телефоне. — Привет, это Алиса, — голый обиженный голос.
— Я не хочу с тобой разговаривать, — отвечаю я и вешаю недавнюю подругу.
Тугое ее тело покачивается на виселице, взбалтывая мрачными грудями. А я когда-то имел к ней отношение.
Нет, я ищу хорошей пронзительной любви. И у меня, кажется, начинается такая любовь к одной красивой крымской девочке. Я был там этим летом. Свел нас ее брат, который у меня прикурил на улице. Прикурил, а затем мы с ним разговорились.
Ей всего четырнадцать, Лене. «Модельная внешность», — как все говорят, чавкая этим определением. Точеная, с уже пружинистой грудью, с огромной усмешкой серых глаз, и тонкими скулами, и крупным ярким пузырем губ. Я бы сравнил ее красоту с уродством. Слишком красивая, почти уродец. Зверская красота. У нее и фамилия зверская и сочная — Мясникова. Она живет с матерью и братом в хилой лачуге в деревне Ливадия, нет ни радио, ни даже книг в доме, да прикинь, вообще ни одной книги, кроме засаленной брошюрки «Сад и огород»! По экрану старого телевизора идет серая рябь… Зато у порога растет деревце алычи с желтыми ягодами, и на зиму Мясниковы обставляются банками алычового прозрачного компота. Отец, русский морской капитан, давным-давно скрылся. Мать Лены — хохлушка Надя, уже с морщинами и дряблостью, раньше работала в Ялте официанткой, а теперь иногда выезжает в Одессу торговать тряпками. Брат Славик старше Лены на год и совсем неказистый.
Славик еле кончил восемь классов, хотя он хваткий малый, и теперь тусуется на пятачке в центре Ливадии с ровесниками. Пацаны тягуче сплевывают в горячую пыль (это стиль тут такой — плевать тягуче!) и ждут машин, какие бы помыть, к вечеру нажираются, укуриваются хэша, Славик приползает домой. Конечно, он страшно деградирует день за днем, и речь его в подражание корешам бредово-блатная. Славик чрезвычайно горд сестрой: «Блин, — говорит он, и в улыбке — обломок зуба. — Я иду по местности и горжусь, Серег, потому что я знаю, КАКАЯ у меня сестра. Если б я ей не был братом, я бы ее… Я бы ее, Серег, имел — и плакал, имел — и плакал…» Гордость распирает его, и он выпячивает впалую грудь. Славик так КРИЧИТ. Кричать — значит заявлять, рассказывать о чем-то. И у меня в душе все кричит. И я тебе, читатель, подробнее прокричу про Лену Мясникову!
Целый день работает Лена Мясникова. С восхода над морем до заката. Ее и других наняли за бесценок в подвал, час за часом она обтягивает скользкие бутылки бумажными наклейками, бутылки поддельного вина. Работает на криминал девочка. Я однажды зашел в ее подвал на уровне фундамента старинного здания, некогда царской конюшни. Кто-то грубо бранился, а в ответ — шуршащие покорные звуки труда. Я сошел по лестнице, дверь в комнату труда была приоткрыта, спертый горький воздух. «Чё тебе?» — дернулся ко мне горькоротый, с раздутой щекой мужик. Тут Лена меня заметила, она подбежала, отделившись от молодых и немолодых теней. Выставила меня за порог. Она была бледна, и ноздри ее тонко дрожали гневом. «Мне выговор будет. Мне нельзя отлучаться. И сюда не ходи. Все». И она исчезла. Я поднимался по лестнице на солнечный воздух, а за спиной звучал голос, вымазанный в грязи: «Иди, иди, топай!» Я топал. Я вышел на улицу и праздной ногой поскользнулся на ягодке алычи. Удержал равновесие, солнце скакнуло в глазах. Ах, как кисло и сладко на поверхности!
Вечером Лена, осунувшаяся, выбирается из подвала, за ней цепляется некто Юля. Тоже работница с бутылками, мелкая дурнуха, помидор рожицы под копной черных волос. Вот девочки освободились и, переодевшись, отправляются в Ялту. Оторваться, оттянуться! Надо ловить момент, пока Ялта грохочет летними увеселениями. Лена знает свою красоту, она боится пропасть и подружку тянет за собой.
— Мне Мисс красоты дали, — хвастает Лена, широко, акульи улыбаясь. — Все мне хлопали, цветы подарили, у нас потом долго стояли эти цветы… Оранжевые.
— А где все происходило?
— Да там… — она уже недовольна, — в клубе одном… «Кактус» называется.
О, она ослепительно скрытна, ее простодушная семья ничего не знает о делах красотки, а мелкая Юля — молчунья-сообщница.
— Мы сегодня в «Кактус» собираемся, — продолжает Лена и ледяно дергает плечиком: — Не хочешь с нами?
Конечно, хочу.
И сейчас я прокричу вам, как она, Лена, проводит время. Под гром хлопушек и гомон гуляющих, у зеленой вывески «КАКТУС» и мощного фаллообразного рисунка я стоял и ждал. Рисунок отбрасывал толстый свет, я был заляпан кактусовым соком… Ждал их полчаса. «Привет, извини», — равнодушно моргнула красотка, вся в серебристом и обтягивающем, ее единственный наряд — платье-чешуя. Меня не пустили с ними. Парубок-охранник прогудел: «В шортах не можно, и в босоножках геть отсель!» Я выскочил, разъяренный. Поймал такси, умчал к себе на гору и там, наспех натянув цивильное, бросился в машину, и вот уже меня впустили.
Я ориентировался легко, закаленный московскими клубами. Я прошел сквозь голубеющий чад, смуглый, бритый, скуластый, и сразу заметил моих девочек. Они невинно ворковали за столиком у грузного желтолицего старика. Старик слащаво щурился на Леночку, старик состоял из дряхлых кулей дерьма, весь расползался в кресле. Ужасная сцена. Лена вскинула бесконечные глаза и зашипела. Я криво усмехнулся: «Добрый вечер», мои глаза его расстреляли. Он это понял и в отместку погладил Лене колено. «Дура, с кем она путается!» Я сел неподалеку и, что поделать, то и дело оборачивался на них.
Сидел я у стеклянной стены, за которой мрачно пенилось море и кроваво мигал маяк. А здесь все гремело и рыдало неудержимым весельем. За одним столом братва, крепыши, затянули сбивчивую песню. За другим — суетливо рылись в еде иностранцы, их-то допустили и в шортах, и даже в панамах. Я зло озирал мир. Только море было со мной заодно, и маяк мне заговорщицки подмигивал: «Отомсти! Отомсти!» Я сжал руки, смуглые кулаки улеглись рядом с хрупким бокалом. Я все сжимал кулаки и разжимал.
— Кулак? — спросила, проходя, баба с вывороченными губами. — Это что значит?
— Это мужество… Наверно, знак мужества… — тотчас подтявкнул ее спутник-карлик.
Они прошли.
Потом все же подсели ко мне ливадийские девочки, мы пили всякие мартини. Лена вертелась. «Это очень важный человек!» — сказала она про дерьмового старика. Я хотел раздразнить Лену, желтоголовую, и стал заигрывать с ее подружкой Юлей. Но Юля тупо и темно была безответна, а Лена все дергала желтой головой, нетерпеливая, кого-то высматривая. Вскоре она вспорхнула, и неуклюжая Юля — за ней.
И тут началось самое дикое. Эти две девочки пошли от столика к столику! Я оторопел. Их уже знали! Какие-то вязкие уголовники, тупорылые богачи… Девочки присаживались. К ним наклонялись жующие морды, им заказывали сласти. Они кормились у столиков! Дура, дура, Лена, идиотка, неужели ты думаешь, что это твой парад красоты? Дура! Ранняя потаскушка!
Надо объясниться, читатель. Дело в том, что она еще девственница, Лена. Это она дает понять, и брат с матерью это знают. У нее еще никого не было. Чего она добивается, разгуливая по такому заведению? Ее изнасилуют и бросят в вонючий кювет, и будет лежать полуживая и стонать в звездной ночи. Они грызли чипсы и орешки детскими зубками, обходя столики. Но я не знал, что делать, и я ничего не делал, я отпивал, ухмылялся своим мыслям, и маяк за моей спиной многоопытно подмигивал, и море иронично шумело. А потом девочки исчезли. Я встал и пошел их искать в глубь клуба. Оттуда вылетали облака голубого дыма и обрывки грохота. Я сидел бы на месте и дальше пил, если бы Лена была блядь… Но она же ничего не соображает. Что там с ними? И я пошел вглубь.
Кислотный ад. Обдолбанная толпа увивалась вокруг своей мелодии, все тонуло в вонючем дыму. А над головами утопающих навис узкий балкончик, и среди дымных клубов я приметил ВРАГОВ. Это были тертые московские диджеи. Пронаркоманенные насквозь, они о чем-то липко совещались, я различил сизые рты. Слиплись на балконе… Я их раздавил своим быстрым взглядом, размазал их по потолку.
Девочек в клубе не было. Я обнаружил девочек уже на улице. «Вы не могли бы нам помочь?» — кокетливо-заинтересованно бросилась ко мне Лена, страшное равнодушие сквозило. Оказывается, они вырвались из какой-то мутной ситуации, и теперь у них не было денег, чтобы вернуться в свою деревню. «Поедемте вместе, — сказала Лена звонко. — Погуляем там у нас, а?» Да, и мы помчали по серой дороге, кустарники царапали нам стекла. На заднем сиденье был я с Леной, она ерзала, то отодвинется, то прихлынет. Мы подскочили на повороте к их Ливадии, и тут Лена опять прихлынула, она мокро заговорила мне на ухо: «Извините, мы ужасно хотим спать. Спасибо, что вы… вы нас довезли…»
Зови меня на «ты», Мясникова!
Подруги выкатились из машины и поплыли к себе, а я сел на ливадийском пятачке и начал пить. Покупал в палатке пиво, бутылка за бутылкой. Напевал себе какие-то красногвардейские и белогвардейские гимны. Потом светало в считанные мгновения и нарастало тепло. Пошатываясь, я вышел на край улицы, внизу, в зелени рва, тусклый сон досыпали домики, невесомо бурлило море. Закричали петухи. Одно «кукареку» растянулось так хрипленько, так искренне. Грубые краски у морской зари: тяп-ляп, оранжевая, фиолетовая краска. Солнце сально взбухло. Волны колебались светлыми тенями. Это все вышло неинтересно и постыло. Только петушиные вопли меня и позабавили.
А через час я встретил Славика Мясникова. «Здоров!» Мы поприветствовались с пацанами, и я отвел его в сторону. Я был пьян и возмущен. «Послушай, говорил я. — Она ходила от столика к столику… Почему? Она еще целка, а уже блядь! Почему?» То есть я стучал на его сестренку. Он хмуро кивал.
Он мне принялся рассказывать про ее похождения:
— Знаешь, Серег, весной такой кипеш поднялся. Ленка с Юлькой заскакивают в дом: «Быстро шторы напяливай», — типа их бандюки довезли из клуба, а потом наши девки вырвались и из тачки сбежали. Эти бандюки всю ночь по деревне носились, фарами светили по окнам…
Я подумал: ого! По лезвию ты порхаешь, Лена. А он смачно рассказывал:
— К ней ездил мужик из Донецка, мне бабла сунул. Башка у него желтая и голая. Башка — как ягодка алычи, Серег. Мужик-то ей подарки делал. Он ее на тачке катал. Черный джип у него!
— Смотри, — сказал я, — Славик, выкинут ее на обочину из черного джипа…
Увы, я редко стал заезжать к Мясниковым. Я весь отдался разгулам, и каждую ночь — очередное мятое тело. Скалились ялтинские телки, булькали напитки, мутились процессы. Я лишь утром оставался один и засыпал под славные перезвоны городской церкви и ревнивые трели пташек. Спал недолго в солнечных бликах. Вставал, маршево брел из комнаты вниз с горы, солнце прожигало темное темя. Я купался, делал сильные заплывы. Наконец меня оглушил солнечный удар.
Каждый шаг отзывается в виске, и стальная стая иголок скачет с зябким перезвоном и рушится о каменное дно. Жаровня внутри у меня, где-то под сердцем, и сердце прерывисто выстукивает. Алый жар под кожей. Полуживой, я выбрался вечером на набережную. Аттракционы, клоуны, небо качается в авоське прожекторов… А зимой все опустеет, и Леночка Мясникова будет сидеть в своей пальмовой деревне за несколько километров отсюда, где если прошел незнакомый человек — уже событие. С этой мыслью я наткнулся на Лену. Она подскочила. «Ты все рассказал Славе! — протараторила слезливо. — Предатель!» — отвернулась и пропала. Мелькнула, как знамя. Такая красивая.
Я опустился в открытое кафе у моря. Над баром черное нутро динамика ритмично сотрясалось. «Как у негритянки», — представил я. Я думал о Лене. Маяк подмигивал моему сердцу, какой-то намек на влюбленность. Она такая женственная, наверно, неисправимо женственная — Лена. По всему побережью на мелкой гальке сидели серые люди. Сумрак скрадывал их движения. А вокруг за красными столиками ржали, под столами дрыгали ногами в такт музыке.
Назавтра я приехал в Ливадию. Зашел к бедным Мясниковым, гостинцы принес, еды. Девочки не было. И я уже пошел к остановке, сесть в маршрутку и убраться восвояси, как она окликнула: «Сережа!» Я подошел. Она и Юля стояли у бледной витрины магазинчика.
— Уезжаете?
— Завтра, Лена, уезжаю в Москву.
Она приблизилась:
— Приезжай, — и поцеловала меня длинно у этой блеклой витрины.
Может, я описываю расплывчато. Например, я о ее мамаше почти ничего не пишу. Ну, про мать ее я знаю, что Надежда Ковальчук приехала в Киев поступать в институт. Не поступила, долго жила в общежитии, где было блядство и пристрастили к алкоголю. И вся жизнь у Нади так пошла: пару раз за год она запивает. А что в наше время может ждать ее тоненькую дочку? Кто? Но Лена кокетничает со всеми без разбора, с пожирающей ее жизнью. Ей бы простого парня, не красавчика, а обычного, который был бы от нее без ума и крепко держал семью. Однако она уже учуяла себе цену и рвется вперед, в бары, к прищурам богатых людей…
Эй! У меня планы серьезные. Я хочу защитить чувства от шин черных джипов. Не хочу отдавать вам ливадийскую девочку, рыхлые вы скоты с холодными членами. Хочу влюбиться, чтобы и Лена в меня влюбилась. Раньше у меня была мучительная любовь к задастой Алисе. Потом я надолго разуверился во всем и теперь жду реабилитации чувств. Любовь надо мной надругалась, а нужны мне были чувства горячие и сильные. Я был кинут в грязь лицом и долго, где-то два года, не мог оправиться, уползал по грязи. Клонился к луже и узнавал свой набрякший лик. Помню, в апрельский денек я шаркаю по Манежу, правую руку придерживая левой. Левая парализована, чугунная, после неудачной вчерашней колки. Если засучить рукав, под курткой и под свитером — на вене красненькие следы уколов.
После все этих надругательств жизни я хочу заорать: дайте мне любовь! И теперь, оказавшись в курортном Крыму, я волочился за ускользающей Леночкой Мясниковой, 14, заставлял себя ее преследовать… Я алчный, очень алчный, жажду любви. И вопль мой — о любви.
У нас будут красивые дети. Образцовая семья. И сгинет наваждение алкоголя, наркотиков, распад остановится. Я ведь наступательная железная личность, буду качать мышцы. Курить я уже бросил. Я смогу работать, как весело и исправно работал лет в семнадцать. Так и вижу нас: Шаргунов, Мясникова. Лену привезу в Москву.
Улыбчивые, мы с ней глубокой ночью пройдем по ветреной и сиротливой Красной площади. Продолжим наш длинный поцелуй на этой серой площади, когда нет там никаких людей и бегают собачьи стаи…
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРИКА
Происхождение «ура!» — тюркское. Переводится: «Бей!» Это «ура!» меня с детства занимало. Яростное, как фонтан крови. В этом слове — внезапность. Короткое, трехбуквенное. Все же захватчики принесли нам простор и поэзию. Мистика простоты. Заряд энергии. Есть слова, которые выплескиваются за свои пределы. Больше и шире, чем слова! Вязко шевелящийся «х…» заставляет себя писать на стене и в тетради. Никуда не убирается. Не вымарать и «ура!». Звуки-инстинкты. В них магия жизни. «Х…» — розовато-сизый, хрипловатый. А «ура!» — атакующе-алое. «Ура-а-а!» — и в ушах сразу глохнет, хохочут кровяные тельца, сердца — скачок! «Ура!» не стормозит, оно летит, бьет на лету! Хрустящая сердцевина арбуза, блик солнца на водной ряби и удар в мясо, в кости, отрывание жизни!
Страшно, когда на тебя орут: «Ура!», темнеет в глазах, и улепетываешь, лишь бы не навалились темной массой, не придушили.
Преподавательница музыкальной школы Валя, всю жизнь переживающая краткий роман с Бродским, утонченное нервное создание… На нее в подъезде набросился насильник, придавил к стене, расстегивая ширинку. Потрясенная, она вдруг выкрикнула: «Ура-а-а!» И… самца как ветром сдуло, только дверь подъезда хлопнула.
Салюты омывают небо, и рвется из глоток вопль. Однажды под гром праздника юная компания окружила мелкого японца.
— Не, а какие твои пацанские понятия? — настаивали они.
Подростки были возбуждены, то и дело они отвлекались от японца, чтобы вбросить в воздух очередную дозу: «Ура!» Японец обморочно улыбался, по лицу его скользили разноцветные отблески. К концу салюта он потерял сознание.
Для скольких этот звук был последним в жизни, сколько душ впитал он в себя. Бежали слепо, цепляясь за свой же крик, и получали пулю, кроваво давясь криком. На войне все кричат: «Ура!» Из отчаянного командирского зова вырастает общий хор, ветвистое могучее дерево. Я предлагаю вам новый Миф. Миф о Древе Ура. Золотистая крона гудит и шепчется над полями войн.
Корни костистые, плоды красные и кора… Толстенная кора!
НИЧЕГО НЕ ИСКАЛИ?
«Не хотите поразвлечься?» — вкрадчиво прозвучало в телефоне. Поразвлечься! На станции «Красные ворота» с купюрой в кармане джинсов я стоял, придавленный к мраморной стене унылым ожиданием. Но вот нарисовалась резвая фигура, Макар, размашистый шаг, на плече раскачивалась сумка. Он налетел, мокрые кроличьи зубы:
— Давно ждешь? Нет? — Я на лету сунул ему руку. — Пойдем, пойдем!- Глаза серенько смеялись и, казалось, шли пузыриками, он тянул меня на эскалатор.
— А Алиса?
— Она наверху, наверху…
Макар весь извивался, с желтым петухом волос, в зеленых штанах-шароварах, усеянных карманами. Он вскидывал кадык: «А мы с Алиской уже с утра гонца послали. Клевый, говорят, товарец».
Над эскалатором плыли щиты реклам.
— Глянь! — Он ткнул меня пальцем в грудь. — Удачное решение, а? Отли-ично! — и причмокнул, как чирикнул.
Это он про какой-то щит.
— Который? — спросил я.
— Эх ты, разиня! Проглядел… — Он хлопнул по плечу: — А ты-то сколько берешь?
Пауза. Что я понимаю в вашем героине… Я пожал плечами.
Мы были уже на улице.
— Алиса где? — Щурясь от ветра, я следовал за проводником. Сочно вгрызаясь в ноготь, он пересекал улицу.
Встали у памятника Лермонтову. Под ногами поэта был барельеф. Серый извивался демон в каменно-узорчатом пламени.
— Так Алиса где?
— О! — вместо ответа сырым ногтем показал Макар. — Супер ваще! Памятник демону! Прикинь?
Я отвернул лицо.
— Мерзнешь? — сверлил за спиной голос. — Мерзнешь. А чего ты оделся по-лоховски? Теплей надо было.
— Как захотел, — буркнул я.
— Эх ты, хоть бы воротник поднял… — И тут же грубые руки схватили меня за шиворот: — Дай хоть поправлю!
— Пусти. — Я отпихнул его и с одной воротниной, поднятой, присел на камень.
— Встань, встань. Машинку себе застудишь. Работать машинка твоя не будет!
Сидел я молча, окаменев, принимая набеги ветра. А он, наклонившись, стал жгуче подмигивать, как при тике.
«Вы!» — донесся жирный кокетливый голос. У тротуара остановилось авто, и Алиса, высунувшись, гребла к себе рукой. Мы поспешили забраться на заднее сиденье. Там свернулась еще одна девка.
Ехали мы по родному городу. Проплывали — здание детсадика, почта, перекресток, палатка цветов, светлая зелень деревьев… И все это осквернено, над всем надругались. Кто? Сидящие в авто. Они еще не сдохли. Перебрасываясь словечками, они скользят глазами по моему городу. Как они смеют смотреть! Что они понимают? Вон старуха пролила пакет молока, стоит над белой лужей в недоумении. Вон ребятишки с пронзительным «ура-а!» бегут через дорогу… А они, героинщики, — из другой реальности, не из этих мест. Не смеют они смотреть!
Алиса оживленно базарила, шофер напрягался, и, расплющься мы сейчас в катастрофе, я был бы счастлив. Я бы сам сдох, но пускай и они сдохнут, пускай их искорежит. Алиса рассказывала, повернув темную голову: «А у подъезда толпа подростков ошивается. Нас окружили: „Вы к кислому? Пусть кислый выходит“, — а у них лица совсем невменяемые». И она залилась хохотом. Невменяемые, подумал я, смеешься над несчастными… Макар задергался: «Прикол, прикол!» «Ты деньги щас дашь?» — прошепелявила мне вторая барышня, Ирэн, вяло вздрагивая гусеницей рта.
А по прибытии в квартиру все началось. Я сидел на плюшевом диване, задумчивый, влюбленный в Родину. А Рустам бойко действовал. Он выложил шприцы. «Ложка и вода-а», — звякнула принесенными с кухни предметами Алиса. Ирэн сидела на полу и перебирала губами. За окном шумела автострада, и под пылью стекол различима была труба завода. Мощная труба, когда ее воздвигли усилиями народными, в каком году? Рустам был возбужден, готовя причиндалы, он весело кидался прибауточками, какие-то непонятные мне фразы. Ирэн смеялась нутряно и колыхалась грудями. В углу столика скапливались отбросы, упаковка шприцов, обертка…
О! Долгожданный комок! Все устремили взгляды. Макар выложил белый комок на ложку, а фантик жестко свернул и метнул в кучу отбросов. «Для барсука», рассмеялся скороговоркой. Барсук? Что-то сленговое… Ну а я вспомнил мальчика по кличке Барсук, шестнадцатилетнего, я его видел пару раз, умер он недавно от передозы. Мне вчера об этом сообщили. Такой юный — и исчез из жизни. «Барсук умер недавно», — выдавил я, и раздался общий гогот. «Ну ты сморозил!» подмигнул мне Макар, огоньком зажигалки подогревая ложку. Смеялись и обе дамы, у Ирэн личико было смуглое, измятое, точно подгнившее киви… И рот-гусеница.
«Так тебе сколько? — принялись меня травить. — Тебе отложить или все сразу?» А я в этом не понимал… «Побольше, побольше», — обреченно бормотал я. Первой кололи Алису. Она закатала рукав черной кофты. «Только не бо-ольно», ныла. Глаза она плотно зажмурила, так что морщины пошли. Пухлая, очень белая ручонка. Когда-то я любил тебя, Алиса. Рука как облако, и сквозь это облако едва сквозит голубизна. Чуть-чуть голубенького, а в основном все белое и пухлое. Вен нет. Неудачный укол. Хвостик крови не вильнул в шприце. Нет попадания. Макар озабоченно тыкал в вену, а Ирэн на руку навалилась. «Бо-ольно! — визжала Алиса. — Соседа… Позовите соседа, он умеет». Свинячий визг на всю квартиру, вены запрятались вглубь сала. А за окном призрачная труба завода…
И все же попали. Затаила дыхание Алиса, принимая в себя дозу. «Ложись, ложись!» — наставлял Макар, она растянулась на диване, он кинул ей на лицо черный бюстгальтер. Она лежала постанывая, и тут же взялись за меня. Увы, с первого раза не получилось.
По правде, читатель, у меня уже был красный бисер уколов, я до этого винтом обкололся. Помню рассвет на лестничной площадке. Приятель Стас мне руку затягивает ремнем. Приход! И сразу я стремительно улетаю вниз, и в сумеречном сознании отражается последняя картина: густые капли крови. Под ногами капли моей крови. И я падаю в эту кровь.
— Ишь! — ликовал Макар. — Да у тебя тут пузырь кровавый.
Ирэн подхихикнула и снова попробовала мне ввести, я сгибал и разгибал руку.
— Хорошие, хорошие вены, — шептал Макар, — выпуклые. — И белизна заходила в вену, растворяясь в Шаргунове Сергее.
Все. Вытащили шприц. Ватка. Я откинулся. Черные Алисины трусики полетели мне на лицо. Я лежал и гудел изнутри.
Потом было блуждание по квартире, жадное отхлебывание воды из бутылки «Святого источника». В общем, все это ужасно, читатель, и глупо.
— Шаргуно-ов, — завела меня Алиса в коридор. — Ну как? Правда успокаивает?
— Да уж.
— А давайте все время препарат принимать. Будем колоться, ну, раз в четыре дня…
«Подсела уже и меня подсаживает», — подумал я и издевательски согласился:
— А как же!
Успокаивает… В этом самая страшная инфернальная сторона героина. У героина нет качеств. Тысячи по всей нашей огромной стране колются не потому, что приятно. Нет, никак. Но без этого нельзя. Героин — материально воплощенное Ничто, Небытие… Скука смертная. Снежная поземка наших просторов.
Мы вывалились из дома. Меня тошнило, а они болтали. Правильно, им же меньше досталось, это у меня почти передоз. Поехали мы в какой-то клуб. Я высунулся в открытое окно, и тугой ветер затыкал мне рот, и хоть так я справлялся с рвотными позывами. А у клуба я их оставил. Я пошел замедленно прочь, и вокруг выросла стройка. Вечер. Работа затихла, замерли бетономешалки. Все серое, цементное, железные конструкции. Вдали малиново округлялся закат. И тут среди этого цемента меня трогательно и вырвало, прозрачным нескончаемым потоком… Закат малиновый.
Тянулись дни, и названивала Ирэн, та, которая шепелявит. «Поразвлечься не думаешь? Есть хорошего качества…» Я не выдержал: «Тебя ждет пуля. Ясно?» Она прошепелявила: «Яфно».
Я проклинаю фальшь. Что за разговор: тяжелые наркотики, легкие ли… Ненавижу эту чушь! Вы говорите: отрывайся как можешь, мы — свободное общество, но скины — это ужасно. А молодые бреют себе черепа, уходят в скины! Вы поучаете: бери от жизни все! Кури хэш, но только шприца не надо! А пацан начинает колоться и СПИД получает, вы презервативы навязываете, а мы назло вам совокупляемся беззащитно.
Общество неповоротливо, не ответит на простейший мой крик. Вот гашиш разве лучше героина? Ну да, безопасней. А в смысле поведения? Я помню, как, укурившись, смеялся над избитым солдатом…
Я шел себе мимо. Малой сидел на пне и зеленел бутылкой. Маленький скин. В черном капюшоне. За спиной у него была стена в диких надписях и ярких разводах. Он наклонил бутылку и полил песок. Песок искривился.
— Ты чего? — спросил я. — Горько?
Он кивнул с неподдельной гримасой:
— Противное, не привык пока.
— У меня то же самое, — подбодрил я. — Лет до шестнадцати пиво горчило.
Он резко вскочил, взбалтывая бутылку. Выругался и, обернувшись, швырнул о стену.
Пена со стеклом отекли вниз.
— Лучше гаш мутить. — Он потирал ноздрю вздернутого носа.
Я кивнул.
— Твердого? — удивился малой и зорко окинул дворик: — А чё? Место непалевное… Тебя как ваще?
— Серега.
— Артем. — Светлые глаза в ворохе ресниц. — Ловандер-то е?
— Сотка.
— Покажь!
Я взмахнул в воздухе купюрой.
— Чур вместе раскуриваем. — Он сцапал купюру и спустил в штаны-камуфляж. Просто с табаком смешаем, — и встряхнул черным капюшоном, и выскользнул на волю его голый череп.
Розовыми пальчиками малой развернул серебристую фольгу. Комочки гашиша. Распотрошил папиросу и стал ее пичкать гашишевой пылью. Мы дули. Я вдувал напряженно, до темени в глазах, и поймал на себе его пристальный взгляд. Этот скин меня буравил своими ясными гляделками.
— Ты! — спросил я, теряя потоки дыма. — Как жизнь молодая?
— Давай! — он выдернул папиросу. Обхватил расхлябанным ртом и дососал. Тут немного осталось, — выдал мне фольгу. — Захочешь, еще набьешь. Цигарки возьми. Ну, почапаю, — и быстро почапал прочь, отплевываясь.
Тоскливо дымил в песке окурок.
«А чё? Может, еще?» — думал я.
И стал мять папиросу. Табак, высыпаясь, полетел. Я забивал. Не глядя по сторонам. Я сжал губы и поволок в себя тучу. Горько поперхнулся, слезами облился…
Я двигал по Малой Никитской, когда смех нагнал меня. Я видел, как от гашиша гогочут подростки, но никогда не думал, что такое возможно со мной. Голубела вдаль мокрая улица. Было совсем не весело, я пробовал губы удержать. Но мощный хохот меня уносил. Так, смеясь, я скользил по улице. И тут я наткнулся. Лежит солдат. Зеленая форма. Кровь плыла по лицу, по шее и стекала за пазуху. Рядом на корточках сидел другой солдат и теребил:
— Сане-ек, встава-ай! Подымись!
А Санек охал сквозь красный ручей. Я попробовал руками сжать расползавшийся рот. Завопил кавказец-умора… «Беспредел! Беспредел это!» сиял он лицом обвинителя. Глаза его округлялись, как у барана. Второй хач, с топориным профилем, рвался к лежащему. Очевидно, солдат жутко ему нагрубил — и вот теперь расплатится!.. И получил с размаху, и еще получит. Хача удерживали мужички, на хача наседала громкая тетка, она слепила ему в лицо каким-то удостоверением, распахнутой коркой… А в стороне лохматый бомж оперся о костыль и равнодушнейше мигал.
Я давился смеховой икотой! Рот расстегивался! Я мелко дрожал губами, удерживая губы, но напрасно… Хохот! Солдат все охал, охал, а другой солдат поднимал его, бормоча… А я уносился с хохотом вдаль.
Вот до чего доводит хэш.
Так что никакой легализации никаких наркотиков!
В этом месте, читатель, надо сделать признание. Один раз я на наркоте заработал. Не важно, что там было. Получил выручку. Мерзкая махинация.
Это был мой желто-багровый, в вонючих дымах города месяц ноябрь. Я зло вступал в девятнадцатую в моей жизни зиму. У троллейбусной остановки напротив «Интуриста» лежал мужчина. Неподвижно. Мне показалось, на груди у него сложены руки. Но не в гробу, на сером асфальте он застыл — туловище на тротуаре, ноги на краю дороги. На остановке был народ, все сжались под стекло, как будто идет дождь, хотя был мороз и садилось оранжевое солнце. Я приблизился. Оказалось, это не руки, они-то раскинуты в стороны, а собачонка сидела у него на груди. Сидела на груди, светло-коричневая, вбирая в себя прощальное его тепло. Вот это да!
Под впечатлением трупа я вошел в кафе. С. Шаргунов — черная с круглыми пуговицами куртка, из нее выглядывало синее горлышко свитера, модно сплетенный, не свитер, а синяя кольчуга. Я заметил их за столиком, троих. Мафиози меня тоже заметил. Маслянистые глаза его ужаснулись (может, труп наложил на меня оттиск)… Мафиози стал суетливо рыться в кожаном кошельке. Остальные двое… Один — это был его и шофер, и охрана — спортивный, с узким лицом. Другой — лицо, состоящее из лоскутков. Все лицо из лоскутков мяса, некогда взорванного, полагаю. Сам Мафиози, толстяк в черном пиджаке, все еще рылся. Ага, вот уже вытащил в полумглу кафе несколько купюр. Протянул их мне, и тут с шелестом на стол у него выпала русская бумажка. «На, возьми и это!» пугливо сказал он. Я не отверг. «Ну, давай!» — кивнул он. Влажная мякоть руки накрыла мою руку. Я вышел в темно-синий ветреный город.
«Ах, Мафиози, вас еще повесят!» — напевал я в такт ветру. Хотите, товарищи, повесьте и меня, лишь бы не было этих Мафиози. Буду раскачиваться на ветру. Лишь бы рядом Мафиози, грузный, поскрипывал. Ах, если бы вместе со мной ушла и эта эпоха драгс!
Наркотик — враг. Часто хочешь нырнуть вглубь за неизведанным, надеясь, что откроется тебе что-то самое важное и все объяснит сразу. А когда разжимаешь руку, не жемчуг обнаруживаешь, а жабу или скорпиона… Проблема не в том, подсел ты или соскользнул. Наркотики выбрасывают в сферу распада. Каждый прием как клиническая смерть. Смерть на идейном уровне. Многие, и мои друзья тоже, превращаются в живых мертвецов. А я отказываюсь!
Если пойти по Никольской улице, выводящей прямиком на Красную площадь, то окликнут: «Вы ничего не искали?» Уважительно, на «вы» заговорили… Ничего не искал! Таджичка, румяная, с узкими медовыми глазами, коснулась краем балахона: «Вы ничего…» Стоят на тротуаре пацаны зла. Пересохшие ржавые рты. В большинстве сами сторчались, на дозу себе зарабатывают. Мрачные костистые рожи, и только вопрос цедится сквозь зубы. Девица в черных очках, черный рюкзак за спиной. На бомбистку похожа, длинный нос слащаво лоснится. «Вы ничего…?» — и солнце в очках сверкнуло.
А всех ослепительней два бомжа, старик и старуха, в тряпье. Лишь утро свой поднимает жар, они уже на тропе. «Вы ничего…» — чумазая, шепчет старуха адова, быстро крестообразно черные пальцы складывая. Низко платок надвинут, глазик сощурен тонко. И безобразный винт хмуро хранит котомка. А дед сидит на гранитном камне, босой, да-да, босой, и за пазухой под холщовой тканью героин, простой, как соль. И в гущу опять икает седой бороды волос: «Н-ничего не искали?»
Я вдумался в вопрос.
НИЧЕГО!
Ты, наркоман, для жизни осипший и охрипший, с температурным огоньком в глазах, продутый потусторонним сквознячком. Отвергаю твой стиль.
Какие-то вы все — и наркоманы, и наркоторговцы — твари подпольные… Хищные, дерганые тараканы. Самодовольные слизни. Ваши наркотики мне противны не просто как вещества, а как идеология. Отвергаю.
НАШИ ДОРОГИЕ,
с большим приветом к вам семья Судейко!
Во первых строках нашего письма напишем пару слов о том, что получили от вас письмо, за которое вам большое спасибо. Из письма узнали, что мама-бабушка нарушила ноги, а мы ее ждали к нам. Теперь когда они у нее заживут… Ноги-то старые, плохо дело. Может, к весне заживут. А может, Сережа приедет, посмотрит, как мы живем.
Пока мы живем троем: Петя, Андрей и я. Может, они уйдут в свою квартиру весной. Андрей учится в десятом классе, учится средненько. Он ГЕРАИНТСИК. Колет себя. Везде лечили, ничего не помогает. Петя работает. Тоже часто болеет, простывает. А про меня нечего говорить. Вся больная, так, хожу потихоньку. Ну вот и все. Писать больше нечего. Оставайтесь живы-здоровы. И мы остаемся в таком духе.
Тамара.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПРО МЕНТОВ
Ну а менты… Вечное соревнование у ментов с уголовниками: повадки те же, песни те же и рыла те же. Рядовой нормальный человек для мента — это объект надругательства, фраер, лошок…
На проходной телевидения стоит мент.
— Извините, у вас здесь одна проходная? — спрашиваю.
— Не-а… — Лупоглазое рябое лицо.
— А еще где?
— Тебе чё, в рифму ответить или как? — тянет рябой и поводит ярко-черным автоматом.
Ах ты сука, думаю я, мусорская… Почему они смеют хамить? Они энергично сеют сорняки зла. Что за структура такая — серая рыба, протухшая с головы до хвоста!
Даже жаль их иногда: каждый день надевать свой серый армяк и ходить под неприязненными взглядами целой страны. Как будто враги народа. Но сами виноваты. Сами себя так поставили.
Меня поставили лицом к стене. Трезвый и веселый, я шел сквозь ночь по городу. Пряная весна, шар луны. Меня поставили лицом к белесой стене Музея Шаляпина, и я вдыхал известку. «Ноги шире! — Сапог бил по ногам. — Шире, бля, сказал!»
Менты, вы достали народ!
Еще одна из историй. Зимний путь. Беленькие сугробы, выдолбины в ледяной коросте… Чудовищными зевками я вытравлял из себя алкоголь. Мороз принимал мой пьяный пар. К огненной витрине закрытого магазина примерз мент, он смотрел закусив губу. Взъехав на тротуар, индевел милицейский «воронок». Ментовская рожа была как апельсиновая шкура. Сплошные оранжевые поры под серой заснеженной шапкой.
Он махнул рукой:
— Документы ваши.
Я протянул паспорт, и он придирчиво удостоверился. Рация трещала у него на поясе.
— Ну чё, епты, поехали…
— А что такое?
Он зверски исказился, подал знак. Матерясь, выскочил второй мент, долговязый мальчишка, — размахнувшись, хлестнул меня дубинкой. Главное, не падать, знал я. Тогда будут бить и волочить. Я шатнулся, кривясь от боли.
— Давайте договоримся, — сказал я быстро.
— Ну? — Мент выжидательно сложил губы трубочкой.
Я дал ему триста рублей. Он скомкал деньги и сунул в карман тулупа. Я забрал паспорт. Паспорт красной ледышкой прилип к руке. Я шел и ударами ботов разбивал на ходу мелкие сугробы. Бил я снег, и снег разлетался с беззаботной легкостью…
ПИДОРЫ
В шестнадцать лет я лишился невинности в объятиях питерской проститутки, а в Питер из Москвы и назад домой я ехал с остановками, с полустанками и прогулками. Тверь, ночь, поблескивает витрина «Свадебной одежды», а чуть дальше — мост и под мостом черная вода. И дерево растет толстое, корявое, я по нему взобрался, и сухо отпадали болячки коры. Была ранняя электричка, алая зорька за окном и мокрые косогоры, сидят мужики, едут косить и пьют из горла водку. Деревня Окулово, старый серый вокзал, пыль носится, просвеченная солнцем, я побрел за вокзал. Асфальтовая дорога взлипла на солнце и клеилась к подошвам моих босоножек, до сих пор на подошвах у меня асфальт. Я купался в серебристом озере и сох на солнце, отбиваясь от слепней. «Как озеро называется?» Никто из местных не знал, как. А в Питер я прибыл с пыльными ногами, шла любовь с проституткой, ноги мои скользили по простыням, оставляя серые следы.
И вот, насыщенный воспоминаниями, я сошел в Москве на вокзале, а в метро попал на последний поезд. Безлюдно было, только напротив двое сели. Мальчик и мужчина. Мальчик сосредоточенно уставился в пустоту, лопоухий. А мужчина откинулся и глаза сонно закатил. Потом он на меня глянул, я на него. Я был обгоревший, с красными губами. Он засмеялся и пересел. «Пойдем, Сережа», перетянул он и мальчика. У мужчины сияли глаза, он нервно улыбался, каждая улыбка резкая, как порыв ветра. Зубы в желтом налете. «Тебе тринадцать?» спросил он, ерзая. Я подтвердил, забавно считаться моложе.
— А я учитель бывший. Вот подцепил. — Он показал зубами на мальчика. Беспризорник, на вокзале жил. Правда, Серень?
Мальчик угрюмо отмалчивался.
— У него документы украли, он ехал к тетке, в деревню в Татарстан, теперь на вокзале ошивается. Серень? — И он щипнул мальчикову щеку.
— Ну, — мотнул головой Сереня.
И снова вспыхнула улыбка миссионера:
— Отоспится у меня, ванну примет, в карты порежемся. Слушай, а давай и ты с нами?
Я выходил на Киевской, и они со мной, мы были почти соседи, сели в последний ночной автобус.
— В карты поиграем. Ну же, ну! — горячо увещевал мужчина. — Все! Ты уже согласился. — Он дернулся к беспризорнику: — Уговаривай его, уговаривай! Он твой тезка. А? — Угроза метнулась в голосе.
— Ну поезжай с нами, — забито выговорил мальчик.
— Активнее проси! Мы тебя просим. — Миссионер цапнул меня за локоть, а я уже выходил. — Куда? Мы же вместе!
Я вышел, автобус тронулся дальше, и тут сцена из кино: медленно уплывает автобус, а за стеклом мужчина вдруг опрокинулся на мальчика и истово целует его взасос, голову ему обхватив руками. Исчез автобус, и лишь ночью ночь…
А недавно в зимних сугробах у гостиницы «Москва» я увидел толпу детей, простодушнолицые, пухлоротые. Их растлили, в пидоров превратили. Мелкие несмышленыши. «Дядя, дядя. — Они хватали меня за брюки. — Проведем ночь?» Друг друга за члены лапают под курточками. Нюхают клей, носы окунают в пакет. А рядом деловитый хмырь в черной кожанке покуривает, присматривая за галдящим товаром. И мент тут же, равнодушно-сытый.
Я проснулся от сильных рывков. Дверь машины была распахнута, и мой друг Стас вытянул меня за собой. «Сэрж!» — бормотал Стас, увлекая к фонарям. Фонари краснели над воротами. Голубыми волнами переливалась неоновая вывеска. Ветер закрутил и понес нам навстречу снег. «Сэрж!» — смеялся Стас, а вокруг был густой мороз, под такой мороз вытягиваются сосны и волк перебегает заснеженное поле.
От столиков повернулись брутальные влажные морды, хрящевидные носы, глубоко засаженные глаза.
— Не хотите мине-ета? — потянулся встречный мужик в обтягивающих лосинах. На голове парик в блестках.
Я покачал головой, а Стас хихикнул.
— А почему не-ет? — Мужик говорил, будто полоскал горло.
Типы в пестрых тряпочках, с водяной размытостью лиц. Всюду зубы, губы, слюни…
— Все смеешься! — зло сказал я Стасу.
— Наревусь еще в аду, — пробормотал Стас с каким-то нездешним акцентом.
Преисподняя… Старичок, вылитый Калинин, в костюме-тройке, аккуратно седобородый, в пенсне, расхаживал. Высматривал себе парочку. Ручки заложил за спину. А на подиуме извивался негр, лоснящийся, в золотых трусах. То и дело приближался к обрыву, ему совали в трусы купюры, оттягивали и захлопывали резинку трусов. И он оттанцовывал в центр подиума.
Мы сели со Стасом за столик, пили. Я обводил глазами это помещение. Из-за столиков меня пронзали взгляды. А через некоторое время навис чей-то голый лоб. Дядька лет пятидесяти, а за ним плавно, с чутким самолюбием, опустился парень, бобриком стриженный, в бусинках пота. Графин водки и рюмочки…
— Студенты? — спросил старший, похожий на рыбий скелет. — А слыхали выражение: привычка — вторая натура?
— И? — сказал я.
— Шо ты думаешь, я пидором от большого желания стал?
— Почем я знаю.
— Кончай базарить, Маманя! — подтолкнул ногой младший старшего, и подпрыгнул и зазвенел стол.
— Тихо, тихо, Николя. — Маманя отмахнулся рукой, едва не саданув дружка по лицу. — Да если б мне раньше сказали, шо я с мужиками буду… Я бы на месте порешил, не рисуясь, кто мне это сказал. Эта молодежь, — показал глазами зал, — мне, если хошь, совсем посторонняя! Они тут ради забавы друг друга тискают…
— А вы как? — осведомился я с прохладцей.
— Да мы… Все не от хорошей жизни! Может, вышли мы, как говорят, с вредными привычками, а себя не теряли. Николя подтвердит, бывало, я некоторых… я их… просто по-черному… — При этих словах младший криво усмехнулся. — Но шобы самого меня… Не нас опускали, а мы опускали! Понбял разницу? Поня-ал? — Он тоненько подвыл.