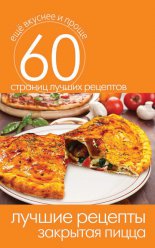Стенограф жизни Айзенштейн Елена
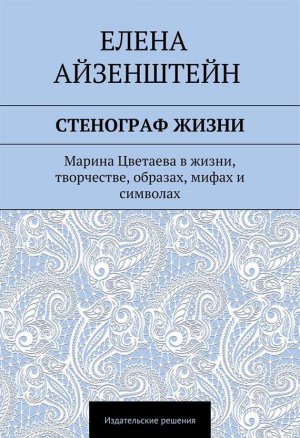
Этого ты не смел сказать, не смел отказаться, на это не смел посягнуть» (Там же, с. 544). Огорчаясь снятому посвящению ей в «Высокой болезни», она язвительно пишет о том, что кто-то из советских писателей видел его «на трамвае с борщом». Для Цветаевой места в пастернаковской жизни не было. Она ПРИНИМАЛА его в свою семью он разрывался между двумя другими женщинами и семьями. « (Какие жестокие стихи Жене «заведи разговор по-альпийски» (из стихотворения Пастернака «Не волнуйся, не плачь, не труди…» – Е. А.), это мне, до зубов вооруженному, можно так говорить, а не брошенной женщине, у которой ничего нет, кроме слез. Изуверски-мужские стихи» (ЦП, с. 545), – оскорбленно замечает Марина Цветаева в письме 1933 года, увидев себя лишней. В 1926 году, когда разыгралась настоящая драма из-за одновременной переписки Пастернака с женой, уехавшей на время за границу, и с Цветаевой, Женя, Евгения Владимировна, ревновала к каждому письму, понимая, лучше, чем Борис Леонидович, страстный диапазон чувства Цветаевой. 29 июля 1926 года Пастернак писал, утешая жену: «Я не испытываю твоего чувства ревностью. Марина попросила перестать ей писать после того, как оказалось, что я ей пишу о тебе и о своем чувстве к тебе. Возмутит это и тебя. Это правда дико.… Нас с нею ставят рядом раньше, чем мы узнаем сами, где стоим. Нас обоих любят одной любовью раньше, чем однородность воздуха становится нам известной.… Мы друг другу говорим ты и будем говорить.… Двух жизней и двух судеб у меня нет. Я не могу этими силами пожертвовать, я не могу ради тебя разрядить судьбу… Я не хочу неравной борьбы для тебя, человека смелого и с широкой волей» (//Знамя, 1996, №2, с. 148). Одаренная, умная, несколько избалованная Евгения Пастернак не могла конкурировать с Цветаевой в гениальности. Пастернак тогда выбрал слабейшую: победила земная устойчивость дома и семьи. В этом же письме Цветаева пишет о своих седых волосах, поэтому в ее голосе нельзя не услышать тоски по молодости, по женскому счастью. А еще – тоски по отсутствующему знатоку поэзии и истинному ценителю ее творчества!
Обиду как движущую силу лирики Цветаева называет, работая над стихотворением «Кварталом хорошего тона…» : «P. S. Очень важное!
Когда отпадет социальная обида, иссякнет один из главных источников лирического вдохновения: негодование
Поэт, которому все уступают первое место: – дичь.
«Удавиться нам от жизни от хорошей…»
27го ноября 1935 г. —»
(РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 26, л. 127.)
Следом – мысль: «Попытаться дописать „Автобус“ (дай Бог!)» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 26, л. 127 об). Она вернулась к «Автобусу» в конце ноября. Еще одна запись, рисующая эмоциональное состояние Цветаевой этого периода, сделана в первый день нового 1936 года. Это констатация круглого одиночества, творческого кризиса, равнодушия, негодования и горечи, старости, отсутствия любви. Радость приносят только общение с природой и книги. Цветаева писала в болезни, и поэтому многие мысли заострены, но все-таки становится понятно, что она огорчается своей поэтической неплодовитости, объясняет «засуху в стихах» (Н. Турбина) женской непривлекательностью, печалится оттого, что дети растут не такими, какими она хотела бы их видеть. И следом – о Пастернаке, приезжавшем весной из союза, который влюблен в красавицу-жену и не пожелал с ней ни минуты провести наедине:
«1936 г. 1го января без четверти пять
– Я сейчас задумала <сь> : что окажется последним написанным в 1935 г.?
– И вот. (Это око видит сроки). Сказано о вокзальных часах, а вышло о Боге (или о луне). О чем-то круглом и одиноком, высоком и одиноком. (Хорошо о башенных часах: Башенных…… часов – Круглое одиночество…)
Мой прошлый год. Очень мало написано. События: Мурина тетрадь-14го июня 1935 г. Volle-Juir – Фавьер (событие природы) – люди? Приятельство с Унбегаунами. Приятная минута с архитектором. (Повеяло ширью.)
Самочувствие?Тюремное – без бунта. Но и без веяния одиночного заключения. Равнодушие – приблизительно ко всему. Больше всего радуют книги. Ничего ни от чего и ни от кого не жду. <…> Стихи? Все чувства иссякли, кроме негодования и горечи. Нет друзей, нет любви, нет перспективы – а я всегда жила будущим, равно как – прошлым (это – осталось.) Я вдруг – прозрела, увидела самую простую вещь: что мужчины, даже поэты, любят за наружность, а не за душу. Б <орис> П <астернак>, приехавший весной из союза, не нашел нужным провести со мной наедине ни получасу – потому что влюблен в жену- «красавицу». <…> Мужчине нужно «мягкое», общее, напоминающее всех девушек и женщин – хотя бы того же типа. Тип девушк <и>. (Потому они так безбоязненно меняют: бывшую – нет седую – блондинку – на сущую: завтра – седую!) <…> А теперь вижу: очень просто: кругловатый нос, улыбка, хохот, лепет, вилянье, и – главное – равнодушье. И – влюблен. Сразу. Всякий. От солдата до маститого писателя. Ибо – «ewig-weibeich».
Но мне (материнство в любви) ведь то же – «ewig-weibeich»?
Поняв – не жалко: ни молодости, ни всего того любовного. Ему я обязана – тремя четвертями написанного: не «их» любви, к <оторой> ой не было, своей любви – к ним, которых – не было <…>» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 26, л. 138—139 об.). Мурина тетрадь, о которой идет речь, ЧТ-27, подаренной сыном на именины с надписью: «Милый Мау, вот мой подарок вам, и пишите в нем хорошие стихи. Целую крепко. Мур. 30 июля 1933 г.». Цветаева начнет писать в ней 8 мая 1936 года, через два дня после дня ангела сына и в «пушкинские» дни, возможно, поэтому вспомнит о подарке. В тетради – черновые варианты поэмы «Автобус», «Стихи сироте», черновики писем к А. Штейгеру. Последняя дата работы в ЧТ-27— 26 января 1937 года, канун пушкинской годовщины.
В октябре 1936 г. Марине Ивановне исполнится 44 года. По-видимому, она ревнует Пастернака и к дочери Але (о ревности в связи с Алиной красотой и молодостью – откровенное признание в письме А. Берг (VII, 488)) и вообще находится с Алей в соперничестве, как молодая мать взрослой дочери. На ту же тему много в письмах к Тесковой, например, в письме от 28 декабря 1935 г. : «Если бы меня любил – скажем, по старой памяти – Борис Пастернак – Аля всегда была бы у него права, а я виновата: ибо ей 20 лет» (ЦТ, с. 281—282). 28 февраля 1936 года Цветаева размышляет о власти пола и безвластии души, о своей «чудовищной» обратной предрасположенности, думает о Рильке, о Пастернаке – о тех, с кем у нее была в жизни исключительно заочность.
Цветаева убеждена, что только женщина-поэт могла бы предпочесть дружбу любви. Называет себя чудовищем, потому что у нее в цене мудрость, а не молодость.
Полгода спустя годовщина пастернаковского приезда в Париж в рабочей тетради «Автобуса» Цветаева пишет о рождении вдохновения, о том, что иногда оно приходит по инерции; что она трудно пишет, потому что рассуждает о тех вещах, которых недостает в жизни. Молодость свою оплакивает, себя и то, что ее любили не те, и свои 44 года БЕЗ ЛЮБВИ, и даже Вере Буниной немножко завидует, потому что та поглощена любовью к великому человеку: «NB! <…> М. б. вдохновение и есть инерция? Самодеятель <ность> головы (ибо сердце в писат <ельстве>, к <ак> н <и> странно, почти не при чем самых „сердечных“ вещей, самых воплей сердца!) Во всех случаях кому-то спасибо. <…> (7 го июня 1936 г.)» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 27, л. 12—30 об.). Таким образом, поэма «Автобус» выросла еще и из неудовлетворенности поэтическим эхом, из женской обиды на нелюбовь. Дионисиево ухо Марины Цветаевой требовало другого «отзыва» на свой голос. Поэма «Автобус» – попытка восполнить отсутствующее в жизни понимание.
«Океана за окоем»
В 1925 году Пастернак писал Цветаевой о том, что природа становится историей, и ему бы хотелось быть историографом. Это должно было быть близко и понятно Цветаевой, которая в письме 1933 года к Вере Буниной написала, что в ней «вечно и страстно борются поэт и историк» (VII, 253). Вероятно, поэтому в черновиках «Автобуса» возникнет имя автора «Бедной Лизы» и великого историографа Карамзина: во время работы над отрывком «Каждый росток – что зеленый розан…»:
Слухом – так узник не слышит птиц!
Карамзин на газонах ниц!
(РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 27, л. 11 об. Вариант: «Ка <к> Карамзин распростерся ниц!» Там же.)
Появление в таком контексте фамилии Карамзина могло быть связано с любовью к природе, с мыслью Пастернака об историзме творчества: «Даже огурцы должны расти на таком припеке, на припеке исторического часа» (ЦП, с. 125).
Превращение автобуса в ошалелого бычка происходит благодаря близости природе стихов спутника. Он вывозит героиню за город, с ним она, восхищенная, открывает зелено-голубо-лазоревый мир искусства. Вариант того же мотива – в стихотворениях «Поезд жизни», «Побег», в черновике письма Цветаевой к Б. Пастернаку: «… я рвалась, оглядывалась на Вас, заглядывалась на Вас – как на поезд заглядываешься долженствующий появиться из тумана и который хочешь-не хочешь – увезет» (СВТ, с. 279). Под действием загорода душа лирической героини делается юной, радостной, ее глаза прозревают. Спутник дарит глазам Цветаевой хрусталик искусства; его умение видеть мир делает ее богаче. В черновике поэмы, в не вошедших в окончательный текст строчках:
Позеленевшим, прозревшим глазом
Вижу, что счастье, а не напасть,
И не безумье, а высший разум:
С трона сшед – на четвереньки пасть…
(БП-65; примечание: строки записаны автором в ЧТ-27, л. 6.)
Во время работы записан вариант «проросшим глазом» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 24, л. 84 об.), сближающий творчество с прорастанием зерна. И раньше зеленые «крестьянские» глаза, «привычные к слезам», «зеленые – соленые» глаза (I, 426) были символом лирики. Цветаева не обычная крестьянская баба, а поэт, и потому она иногда застится от солнца (ср. в стихотворении «Глаза» (1918) : «Была бы бабою простой – / От солнца б застилась рукой» (I, 426)), смеется или плачет, если чьи-то стихи оказываются лучше, чем ее собственные, если световой ливень чужой лирики слепит глаза, как это было в 1918 году с Блоком и в 1925 году с Пастернаком («Русской ржи от меня поклон…»). Она умеет забыть о своих царствах, своей гордыне, превратиться в благодарного читателя чужих стихов: