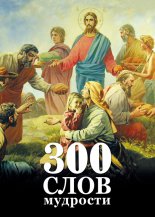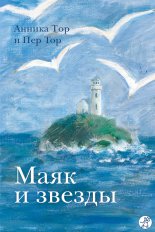Замена Цикавый Сергей
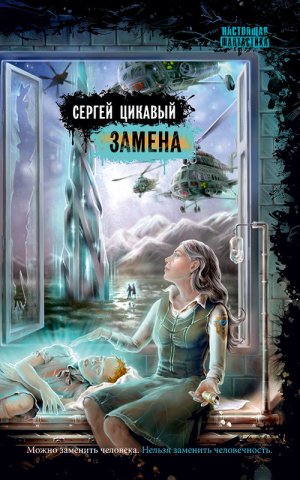
Даже притча такая была, вспомнила я. О том, как мастер чайной церемонии одержал победу над ронином. Дзэн-суть притчи, конечно же, не в чае, но, с другой стороны, слова «притча» и «дзэн» очень плохо соседствуют со словосочетанием «единственный смысл».
А вот чай… Чай однозначен.
* * *
Это сон.
В такие часы – часы здесь, минуты там – меня всегда мучает грусть. Понимать, что ты во сне – это печальное понимание. Ты смотришь фильм, сопереживая героям только в самые яркие моменты. Это, по-моему, ужасно. Я помню все, что мне снилось, четко отделяю сон от яви, и сон… Он мне безразличен. Не уверена, что права в своих сравнениях, но, наверное, как-то так относятся к клиентам проститутки.
Я лежала в кровати, смотрела сон, одновременно шла скучным коридором в этом самом сне и размышляла. Мысли тоже были никакие: как сон, как коридор, как укол. Еще было слегка интересно, почему из всех вариантов сравнения подсознание выбрало проститутку.
Двери классов хлопали, стучали, их гонял несуществующий сквозняк. Свет в окнах стоял серый, как овсянка, и такой же клейкий.
Тук. Тук. Тук-тук.
Я повернула за угол, привычно стараясь не концентрироваться на действиях: ну, надо вперед. Значит, надо.
Тук.
Коридор за углом поспешно закончился, и я даже успела понять, что просыпаюсь, и стучат не двери, а в дверь. В мою дверь.
Боль получилась оглушительная и сразу во всем теле, она пульсировала в ритме стука в дверь, в ритме сердца, в ритме сбивчивых мыслей, еще намотанных на сон.
«Ко мне некому приходить».
С этой мыслью я зажгла свет – еще один удар крови в голову – и пошла к двери, надевая очки. Серые очки, серая дигрессия безобидных стекол – это уже на уровне рефлексов: выше боли, выше памяти и уж куда выше, чем «2:15» на электронных часах.
Дверь открылась в ночной октябрь, и помимо очков стоило вспомнить о тапочках, а ночной рубашке не хватало халата поверх.
По ту сторону порога стоял Куарэ. Свет ронял на его лицо тень капюшона: есть такие легкие пайты, которые надевают под куртку. Мне такие не нравились. Пауза тянулась, я мерзла и, поначалу ошеломленная холодом, боль уверенно возмещала свое.
«Я стою перед ним в ночной рубашке. Что за глупость». Так пришло еще и раздражение.
– Витглиц, простите, пожалуйста…
«Пьян? Нет, но явно выпил».
Я ждала. Я еще долго так могу.
– Они сказали, что вы все равно не придете, и я решил… То есть, осмелился. Словом, я могу вас пригласить?
Даже не подумал уточнить, куда. Или считает, что я пойму сама насчет этих самых «них», пойму, что имеется в виду вечеринка в честь прибытия новенького. Он слишком сосредоточен на себе самом.
Ну, разумеется.
– Нет.
А он действительно расстроен, и смотрит – поразительно – до сих пор мне в глаза, а не ниже.
– Про… Простите, Витглиц.
«Нет» подействовало на Куарэ странно: примерно так, как на меня холод. Он словно впервые взглянул на часы, он смотрел на меня так, будто я переоделась в ночную рубашку прямо перед ним. В каком бы состоянии ни пришел мсье Куарэ, сейчас он стремительно становился человеком.
– Еще раз – простите меня, – покаянно произнес он. – Я сам не понимаю, что на меня нашло…
– Ничего страшного.
Неискренность в обмен на неискренность: меня крошит боль ночной побудки, а он хорошо понимает, почему пришел. Ужасающая банальность в полтретьего ночи – продрогшая, пахнущая пылью, болью и моим любопытством. Во мне зрели вопросы.
«Ты ведь не надеялась, что все закончится вместе со вчерашним днем?» — думала я. Он кивнул и повернулся, чтобы уйти назад в свой октябрь.
– Куарэ?
И снова – взгляд. Взгляд из-за плеча, из тени капюшона дурацкой пайты. Взгляд, который дал мне по крайней мере часть ответов. В принципе, я уже почти все поняла.
Но все равно:
– Зайдите, пожалуйста.
* * *
Он пил крепкий чай, украдкой косился на мои очки, на волосы (мало того что седые, еще и встрепанные). На грудь тоже косился, но мало. Впрочем, даже без наблюдения за его взглядами было очевидно, ради чего он пришел.
– Очень приятный чай, – хрипловато сказал Куарэ, подумал и деликатно откашлялся. – Что это?
– «Красный» чай.
Мне было досадно: совершая лишние перемещения за тапочками и халатом, беспокоясь о том, как бы не приспустились очки, я передержала заварку.
Давно я так не делала.
Капсула с обезболивающим потрескивала в кармане, как пригоршня искр.
– Теплый, – сказал вдруг Анатоль с улыбкой и поставил чашку на стол. – Спасибо вам большое.
– Не за что.
От него сложно пахло – сложно и остро. Я слышала преподавательское общежитие (гель для душа, сырость, пот, еда – не какая-то конкретная, а некая общая идея разогретой в микроволновке еды), слышала других людей. И я слышала алкоголь.
«Соня, это вино. Сейчас мы с тобой его подогреем…»
И – стоп. Не буду додумывать эту мысль.
– Есть за что, – тихо сказал Куарэ, пока я отрезала себя от воспоминаний. – Вы мне очень помогли.
– Чаем?
Он моргнул, глядя на меня.
Да, это была ирония. Да, я не хочу этого знать. Да, я не хочу из-за него вспоминать что-либо. Все просто и все сложно, и даже глупый запах вытаскивает из меня такую мерзкую память.
«Мсье Куарэ, тебе лучше уйти. Что со мной творится, я обдумаю потом».
– Простите, Витглиц. Я просто сорвался. Там все было весело, но я не смог.
Смотрел он только в чашку, гладя ее ручку пальцем. Он заново переживал замечательную вечеринку, на которой ему не нашлось места. Еще много будет таких ситуаций, все чаще ему доведется ощущать себя посторонним. Посторонний в останках собственной жизни – это даже почти по классику.
Почти – потому что в случае с ELA самоустранение – это все-таки выбор. Но я почему-то уверена, что Куарэ пойдет как раз по моему пути.
«Почему-то? Да ты сейчас ведешь его за руку».
Он говорил, что-то спрашивал, кивал сам себе в ответ, не дождавшись моей реакции. Ему было хорошо в моей тишине, среди своих рефлексий.
– …я много болел в детстве – простуды там разные, но старался ходить на занятия. И вот теперь думаю: а какого черта?
Он будто отгородился от работы, ведет себя как обычный смертельно больной. Потом будет понимание, что работа связывает его с жизнью. Потом будет этика. Потом – отстраненность и воспоминания.
Пока что у него есть только мой чай.
– А как вы приняли свой диагноз, Витглиц?
– Никак.
– Никак?
– Да, никак.
Я ощутила раздражение – снова. Снова прошлое, снова связь с ним. Я слышала не раз, что со мной очень неудобно общаться. Когда же это поймет Анатоль? И когда я решусь просто принять таблетку, пускай и среди ночи?
– Я больна столько, сколько себя помню.
Куарэ побледнел:
– Оу, я… Простите, мне жаль…
– Я привыкла.
Тишина. У него, наверное, много вопросов. Интересно, сколько он задаст.
– Это, наверное, из больничных привычек – ходить в ночнушке? – вымучено улыбнулся он и тут же осекся. – П-простите…
Он удивительно бестактно и точно пошутил. Знал бы, насколько точно, – был бы очень удивлен. Примерно еще на три-четыре «простите».
«– Витглиц, видеоконференция с вашим преподавателем через семь минут.
– Хорошо, доктор Сейти.
– Соня, вам нужно еще переодеться.
– Да… Действительно. Спасибо, доктор».
Анатоль молчал. Смотрел на меня, ждал чего-то.
Я очень надеюсь, что не исповеди о моей жизни. Мой чай уже остыл, а боль все не могла наиграться. А Анатоль молчал и ждал. А боль…
Хватит. Просто хватит. Это всего лишь маленькая услуга человеку, который мне помог – не больше, но и не меньше. Всего лишь чай – и пусть выговорится.
«Ты ведь за этим пришел, Анатоль?»
– Витглиц?
Это был просто мой слишком внимательный взгляд. Слишком пристальный, пускай и сквозь очки. Не знаю, что он подумал, но мне лучше так впредь не делать. Я покачала головой в ответ и поднесла чашку к губам. Прохладный чай почти обжигал, но это все-таки был чай.
– Вам и сейчас больно?
– Да.
– Из-за того, что я вас разбудил?
– Частично из-за этого. В основном из-за ELA.
Куарэ недоверчиво на меня посмотрел и кивнул, только поверив, что я серьезна. В три часа ночи намного проще относишься к раздражающим очевидностям. С другой стороны… Я отхлебнула чаю и мысленно вернулась на мгновение назад: с другой стороны, он словно бы вообще не заметил того, что я сказала. Вернее, того, как я сказала.
«Витглиц, ты несносна».
«Послушай, а можно не разговаривать в духе «Да-я-робот?»».
«*из-за спины* Тихо, сейчас будет выступление Мисс Очевидность».
Это утомляет. Отсутствие такой реакции настораживает.
«Соня, просто пей с ним чай. Для таких мыслей у тебя будет море времени наедине с собой».
– Я бы не смог, как вы, Витглиц. Я плохо переношу боль. Очень плохо. Когда на первом курсе…
Никто не переносит боль хорошо, но всем нравится каяться в слабости. Куарэ когда-то сломал руку и украдкой пил слабенькое обезболивающее. Ему хватило воли бросить, и это хорошо. Он зачем-то мне рассказывает о своем прошлом, и это плохо.
Все шло к открытому вопросу насчет моей боли, но в разгар его покаяния пришел звук.
В кухонную раковину упала капля воды – оглушительная, звонкая, она обрушилась на несчастную жесть, будто вспышка света. Я снова – да, снова – пристально смотрела в глаза Куарэ, и потому видела, как в ответ на звук мгновенно расширились его зрачки, как вздрогнули контуры сидящего напротив мужчины. Его ELA уже полностью готова, поняла я, но сам Куарэ вряд ли готов к ELA.
– Это опухоль, да?
Он изучал свою раскрытую ладонь. Пальцы едва заметно подрагивали, но еще там унималась какая-то другая дрожь, словно бы размывающая очертания кисти.
– Да.
Он выдохнул носом и положил ладонь на стол, поближе к чашке, подальше от себя, как если бы рука превратилась в опасную змею.
– И я смогу… Взламывать чужой микрокосм?
– Сможете.
Куарэ кивнул.
– Когда-то давно я от скуки… Ну да, это я ехал куда-то. Так вот, я читал брошюру о том, что рак – это инструмент эволюции. Дескать, природа подбирает ключи к следующему этапу развития человека, – Анатоль улыбнулся и пощипал себя за нос. – Мне это даже показалось забавным. Хоть я и не думал, что сам буду доказательством.
– ELA – это не эволюция человека.
Я снова поднесла чашку к губам и сделала глоток. Большой глоток.
«Спокойнее, Соня. Это всего лишь твоя боль, глубокая ночь и умный философ».
– Да? – грустно улыбнулся Анатоль. – А что же это? Мы можем проникать во внутреннюю сущность другого человека, совершать локальное искажение времени…
«Мы можем убивать такой дрожью, можем распылять на молекулы небольшие предметы…», – я могла продолжать эту речь еще долго, а он – нет.
Анатоль запнулся, потупил взгляд, и я увидела, как побелели его губы.
– …убивать этих… Существ. Детей.
«Все же детей. Даже после всего».
– ELA – это болезнь, Куарэ. Просто болезнь.
– Болезнь? Болезнь не усиливает человека… То есть, да, цена страшная, но мы ведь не зря так засекречены? Ну, в смысле, Ангелы понятно, но мы!..
Его повело. Я слушала Куарэ и слышала отклики разговоров, умных разговоров из глубин моего прошлого. Я стояла в больничной рубашке у трибуны, передо мной был невидимый небольшой зал, а мне было больно, а в глаза бился оглушительный свет, и докладчик говорил об эволюции. Он часто звенел и булькал стаканом во время своей речи: его мучила изжога, – а меня мучили вопросами. Вскоре закрытые слушания, доклады и рвущий на куски свет прекратились. Но память – это не корзина.
«Вы хотите окончательно удалить эти файлы? – ОК».
Было бы замечательно, потому что в моих воспоминаниях много медицинских терминов, света, много серого плеска воды в стакан. И много пустых слов, симулякров моей боли.
Превосходство. Новый виток. Второй сдвиг. Второй вид.
И снова: ELA, будущее, Homo novus, превосходство.
Превосходство.
Пре…
– От эволюции и превосходства не делают лекарств, – сказала я.
Куарэ приоткрыл рот и отставил чашку:
– Лекарств? Вы сказали «лекарств»?
Я кивнула, внимательно наблюдая за его лицом. Вот оно: отчаянное желание, чтобы то, что меняет его организм, оказалось пускай и странным, но, главное, излечимым.
– Да.
– От этой опухоли есть лекарства? Но почему вы?..
Он запнулся, подавшись вперед, ко мне, и я почти видела, как надежда бежала от него. Так бежит из класса позорно ошибившаяся отличница: закусив кулак, дверь – нараспашку, так, что слезы взвесью остаются в воздухе.
Как же мне больно…
– Зачем вы так, Витглиц? Я же…
…И как же мне не совестно.
– Мне не кажется, что ваше заблуждение – удачный выход.
– Лучше как вы, да? – остро щурясь, спросил он. – Запереться, отгородиться ото всех и без лишних вопросов убивать своих учеников?
Следующая стадия: желание обидеть. Помню.
– Нет.
– Тогда посоветуйте, как лучше.
Издевка. Куарэ явно понял только то, что хотел. Разбудил меня, выпил мой чай и… И он болен.
«А еще у него проблемы с отцом», – вспомнила я. «Соня, присмотри за Анатолем», – вспомнила я.
– Лучше вернитесь в общежитие.
– Выгоняете?
– Нет.
Анатоль поднял руки, откинулся на спинку стула и рассмеялся. Смех вышел серый.
– Все, я сдаюсь. В точности, как говорила Майя. Вы неподражаемы!
««Как говорила Майя». Майя. Надо запомнить».
– Ясно, – кивнула я в ответ.
Куарэ потер глаз кулаком и с грустной улыбкой посмотрел на меня:
– А можно я к вам на урок приду? В смысле, когда вы будете хорошо себя чувствовать?
Я промолчала. У его просьбы было много смыслов, и большинство – оскорбительные. Он встал и поставил чашку на раковину, дернул за шнурок на вороте пайты. Слепо провел рукой по рабочей поверхности стола.
– Наверное, я много извиняюсь, да? – спросил Куарэ, глядя в окно. В стекле отражался он сам, отражалась моя маленькая кухня. С той стороны заглядывала невидимая осень, но никакого отношения к делу она не имела.
– Нет.
– Знаете, я не привык к этому всему. Ни на грамм, – пробормотал он, по-прежнему глядя в черное зеркало. – И не привыкну.
«Я». Вот чего много у мсье Куарэ, подумала я, ощущая новую – которую уже? – волну раздражения. И поза какая наигранная. «Куарэ болен, – привычно отреагировал разум. – Он узнал об этом вчера, накануне ночью убил Ангела, и половину этой ночи пил с новыми знакомыми».
Я встала, поправляя ворот халата. Ноги в тапках мерзли.
Болен, надо присмотреть за ним, он пил, – это все, конечно, хорошо, но уже почти четыре часа утра. И причем здесь я? Что-то коснулось моей руки. Я опустила взгляд и увидела почти детское прикосновение: тремя пальцами, очень бережное и неуверенное.
– Вы только не обижайтесь, пожалуйста. Хорошо?
Я убрала руку и кивнула. Анатоль кивнул в ответ и, неловко сутулясь, пошел обуваться.
– Спасибо вам, Витглиц, – сказал он – простой силуэт под слабой коридорной лампочкой. – И простите.
Хлопнула дверь, лица коснулся щекотный зябкий сквозняк – коснулся и исчез. Я подняла к глазам запястье, пытаясь найти там что-то. Запястье как запястье, кожа как кожа. Бледная, вена светится.
«Соня, иди спать», – решила я, гася свет. Дом показался мне особенно пустым и темным, и я поспешила под одеяло. Привычно обожгла холодом кровать, привычно вломилась в голову обезумевшая боль, которой надоело мое невнимание к ней.
Оставалось только лежать, греть постель и одеяло и пытаться закрыть глаза, в которых стояли колючие слезы.
«Глупая боль», – подумала я и заснула.
* * *
В голове плыло что-то сладкое, почти приторное, липкое. Я выпутывалась из него, а оно одурманивало патокой, обволакивало. Ощущение было смутным, но необычайно сильным. Приятно ломили словно бы натруженные суставы. Восприятие собственного тела возвращалось толчками, нехотя и с ленцой.
«Проспала», – поняла я еще до того, как увидела часы.
Дальше был ускоренный ритм всего. Всего – в том числе и боли. Постель – можно не собирать. Остановиться, обнять плечи, чтобы угомонить приступ. Умыться.
Линзы.
Взятая было скорость споткнулась. Можно торопливо есть, одеваться, учить урок и пить кофе, даже внутривенный катетер можно ставить впопыхах. Но нельзя быстро надеть контактные линзы.
Или это я просто не научилась.
«Семнадцать минут урока, – считала я. – Семнадцать тридцать две, тридцать три…» Время бежало от меня – время занятия, на которое меня даже не удосужились разбудить. Почему – подумаю потом.
Я уже на кухне, а песок в глазах все не проходит. Это не резь, не боль: я правильно поставила линзы, – это всего лишь память о ночном пробуждении, полном боли, красного чая и Куарэ-младшего, который говорил, говорил, говорил…
«А ты все думала, думала, думала…» – закончила я мысль, ощущая памятный прилив раздражения. Я ела хлебец, просовывая руки в рукава плаща.
Не забыть вытереть крошки, решила я, распахивая дверь в хмурую изморось. Черная глыба учебного корпуса маячила перед глазами, все остальное терялось за пределами восприятия.
Осторожно, Соня, смотри под ноги и будь осторожнее. Брусчатка, бордюры, лужи. А также коллеги, ученики и прочие.
– Мисс Витглиц?
Я немного замедлила шаг и повернула голову, ища окликнувшего меня. Им оказался Матиас Старк, инспектор и соглядатай концерна «Соул», только одетый в рабочий комбинезон и вооруженный садовыми электроножницами.
– Доброе утро, мистер Старк, – сказала я, переведя дыхание.
Мужчина опустил инструмент и оттянул ворот тяжелого свитера:
– Торопитесь? Я вот тоже с утра бодро взялся и что-то быстро скис. Влажность, да?
Я переступила с ноги на ногу: каблуки жгли пятки, предлагая бежать дальше, но странный инспектор – такой молчаливый и угрюмый вчера – почему-то будто держал меня на месте.
Заметив, видимо, что-то, он с полуулыбкой поднял ножницы, кивнул:
– Не спешите, Витглиц. Хотя-я…
Он улыбнулся чуть шире и отсалютовал ножницами.
– Хотя так у вас даже румянец есть.
Я смотрела, как он исчезает в кустах, ветви которых запутал туман, в голове звенело прощальное «доброго утра». Последней исчезла улыбка, словно у самого настоящего Чеширского Кота. Потом в сером молоке тонко взвыл невидимый электромотор, хрустнула ветка.
«Потом, Соня. Потом».
Пока бежала к корпусу, я поняла, что меня так смутило: инспектор-садовник Матиас Старк странно держал в руках ножницы. Вся его поза – слегка размытая туманом, расслабленная – отдавала кислым привкусом угрозы. Как у крови. Как у железа.
* * *
Я замерла на мгновение у двери приемной, отогнала сложные и неприятные ассоциации и вошла.
– Витглиц? – удивилась Ая. – Ты вовремя. Я хотела тебя вызывать.
«Хотя бы где-то я вовремя», – подумала я и уточнила:
– Господин директор?
– Он, – заговорщицки понизила голос секретарша. – У него сейчас Куарэ… Куарэ-младший. Такой лапочка, прибежал десять минут назад, и директор сначала отменил вызывать тебя. А потом такой по селектору снова, говорит, найди Витглиц…
Я оглянулась. За спиной остался сырой коридор, который я впервые будто бы не заметила. И духов Аи я даже почти не слышала. Внутри все сжалось, и горели щеки – вряд ли от спешки.
– Мисс Витглиц ожидает в приемной, – сказала секретарша в микрофон, а в груди у меня отозвалось глухим ударом.
«Тише, Соня. Тише. Ты всего лишь опоздала. Всего лишь проспала».
– Пусть войдет, – гулко сказал директор Куарэ.
Шаг, шаг. Двойная дверь.
Анатоль – маленький и строгий – сидел за большим столом для совещаний. Белый свитер, встрепанные черные волосы, серое лицо. Набор оттенков, баланс монохрома. Он кивнул мне, едва обернувшись, и снова посмотрел туда, где сидел его отец.
Неизменный пиджак на спинке стула. Неизменный блеск очков. Только мое настроение каждый раз почему-то другое.
– Витглиц, ваше опоздание будет вычтено из жалования. И уясните себе, что присматривать и утешать – это разные вещи. Оба свободны.
Его сын поднял голову и возмущенно произнес:
– Но, отец!..
Серж Куарэ промолчал. С его точки зрения мы оба уже вышли.
За дверью приемной, вне зоны любопытства Аи Анатоль шумно выдохнул: