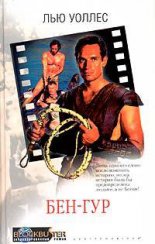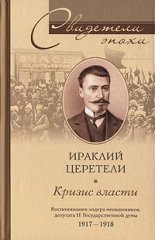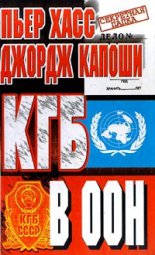Абсолютная реальность: «Молодая Вена» и русская литература Жеребин Алексей
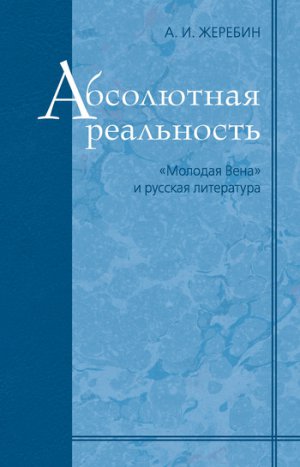
Предисловие
В последние десятилетия XX века культура Австрии, сформировавшаяся на пересечении западных и восточных влияний, была заново открыта наукой как особая зона мирового культурного пространства – зона повышенной семиотической активности, где готовилась и дала первые впечатляющие результаты эстетическая революция эпохи модернизма и авангарда[1]. Предлагаемая читателю книга продолжает работу в этом направлении.
«Молодой Веной» (также «Молодой Австрией») называла себя группа австрийских поэтов, прозаиков и журналистов, выступивших на литературную сцену в начале 1890-х годов с программой «преодоления натурализма». В литературе стран немецкого языка именно творчество писателей венской группы ознаменовало переход от реализма XIX века к модернизму как новому стилю эпохи, представленному на ранней стадии своего развития рядом нечетко разграниченных постнатуралистических тенденций (импрессионизм, эстетизм, неоромантизм, символизм и др.).
В немецкой науке о «Молодой Вене» написано не меньше, чем в нашей отечественной русистике – о русском символизме. Творчество каждого из писателей «Молодой Вены» изучено так же основательно и подробно, как и общие принципы литературной группы в целом[2]. В этих условиях попытка обновить их интерпретацию, не выходя за рамки национального австрийского материала, представляется трудноосуществимой. Другое дело – аспект сравнительно-исторический, изучение «Молодой Вены» на фоне русско-австрийского культурного диалога и тем самым в типологическом освещении.
Избранный подход оправдан рядом признаков, указывающих на стадиальный изоморфизм классического модернизма в России и Австрии. К числу таких общих признаков относится острота апокалиптического сознания, обусловленного сходством исторических судеб Российской и Австро-Венгерской империй; критика «западного» рационализма и тяга к онтологическому реализму, коренящаяся у русских в традициях восточного христианства, у австрийцев – в традициях католического барокко; программный универсализм, взгляд на современную литературу как на «резонантное пространство»[3] всей предшествующей культуры.
Случаи прямого использования писателями «Молодой Вены» того или иного произведения русской литературы немногочисленны и неочевидны. Но это не означает, что рецепция творчества Пушкина и Гоголя, Толстого и Достоевского, Тургенева и Чехова прошла для них бесследно. «Влияние, – писал Эйхенбаум, – частный случай более обширного и сложного явления. Литература эпохи представляет собой не простое собрание единичных, разрозненных или только частично связанных между собой произведений, а некое сложное соотношение, некий исторический контекст»[4]. Из этого следует, что тексты австрийских и русских авторов могут «встречаться» независимо от намерений их авторов, могут служить предметом «контекстного анализа», реконструирующего общую систему художественного мышления.
Не будучи специалистом в области русской литературы, автор сознательно «подкладывает» ее концепты под австрийский материал, используя их в качестве ключа к этому материалу. Целью этой операции является обоснование тезиса, в литературе вопроса хотя и намеченного, но так и не сформулированного со всей определенностью: австрийский модернизм зарождается и предстает на раннем этапе своего развития как культура религиозного, метафизического типа; ее важнейшая тема – «преодоление» исторической действительности, ее главная задача – утверждение внеисторического мифа об абсолютной реальности.
Книга открывается общим очерком австрийской литературы на рубеже веков. Акцентируя роль литературной группы «Молодая Вена», автор стремится показать, что младовенская программа «преодоления натурализма» заключалась не в импрессионистическом усовершенствовании поэтики мимезиса на фоне декаданса и метафизического отчаяния, а в создании антимиметической концепции поэтического слова как средства магической реинтеграции чувственного и сверхчувственного миров в образе истинной реальности абсолютного бытия. Импрессионизм и эстетизм, с которыми принято связывать творчество писателей «Молодой Вены», является для них лишь переходным этапом на пути к религиозному мифопоэтическому символизму, сопоставимому с младосимволизмом в русской литературе.
Последующие главы (вторая-четвертая) посвящены текстуальному анализу отдельных произведений в прямом сопоставлении с явлениями русской литературы. Такова книга Германа Бара «Русское путешествие», в которой Бар – идеолог и организатор группы «Молодая Вена» – актуализирует существенные признаки «петербургского текста» применительно к проблематике венского модернизма. Именно опыт встречи с русской культурой укрепляет Бара в его намерении оставить Берлин, с которым он связывал свою литературную деятельность до поездки в Россию, и вернуться в Вену, чтобы посвятить себя организации самобытной венской школы. Таковы, далее, новелла Артура Шницлера «Жена мудреца», обнаруживающая типологическое сходство с рассказом Чехова «Страх», и миниатюры Петера Альтенберга, разрабатывающие и переосмысляющие психологические мотивы и поэтику чеховского реализма. Такова, наконец, «Сказка шестьсот семьдесят второй ночи» Гофмансталя, которая допускает включение в смысловое пространство сцепленных друг с другом австрийских и русских текстов на мотив сада.
В методологическом плане автор более всего опирался на принципы рецептивной эстетики, переместившей процесс смыслообразования в сферу адресата, выдвинувшей на первое место понятие контекста восприятия как фактора актуализации смысловых значений. В соответствии с этим принципом тексты австрийских писателей последовательно вводятся в смысловое поле русской культуры, окружаются ее «интерпретационным ореолом». Результатом становится столь значительная межкультурная интерференция, что возникает искушение рассматривать интертекст русско-австрийского модернизма в качестве единой (разумеется, условной) метаструктуры, питающейся энергией двух диалогически взаимодействующих национальных субтекстов – австрийского и русского. Таким образом, избранный метод исследования сам участвует в формировании его предмета. В этом отношении он отвечает коренному требованию поэтики модернизма, в которой субъект художественной деятельности выступает в роли организатора коммуникативного события, ищущего своего завершения в активной интерпретации.
Глава первая
На рубеже веков
На рубеже веков литература Австрии вступает в эпоху модернизма, отмеченную высокими достижениями во всех областях культурного творчества. Именно в этот период австрийцы начинают ясно осознавать национальное своеобразие своей культуры и роль, которую ей предстоит играть в XX веке.
За три десятилетия – с конца 1880-х годов до Первой мировой войны – австрийская культура проходит сложный, но внутренне логичный путь развития: от идеологии буржуазно-аристократического либерализма до головокружительных социально-политических утопий, от игриво-меланхолических вальсов Иоганна Штрауса до атональной музыки Арнольда Шенберга, от эклектического историзма и орнаментального югендстиля в творчестве Отто Вагнера и Густава Климта до аскетического функционализма Адольфа Лооса и патетического визионерства Эгона Шиле, от скептического эмпириокритизма Эрнста Маха до математически выверенного мистицизма Людвига Витгенштейна, от первых психоаналитических опытов Зигмунда Фрейда до глобальных культурологических обобщений на основе психоанализа, от эстетических иллюзий юного Гофмансталя до пророческих фантазий Франца Кафки.
Литература конца XIX – начала XX веков отличается большим разнообразием идейных тенденций и художественных явлений, обусловленных распадом традиционной картины мира и поисками нового культурного синтеза. Нижняя хронологическая граница эпохи – это, с одной стороны, поздний, «усталый» реализм «конца века», представленный изысканной социально-психологической прозой Марии фон Эбнер-Эшенбах (Marie von Ebner-Eschenbach, 1830—1916) и Фердинанда фон Саара (Ferdinand von Saar, 1833—1906), с другой – окрашенные влиянием натурализма крестьянские новеллы Петера Розеггера (Peter Rosegger, 1843—1918), народные драмы Людвига Анценгрубера (Ludwig Anzengraber, 1839—1889) и Карла Шенхера (Karl Schnherr, 1867—1943).
Натурализм не получил в Австрии такого бурного развития, как во Франции и в Германии. Когда в австрийскую литературу входит современная общественная тема, она разрабатывается не столько под знаком беспристрастного научного анализа, сколько в форме прямого и страстного обличения лжи и фальши господствующих норм жизни; таковы, например, политическая лирика Розы Мейредер (Rosa Mayreder, 1852—1916) и, особенно, знаменитый антивоенный роман Берты фон Зутнер (Berta von Suttner, 1843—1914) «Долой оружие» (1889) – произведения, проникнутые публицистическим пафосом социального сочувствия и борьбы за социальную справедливость.
Писатели реалистического направления продолжают писать и пользоваться вниманием широкой публики еще и в 1900-е годы. Между тем, уже к 1908—1909 годам относится зарождение экспрессионизма, достигшего расцвета в годы войны. Важнейшими представителями австрийского экспрессионизма явились Оскар Кокошка (Oskar Kokoschka, 1886—1908) и Альберт Эренштейн (Albert Ehrenstein, 1886—1950), Георг Тракль (Georg Trakl, 1887—1914) и Франц Верфель (Franz Werfel, 1890—1945), Георг Кулька (Georg Kulka, 1897—1929) и Альфред Кубин (Alfred Kubin, 1877—1959), Альберт Парис фон Гютерсло (Albert Paris von Gutersloh, 1887—1973) и Оскар Мариус Фонтана (Oskar Marius Fontana, 1889—1969). В их творчестве экспрессионизм осознает современность как последнюю апокалипсическую стадию инобытия мира накануне его грядущего преображения.
По определению венского экспрессиониста Пауля Хатвани (Paul Hatvani, 1892—1975), «экспрессионисты превращают мир в факт сознания» и человеческое сознание «захлестывает собою весь мир», заново творит внешнюю действительность, воплощая в ней «царство духа»[5]. Шенберг – не только музыкант, но и автор синкретических драм «Счастливая рука» (Die gluckliche Hand, 1910) и «Лествица Иакова» (Jakobs Leiter, 1917) – требует от художника изображать мир как неразрешимую загадку, ибо признание ее неразрешимости таит в себе предчувствие смысла, который находится вне мира. «Постижение тайны жизни в пространстве и времени лежит вне пространства и времени»[6] – этот афоризм Людвига Витгенштейна служит теоретическим оправданием того субверсивного логического абсурда, который вовсе не обязательно предполагает деформацию языка и образной системы.
Эстетический анархизм, установка на резкую ощутимость средств выражения, разрушение традиционной структуры языкового сообщения – только один способ отстранения реальности и выхода к ее трансцендентному смыслу. Другой, не менее радикальный, способ открывает Франц Кафка, у которого семантический сдвиг достигается путем совмещения несовместимых значений в рамках формально правильных логико-синтаксических структур. В художественном мире произведений Кафки абсурд притворяется нормой и норма разоблачается как абсурд. Так же, как и у экспрессионистов, сознание бессмысленности и обреченности чувственно-материального мира обусловлено в творчестве Кафки отчаянной надеждой на существование абсолютной истины за его границами, откуда ускоренно, беглыми очертаниями мелькая среди пластов распадающейся реальности, надвигается на человечество новая земля и новое небо. Оттуда, из «врат закона», струится свет абсолютной истины, которая человеку недоступна, но предназначена именно для него.
Экспрессионистский штурм границ земного завершает тот путь духовного освобождения, который предвещали уже натуралистическая критика социальной действительности и свойственное позднему реализму смутное ощущение непрочности и обманчивости чувственно-материального мира. Центральным событием эпохи модернизма и связующим звеном между реализмом и авангардом стало творчество писателей и поэтов, входивших в группу «Молодая Вена» (Das Junge Wien), – Артура Шницлера (Arthur Schnitzler, 1862—1931), Германа Бара (Hermann Bahr, 1863—1934), Гуго фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal, 1874—1928), Леопольда фон Андриана-Вербурга (Leopold Freiherr von Andrian-Werburg, 1875—1951), Рихарда Беер-Гофмана (Richard von Beer-Hofmann, 1866—1945), Петера Альтенберга (Peter Altenberg (Richard Englnder), 1859—1919). В первой половине 90-х годов они собирались в кафе «Гринштайдль», которое стало своего рода «штабом» нового направления. Герман Бар, взявший на себя роль организатора группы, рассматривал «Молодую Вену» как оплот национального австрийского модернизма[7], теоретически обоснованного им в книге литературно-критических эссе «Преодоление натурализма» (Die berwindung des Naturalismus, 1891).
Эстетическая концепция венского модернизма формируется как реакция на новые художественные веяния, возникающие в Германии, по преимуществу в Берлине. В немецкоязычном культурном пространстве 1880-х годов Берлин – общепризнанный центр, где зарождается идея обновления немецкой культуры под лозунгом натурализма, первого из многочисленных течений, объединяемых понятием «модернизм». В 80-е годы, когда в Германии развивается теория натурализма, в Вене, кажется, еще ничего не происходит. Вена – это культурная провинция, и первый номер организованного Баром в 1890-м году журнала «Современная поэзия» (Moderne Dichtung) ясно показывает, что первоначально идея модернизации австрийской культуры прочно связана с импортом берлинских текстов, которые воспринимаются как знак современности и образец для подражания.
Но идеализация полученной извне натуралистической эстетики очень скоро сменяется в Вене ее критикой. Складывается представление, что в Германии идея литературной революции реализовалась в неистинном – замутненном и искаженном – виде и что именно в Вене, в лоне воспринявшей эту идею австрийской культуры, она должны получить свое истинное значение. Именно так полагают Герман Бар и его единомышленники. Противопоставляя немецкий натурализм французскому, они сближают последний с европейским декадансом и заканчивают требованием «преодоления натурализма», выполнить которое предстоит австрийцам.
Преодолеть натурализм значило прежде всего переключить внимание с внешнего мира на мир внутренний, которым натуралисты, в особенности немецкие, по мнению младовенцев, пренебрегали. Но другой предмет изображения повлек за собой переход к принципиально иной эстетике, в которой физические ощущения стали осмысляться как магические символы и мимесис чувственно-материальной действительности должен был уступить место новому антимиметическому способу репрезентации значений. «Эстетика перевернулась, – утверждал в начале 90-х годов Бар. – Художник больше не раб действительности, не инструмент для создания ее копий. Напротив, это действительность снова становится всего лишь материалом, которым художник пользуется, чтобы говорить о самом себе, в таинственных, суггестивных символах (…) Мы должны выразить ту заключенную в нас тайну, которая, как мы чувствуем и знаем, есть нечто иное, чем действительность».[8]
Ключевым словом венской эстетики становится слово «душа» – не метафора психической деятельности, обусловленной закономерностями чувственно-предметного мира, а неизъяснимая бесконечность и непредсказуемая творческая стихия, в которой сам этот внешний мир то растворяется как ничтожная и бессмысленная иллюзия, то заново возникает как воплощенная греза художника. Возникает убеждение, что онтологическая реальность души, противопоставленная иллюзорной действительности, не может быть выражена средствами психологического реализма, изображающего процессы душевной жизни как бы снаружи, со стороны их явления в чувственно-материальном мире.Нужна «новая психология», способная раскрыть внутренний мир личности изнутри, так, как душевное переживание дано самому себе, переживающему субъекту – «по ту сторону рассудка и в преддверье чувства».[9]
В эссе «Кризис натурализма» (Die Krisis des Naturalismus, 1890) и «Новая психология» (Die neue Psychologie, 1891) Бар призывает заменить «психологию чувств» «психологией нервов». Примечательно, что наряду с выражением «психология нервов» он пользуется также выражениями «мистика нервов» и «романтика нервов». «Чувства» реалистического искусства отвергаются Баром потому, что они уже прошли через фильтр рассудка и, выстраивая, подобно ему, логику субъектно-объектных отношений, отрывают человека от мира объектов, им воспринимаемых. Задача же новой психологии состоит в том, чтобы эту логику разрушить, обнаружив онтологическое тождество души и Вселенной. По мысли Бара, это могут не чувства, а ощущения (Sensationen). «Переместить психологию из области рассудка в область нервов – в этом весь фокус», – формулирует Бар[10]. Искусство, которое хочет правдиво говорить о душе, быть «искусством души» (Seelenkunst), должно опираться на ощущения, стать «искусством нервов» (Nervenkunst), притом нервов болезненно обостренных и чутких до мистического ясновидения. Опытом реализации этой программы выступают лучшие образцы младовенской лирики и субъективной лирической прозы.
С 1890/91-го годов начинается этап интенсивного самоутверждения «венского стиля», как говорит Бар, «второй (постнатуралистический. – А. Ж.) период модернизма»[11]. Трансформируя культурный код, стимулированный берлинскими текстами-провокаторами, венская культура начинает бурно порождать свои собственные тексты, которые вскоре обеспечивают ей в общем пространстве немецкого модернизма роль транслирующего центра. Вена самоутверждается за счет Берлина. На фоне ее культурного расцвета роль берлинского натурализма как инициатора модернистской литературы подвергается – уже со стороны современников этого полемического диалога – существенной переоценке. Возникает точка зрения, которая сохраняет свою актуальность до настоящего времени: эстетика берлинского натурализма, несмотря на присущий ей пафос отрицания традиции, еще слишком глубоко укоренена в позитивистской культуре второй половины XIX века и является в лучшем случае лишь предвестием той эстетической революции, которая завершилась в эпоху авангардизма и абстрактного искусства.
* * *
Термины самоописания венского модернизма заимствуются Баром из Франции: «fin de sicle», «декаданс», «импрессионизм», «символизм». В отличие от немецких натуралистов, младовенцы формулируют свои эстетические взгляды не в форме патетических манифестов, а в жанре рефлексивной критической прозы, в которой сочувственный портрет того или иного иностранного поэта становится и автохарактеристикой его венского критика. Главными героями литературно-критической эссеистики младовенцев являются Морис Баррес и Поль Бурже, Жорис Карл Гюисманс и Морис Метерлинк. Наряду с французами значительный интерес привлекают к себе Габриэле Д'Аннунцио, Алджернон Чарльз Суинберн, Уолтер Пейтер, Оскар Уайльд, Август Стриндберг и Йенс-Петер Якобсен. Из русских писателей младовенцы с интересом читают Достоевского, Толстого и Чехова. Следы их влияния, идущего вразрез с эстетикой натурализма, обнаруживаются не только в критической прозе. Установка младовенцев на прием иностранных влияний обусловливает повышенную диалогичность их текстов, вовлеченных в глубокие интертекстуальные отношения с явлениями культуры европейского «конца века».
Особую роль играл в формировании «Молодой Вены» Генрих Ибсен, которого одинаково высоко ценили как натуралисты, так и символисты, видевшие в нем провозвестника грядущей «революции человеческого духа». В 1891 году директор венского Бургтеатра Макс Буркхардт, друг и единомышленник Шницлера и Бара, пригласил Ибсена в Вену на премьеру его драмы «Претенденты на престол». Торжества по этому случаю были восприняты литературной молодежью Вены как символический акт, открывающий новую эпоху национальной культуры. В личной беседе с Гофмансталем Ибсен высказал надежду на консолидацию молодой венской литературы, и можно с уверенностью предполагать, что консолидация мыслилась под знаком идеи «третьего царства», с которой Ибсен связывал в те годы разрешение духовного кризиса, переживаемого современной Европой. По словам участника «Молодой Вены» Рудольфа Лотара, Ибсен – «поэт нашей тоски по новому веку, по новым людям – людям третьего царства, представителям духовного благородства».[12]
Когда позднее Бар писал в своих мемуарах, что принял «Молодую Вену» из рук Ибсена, это не кажется преувеличением. Древняя мечта о «третьем царстве», усвоенная Ибсеном через сен-симонистов, Гейне и Ницше, действительно, дала содержание всему идейному сюжету эпохи модернизма, в разработке которого участвовала и «Молодая Вена». Источником развития этого сюжета явилась коллизия «духа» и «жизни», положенная Германом Баром в основу его эссе «Модернизм» (Die Moderne, 1890) – первого и единственного программного манифеста «Молодой Вены». Написанное за полтора года до встречи с Ибсеном, эссе Бара уже подготовляет и эту встречу, и всю религиозно-философскую концепцию венского модернизма.
Бар начинает не с понятия, а с обобщенного образа эпохи, построенного на апокалипсическом мотиве: «Эпоха больна, и уже нет сил выносить страдание. Все призывают Спасителя, и распятые – повсюду. Может быть, мы дошли до конца, и это – последние судороги человечества. Может быть, мы в самом начале, у колыбели нового человечества, и на нас сходит весенняя лавина. Мы или возвысимся до божества, или сорвемся в ночь, в пустоту – оставаться посередине уже невозможно. Воскресенье во славе и во благе – вот вера модернистов»[13]. После Бара образы Апокалипсиса становятся доминирующим кодом модернистской культуры, той первичной символической моделью, с помощью которой художники-модернисты создают в своем творчестве картину исторической действительности. Значение этой модели сохраняется на всем протяжении истории модернизма, заметно усиливаясь у экспрессионистов. Модернизм осмысляет историю в форме мифа о конце мира и воскресении к грядущему абсолютному бытию, обусловленному гибелью настоящего.
Объяснением апокалиптического зачина служит в эссе Бара философская притча о распавшемся брачном союзе духа и жизни, напоминающая символические сказки романтиков: вечно молодая, вечно меняющаяся жизнь покинула дух, и он, давно состарившийся, застывший в неподвижности, превратился от этого в призрак, а его царство – в призрачное царство лжи. Антитеза духа и жизни, намеченная здесь Баром, восходит к Ницше и Ибсену и образует основу всего философско-литературного дискурса о кризисе европейской культуры (Т. Манн, Г. Зиммель, Т. Лессинг, О. Шпенглер). Именно в этой антитезе находит отражение фундаментальная двойственность модернистского сознания с его поисками первичной истинной реальности, которая скрыта под наслоениями видимостей, искажена «конвенциональной ложью культурного человечества».[14]
«Дух» мыслится у Бара как оплот и символ исчерпавшей себя рационалистической культуры с ее научными законами, моральными требованиями и общественными институтами. Подчинившись их господству, современный человек окружил себя призраками, возвел вокруг себя стены ибсеновского «кукольного дома», и они стали границами его собственного «Я». Правда живой жизни осталась за пределами личности, замкнувшейся в иллюзорном мире лживых условностей, в уютном или мучительном плену культурной традиции. Сознанию младовенцев таким пленом представляется «отцовская» культура классического либерализма, утратившая свое оправание в жизни и веру в свои ценности.[15]
Основу европейского либерализма составляла вера в автономную человеческую личность и ее господство над действительностью. Указывая на кризис «духа», Бар открывает центральную тему австрийского модернизма – тему отчуждения и распада человеческой личности. Важнейшие герои младовенцев – «нервные люди» переходной эпохи. Пленники социальной действительности, они чувствуют себя вместе с тем и рабами своих ощущений, своего «бессознательного». Они мечутся между сциллой репрессивной культуры и харибдой беззаконной, иррациональной природы, чувственно-материальной стихии жизни.
С такой концепцией личности связана намеченная в эссе Бара и ясно прочерченная в литературе всего венского модерна линия эротизма, в частности тяготение к образу роковой женщины, femme fatale. Ее образ символизирует жестокую и влекущую безжалостность жизни, которая обещает обновление за порогом распада и гибели. Первые примеры ее изображения дают картины Климта «Юдифь» и «Саломея» – эстетическая реализация предсказаний Иоганна Якоба Бахофена (Johann Jakob Bachofen, 1815—1875) о грядущем торжестве женственной стихии и дионисийской чувственности над аполлинической мужской цивилизацией. У Гофмансталя вариантом этого женского образа является героиня антикизирующей драмы «Электра» (Еlеktra, 1906), у Шницлера – героиня его ренессансной драмы «Шаль Беатрисы» (Der Schleier der Beatrice, 1899). Почти до гротесковой отчетливости доводит его переводчик и эпигон Бодлера Феликс Дерман (Felix Drmann (F. Biedermann), 1870—1928) – певец непостижимой «мадонны Лючии» (Neurotica, 1891).
Кризис «духа», о котором пишет в своем эссе Бар, и он сам, и его современники оценивали в свете понятия «декаданс». Начиная с Поля Бурже и Ницше, декаданс служил обозначением чувства жизни, обусловленного опытом дезинтеграции и распада целого, будь то целое произведения искусства, философско-эстетического мировоззрения, социального организма или духовного мира личности. В немецкоязычной литературе «конца века» декадентами par excellence предстают именно австрийцы, создававшие свои произведения на фоне «многоцветного заката» (С. Георге) Габсбургской империи.
После Австро-Прусской войны 1866 года Австро-Венгрия, последняя преемница Священной Римской империи, лишается «достаточных причин для своего исторического существования» (Р. Музиль). «Легкомысленная красавица Вена» становится одним из символов декаданса, и ее золотая молодежь, выросшая в атмосфере «веселого апокалипсиса» (Г. Брох) 70-80-х годов, узнает свое чувство жизни в знаменитых стихах Верлена: «Я – римский мир периода упадка».
Поэты «Молодой Вены» не без горькой гордости пишут о себе как о пресыщенных наследниках великой умирающей традиции. На их глазах рушится бюргерско-аристократическая культура европейского гуманизма. Утрачивая свой смыслообразующий центр, она распадается на безразличное множество изолированных, почти иллюзорных артефактов, овеянных усталым очарованием обреченной красоты. «Возникает ощущение, пишет в 1891 году Гофмансталь, что наши отцы (…) оставили в наследство нам, родившимся так поздно, всего две вещи: красивую мебель и излишне утонченные нервы (…) У нас нет ничего, кроме сентиментальной памяти, парализованной воли и зловещего дара раздвоения личности».[16]
Но напряженная авторефлексия в красивых интерьерах отцовских особняков имела более значительные последствия, чем бесплодное отчаяние эпигонов. Пафос декаданса не исчерпывается чувством утраты и сожаления об утраченном. Мироощущение венских декадентов отмечено принципиальной амбивалентностью: их «сплин» мотивирован тоской по неведомому «идеалу»; за их влечением к смерти скрывается жажда обновления; исповедуя культ острых и необычных ощущений, разрушительных страстей и измененных состояний сознания, они яростно протестуют против «серой, безрадостной действительности»[17] и питают надежду на спасительный прорыв в иную реальность, в область «высшего бытия». «Вырождающиеся натуры имеют величайшее значение всюду, где должен наступить культурный прогресс», – писал Ницше в «Веселой науке»[18], и поэты «Молодой Вены» ясно осознают свое декадентство как печать избранности, как обещание перехода к тому высшему типу личности и культуры, который Герман Бар называет модернизмом.
Декаданс включен в историю модернизма как стадия самоотрицания поздней, пресыщенной своими собственными богатствами культурной традиции. Наступление новой эпохи начинается, по мнению Бара, с того, что современный человек отрекается от служения одряхлевшему духу и тоскует о воссоединении с жизнью: «Мы снова хотим правды. Мы хотим подчиниться нашей внутренней тоске, хотим широко распахнуть окна, чтобы в нас хлынуло солнце, жадно распахнуть все наши чувства, обнажить наши нервы – и впитывать, впитывать»[19]. Чувства и нервы должны вновь воссоединить то, что разъединил рассудок – мир внешний и внутренний, жизнь и дух: «Мы – пилигримы чувственности, – пишет Бар, – только чувственным ощущениям мы доверяем, только их приказам подчиняемся».[20]
То, что рассудок предлагает нам под именем истины, ею, по мнению Бара, не является, ибо действительность не есть нечто готовое и завершенное вне нас. В эпоху зарождения венского модернизма в искусстве господствовали, с одной стороны, эклектический стиль историзма с его опорой на художественные образцы прошлого от готики до барокко и классицизма, а с другой – натуралистическая школа, стремившаяся к максимально точному воспроизведению естественнонаучной картины мира. Их общий, отвергнутый Баром принцип – готовая действительность и незыблемая общезначимая истина. Развенчивая объективную и безличную истину рассудка, Бар противопоставляет ей истину сенсуалистическую и принципиально субъективную: «Наш закон – правда, какой она является каждому в его индивидуальных ощущениях[21]».
Отсюда следует, что и жизнь, существующая отдельно от нашего восприятия – такая же фикция, как и мир зловещих призраков, порожденный интеллектом, «духом». Уже романтики утверждали, что трансцендентальным условием художественной истины является субъект восприятия, но не человек рационалистической культуры, а более опасный и непредсказуемый homo psychologicus, т. е. личность, наделенная чувствами и инстинктами, взятая во всей сложности и противоречивости своего внутреннего мира. Так и для Бара жизнь обладает реальным смыслом, поскольку входит в пространство нашего чувственного опыта, становится текстом, сотканным из наших ощущений, эмоций, фантазий и мыслей.
Субъективная истина, к которой призывает Бар, не относительна, а абсолютна. Она мыслится как результат взаимопроникновения духа и жизни. Дух, утративший контакт с жизнью, и жизнь, утратившая контакт с духом – враги и соперники, две непримиримые иллюзии. Но дух, обновленный жизнью – это уже не бесплодный логос, созидающий призрачные законы, точно так же, как и жизнь, просветленная духом – уже и не грозная и чуждая человеку иррациональная стихия. В слиянии они – единосущные и тождественные – обретают свое подлинное значение. И жизнь, и дух, то и другое, выступают теперь символами абсолютной истинной реальности, в которой преодолеваются мучительные противоречия рационалистической культуры. Вот почему в дальнейшей истории модернизма, явственнее всего у авангардистов, борьба с опредмеченной, объективированной реальностью ведется как под знаменем жизни, так и под знаменем духа. История развития этих основных концептов модернизма ведет от их противопоставления к их тождеству, от обостренного сознания психофизического дуализма к торжеству «третьего царства».
В эссе Бара эта эволюция ещ не развернута, но уже намечена, как намечена и центральная для модернизма идея спасительной, мессианской роли искусства и художника. Бар, впервые после романтиков, придает искусству жизнестроительную функцию. Возрождение человечества, в которое верят модернисты, пишет он, наступит тогда, когда «к людям снова вернется искусство» и человек, пробившийся к своей неповторимой личной правде, станет благодаря этому художником, способным вдохнуть свою душу в мертвую материю жизни[22]. Тем самым модернизм Вены уже на пороге своего возникновения входит в прямое противоречие с натуралистической формулой «искусство = природа – X», где X означал субъективность художника (А. Хольц).
Для «последовательного натуралиста» природа воплощает полную и высшую истину именно постольку, поскольку она существует вне сознания, объективно. Модернисту же, каким он становится в Вене, природа, не преломленная сквозь призму поэтического сознания, кажется мертвой и бессмысленной. Она – только нереализованная возможность истины, и реализовать ее призвано субъективное сознание художника, которое не искажает истину природы, существующую, якобы, где-то вовне, а впервые ее творит и воплощает, освобождая души вещей из плена материи. Именно об этом пишет позднее и Гофмансталь: «Предметы жизни тенями парят вокруг нас до тех пор, пока не выпьют нашу кровь: только тогда они обретают живые тела».[23]
Соответственно меняется и отношение к эстетической, вообще культурной, традиции. Прошлое культуры, перестает быть консервативной системой ограничений, с которой сражался натурализм, но оно перестает восприниматься и как архив священных и неприкосновенных образцов для ностальгического подражания, примеры которого давал венский историзм, воплощенный в живописи Ганса Маккарта и в пышной архитектуре венской Рингштрассе. Молодое поколение венских художников, тех, кого стали называть «Молодой Веной» и «Сецессионом», отвергает то и другое. Когда Бар говорит, что искусство призвано возродить правдивость мысли, соединив ее с правдой души, это означает, что культурная традиция должна стать пространством свободы и эксперимента и поэт обязан работать с ней так, как скульптор работает с камнем или с бронзой. Выразительным примером такой эстетики являются обработки античных мифов в драматургии Гофмансталя («Алкеста», «Электра», «Эдип и Сфинкс»).[24]
Освоение культурной традиции становится в творчестве младовенцев формой обновления самой жизни. В этом – суть младовенского эстетизма и его принципиальное отличие от того бессознательного бегства в царство радужной эстетической иллюзии, которое характеризует жизненную стратегию культурного бюргерства Вены в эпоху ее «веселого апокалипсиса». Поклоняясь искусству, либеральная австрийская буржуазия изживает свою неудовлетворенность исторической действительностью. Лишенная политического влияния и обманутая в своих надеждах на общественный прогресс, она меняет место в парламенте на кресло в театральном партере и нейтрализует непоправимую действительность, отождествляя ее с театральным представлением по общему признаку иллюзорности: жизнь, осмысленная как театр, не внушает страха и не требует ответственности. Все становится по видимости безопасной, хотя и щекочущей нервы игрой, как это показано, например, в пьесе Артура Шницлера «Зеленый какаду» (1899).
Эстетизм «Молодой Вены» – другого рода. Он начинается с ригористической демаркации границ. «Нет прямого пути ни от поэзии к жизни, ни от жизни к поэзии», – пишет Гофмансталь в лекции 1896 года «Поэзия и жизнь»[25]