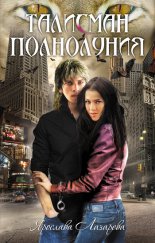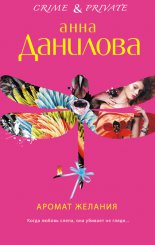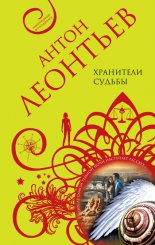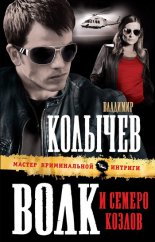Россия белая, Россия красная. 1903-1927 Мишагин-Скрыдлов Алексей
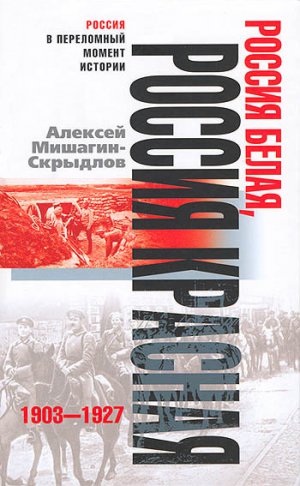
Часть первая
Глава 1
ПРОШЛОЕ
Когда я был совсем маленьким, мне запрещалось трогать альбомы, лежавшие в большой гостиной.
В шесть лет меня к ним допустили; скоро они открыли свои секреты, но тем не менее не потеряли в моих глазах своего престижа. Их содержимое, теперь хорошо знакомое мне на ощупь и на вид, оставалось полным магии. Я так мечтал об этих альбомах, прежде чем открыть их, что, перелистывая их страницы позднее, всегда находил между строк следы моих давних мечтаний. Даже сегодня, когда они представляют едва ли не все, что осталось от прошлого, более счастливого для меня, нежели настоящее, раскрывая их вновь, я не могу сдержать, пускай ребяческую, дрожь предвкушения.
Меня восхищал сам их вид. Лежавшие в большой гостиной альбомы были огромны. Они казались еще толще из-за своих роскошных переплетов, сделанных из кожи, гладкой или с узорами и как-то удивительно благоухающей, а на них извивались диковинные звери и драконы в японском стиле, представлявшие собой позолоченные или бронзовые аппликации.
Эти тома всегда лежали на столе в главной гостиной, где бы ни находилась моя семья – в губернаторском дворце или в нашей квартире в Петербурге. Даже в поездках в деревню, а позднее в наших скитаниях они устанавливали связь между нашими жилищами. Моя сестра во время бегства из советской России смогла взять их с собой.
Содержимое этих альбомов, количество которых с годами увеличивалось, представляло собой историю моей семьи. Газетные вырезки, письма, телеграммы, фотографии, официальные документы (грамоты, указы), вплоть до меню званых ужинов. Все эти документы фиксировали наиболее памятные моменты из жизни моих родителей, в первую очередь из военной карьеры отца.
В тот момент, когда альбомы впервые были открыты для меня, его карьера уже далеко продвинулась, ибо к моменту моего рождения отцу, который женился поздно, было под шестьдесят[1].
Его имя прогремело в России в 1877 году благодаря подвигу, точный рассказ о котором я нашел в хранившейся в одном из альбомов газетной вырезке.
Произошло это во время Русско-турецкой войны; чтобы понять значение этого эпизода, необходимо дать представление о той эпохе, когда средства ведения войны, как материальные, так и тактические, сильно отличались от тех, какими они стали пятьдесят лет спустя. Вспомним, что дальнобойных орудий не существовало, пулеметы стреляли лишь на короткую дистанцию, а подводных лодок еще не было.
Мой отец был в то время капитан-лейтенантом. После начала военных действий его перевели на Дунай. В задачу русского флота входила установка мин на всем течении реки, чтобы не позволить противнику использовать ее как средство сообщения.
Неожиданно он узнал, что турецкий корабль вошел в устье, а на помощь ему движутся другие корабли. Таким образом, они могли закрыть русскому флоту выход в Черное море. Какой бы простой ни показалась эта ситуация нам сегодня, она тем не менее была для русской флотилии критической, даже трагической. Среди команд начала распространяться паника. Был день, в светлое время суток атаковать турок внезапно было невозможно. Тогда мой отец с полным хладнокровием задумал дерзкий план, которым поделился со своими товарищами, офицерами Шестаковым и Дубасовым, согласившимися рискнуть вместе с ним. Отец получил разрешение командующего, и трое офицеров взяли самый быстроходный паровой катер из имеющихся, который, впрочем, не был предназначен для ведения на нем боев.
Русские корабли сгруппировались на открытом месте, и их экипажи следили за тем, как маленький катер мчится на турецкий корабль. Под градом пуль, обрушенных на него турками, катер продолжал нестись вперед. Наконец, почти возле борта турецкого корабля, мой отец сбросил мину замедленного действия, и катер, развернувшись, возвратился к русской эскадре. Только тогда обе стороны поняли, что дерзкое предприятие увенчалось успехом. Русская эскадра разразилась криками «Ура!». Троих израненных офицеров подняли на борт.
Турецкий корабль, словно побежденный такой безумной храбростью, после короткой заминки поспешно ушел в море, опасаясь, что мина взорвется в любой момент. Устье было освобождено. Русскому флоту осталось лишь дождаться, когда мина взорвется, а затем выйти из реки.
Этот выход и дальнейшие боевые действия на море были в то время расценены как начало русской победы в войне. Тогдашний царь Александр II лично приехал в госпиталь, где лечили капитан-лейтенанта Скрыдлова. Прямо на больничной койке молодой офицер получил из рук самого императора орден Святого Георгия.
С этих событий начались слава, военная репутация, авторитет и влияние человека, которого причудливые повороты судьбы водили от высоких почестей до последних степеней нищеты.
В другом альбоме, завораживавшем меня в детстве, я нашел отчеты о свадьбе моих родителей. Статья, опубликованная в номере «Голоса» от 25 января 1891 года в разделе светской хроники, начиналась следующим абзацем:
«20 января 1891 г. в Санкт-Петербурге, в часовне Министерства двора и уделов, состоялось бракосочетание капитана Скрыдлова, сына предводителя дворянства Скрыдлова и его супруги, урожденной княжны Мишагиной, с Ольгой Леброк, дочерью полковника Леброка, адъютанта великого князя Николая Николаевича Старшего, и его супруги, урожденной баронессы Нолькен».
Далее следовал подробный отчет о церемонии и последовавших за нею празднествах, с перечислением присутствовавших, в первых рядах которых были его императорское высочество великий князь Алексей Александрович, генерал-адмирал Императорского флота. Их императорские высочества великий князь Павел Александрович с супругой, великой княгиней Александрой, представляли Его Величество короля Георга Греческого, их тестя и отца, который согласился быть посаженым отцом капитана Скрыдлова. Посажеными родителями невесты были его императорское высочество герцог Лейхтенбергский и г-жа Бенардаки, сестра моей матушки.
Я появился на свет более чем через десять лет после этой свадьбы, воспоминания о которой всегда казались мне весьма далекими. Стоит ли говорить, что сейчас блеск всех этих балов и праздников потускнел еще более?
Уже упомянутый титул князя Мишагина я должен был унаследовать через несколько лет в силу обычая, существовавшего тогда в русских аристократических семьях, от моей бабушки по отцовской линии, которая была последней княжной Мишагиной. Семья эта происходит со Смоленщины; мой дед Скрыдлов, муж княжны, был предводителем дворянства Смоленской губернии. В подобных случаях, чтобы не угасла фамилия, царь специальным указом разрешал передачу титула и фамилии по старшей мужской линии в потомстве последней в роду княжны[2].
Понятно, что я рассказал о подвиге моего отца и дал некоторые сведения о имени, которое ношу, не из пустого тщеславия. Беды, обрушившиеся на мою семью и на меня самого после 1917 года, достаточно раскрыли мне глаза на современное положение вещей, чтобы через годы и границы я с определенной отстраненностью смотрел и на былые подвиги, и на блеск княжеского титула. Я просто хотел показать социальное положение того, кто ведет рассказ от первого лица, и заранее указать источники его информации. Не претендуя, из опасения показаться смешным, на то, что мой рассказ способен привнести нечто новое и важное в изучение истории России начала XX века, я тем не менее не желаю, чтобы эти воспоминания принимали за мои собственные измышления. С одной стороны, я сохранил в памяти многочисленные беседы и рассказы членов моей семьи, внимательным слушателем которых был с раннего детства; с другой стороны, с самого юного возраста я начал делать собственные наблюдения: эти воспоминания и направляли мое перо. Понятно, что о событиях, свидетелем коих я не был сам, я рассказываю со слов моих отца и матери, которые, один в силу своего чина адмирала и должности наместника, благодаря многочисленным служебным обязанностям, обширным знакомствам и родственным связям, а другая – благодаря своему положению в обществе и близкой дружбе с некоторыми известными личностями, донесли до меня свои точные взгляды и суждения.
Первое наблюдение, которое я сделал подобным образом, относится ко времени, предшествовавшему началу Русско-японской войны. Я был тогда слишком мал, чтобы помнить что бы то ни было. Но обстоятельства, о которых расскажу, являлись предметом долгих бесед отца с матерью и с некоторыми его друзьями, которые хорошо отпечатались в моей памяти. Мое приобщение к делам, решавшим судьбы моей страны, мое патриотическое воспитание начались с событий, которые сами по себе достаточно четко рисуют психологические портреты императора Николая II и его супруги, императрицы Александры Федоровны.
Глава 2
ИМПЕРАТОРСКИЙ ОПТИМИЗМ
С 1901 года в русском обществе, особенно среди военных, начали ходить тревожные слухи относительно Японии. Известно, что японцы желали заполучить Корейский полуостров. После установления над ним протектората они рассчитывали переселить туда часть своего избыточного населения, которому уже не хватало места на старых островах и которое продолжало увеличиваться. Но лесные богатства Кореи также возбуждали вожделения некоторых высокопоставленных персон русского двора. Они получили на этой японской территории многочисленные крупные концессии, а для того, чтобы обеспечить свои владения гарантиями, уговорили царя последовать их примеру. Очевидно, ослепленный выгодой предприятия, император вложил в полуостров значительные средства из личных доходов. Такая ситуация встревожила японцев. Они считали, что эта внешне коммерческая операция угрожает тому порядку вещей, который они пытались установить; они хотели расширить и защитить свою территорию, тогда как царь и его окружение защищали свои миллионы. Протесты японцев становились все чаще и все громче; все напрасно; наконец при дворе распространилась новость, что Япония начала перевооружение армии. В связи с этим для русского двора стало совершенно невозможно и далее не замечать этих угроз. Следовало хотя бы изобразить беспокойство, возбудить общественное мнение.
В 1902 году император назначил моего отца, имевшего в то время уже чин адмирала, командующим Дальневосточной эскадрой. Отец казался тем более подходящей кандидатурой на эту должность, что хорошо разбирался в дальневосточных делах: несколькими месяцами ранее он принимал самое активное участие в войне с боксерами[3]. Теперь же, ввиду усиления напряженности в русско-японских отношениях, ему поручалось отправиться на месте понаблюдать за обстановкой.
Завершив свою миссию, отец вернулся в Россию в начале 1903 года, оставив свой флот на Дальнем Востоке. Он был крайне встревожен. То, что он видел и слышал, сначала смутило его, а потом показалось поучительным. Он чувствовал, что война неизбежна и начнется в ближайшем будущем. Его тревога была тем сильнее, что он проникся глубоким уважением к этому маленькому народу, столь презираемому русскими. Его заинтересовали не только японские искусство и культура, но и бросающийся в глаза японский военный гений, недооцениваемый в Европе.
Он возвращался с решимостью дать полный отчет о своей миссии, ничего не утаив ни из собранных сведений, ни из испытываемых тревог. Следовало незамедлительно попросить аудиенции у императора. Но строгий, давно установленный протокол этого мероприятия ни в коем случае не мог быть нарушен. Какими бы важными ни были обстоятельства, сколь бы настоятельной ни была необходимость, просьба об аудиенции не могла адресоваться непосредственно царю или его ближайшему окружению; точно так же и царь не мог никого вызвать напрямую, без официального посредника. Все делалось через министра, определявшего предмет аудиенции или вызова и обеспечивавшего допуск во дворец лица, с которым император хотел или соглашался встретиться. Сегодня в это трудно поверить, но в начале века монарх оказался изолированным от самых верных своих слуг и самых компетентных советников этой архаичной системой, которая, как показало будущее, – увы! – не смогла защитить царя от всякого рода авантюристов.
Чтобы скорейшим образом добиться аудиенции, мой отец счел нужным изложить причины своего нетерпения морскому министру, к которому должен был обратиться согласно протоколу. Отец сообщил министру, что обязан немедленно раскрыть глаза его величеству на серьезность положения. Необходимо было сообщить ему, какую опасность для России представляет маленький японский народ: это был враг, морально готовый объявить нам войну и полностью готовый к этой войне в техническом плане.
Слушая его, морской министр улыбался. Он напомнил отцу, что в силу занимаемой им должности и сам располагает свежей информацией и что эта информация позволяет ему видеть вещи совсем не так мрачно. Он добавил, что в случае войны Россия обязательно победит. «Мы, – буквально сказал министр, – победим японцев, просто закидав их шапками». Тем не менее он согласился передать его величеству просьбу отца. Министром был адмирал Тыртов.
Прошло несколько месяцев, а вызова во дворец все не было. Нетерпение, возбуждение, волнение не давали отдохнуть ни отцу, ни домашним, которые тоже были охвачены бессильной тревогой. Сколько раз матушка вспоминала при мне беспокойную атмосферу этих недель! Отец за годы службы привык к совсем иному отношению двора. Царь Александр III приучил его к почти немедленным аудиенциям: сразу по возвращении отца из служебной поездки император принимал его с минимумом формальностей и внимательно прислушивался к малейшим замечаниям. Надо признать, что дела сильно изменились. Ни для кого не секрет, что император Николай II очень не любил выслушивать неприятные известия. Впоследствии эта черта превратилась у нашего несчастного монарха в настоящую манию оптимизма и благодушия, эксплуатируемую его окружением, ограждавшим его от любых разговоров, контактов и чтения любых бумаг, способных вызвать у него хотя бы малейшее беспокойство. Слишком любивший свой душевный покой, слишком легко поддающийся чужому влиянию, царь, надо признать, слепо следовал такой политике бездумного двора.
Однако мой отец заставлял замолчать свое самолюбие. Его тревоги были вызваны исключительно заботами об Отечестве: он полагал, что быстрые, решительные действия, предпринятые благодаря доставленным им сведениям, могут позволить избежать конфликта; он видел, что с каждой потерянной неделей тучи над его страной все больше сгущаются.
Болея за дело, он решил преодолеть демонстративную обструкцию адмирала Тыртова. Отец помнил всегда благожелательное к нему отношение вдовствующей императрицы Марии Федоровны, неофициальные завтраки, куда вдовствующая императрица приглашала его без этикетных церемоний. Она часто звала его к себе, чтобы расспросить о делах при дворе и на флоте, а также о политике[4].
Отец попросилприема увдовствующей императрицы и легко его получил. Он изложил ей то, что потом стало именоваться «желтой опасностью», и привел многочисленные примеры, оправдывавшие его беспокойство. Поистине царские подарки, которые мой отец получил во время своего путешествия из рук самого микадо, не только не свидетельствовали об отсутствии угрозы со стороны Японии, но, по его мнению, даже подтверждали ее наличие. В заключение отец заверил императрицу, что японцы вовсе не скрывают своих воинственных намерений; они открыто обсуждают войну в частных разговорах.
Вдовствующая императрица сразу поверила человеку, к советам которого всегда прислушивались и император Александр III, и она сама. С другой стороны, она еще сохраняла определенное влияние на своего сына, Николая II, который отдалился от нее позднее, после рождения цесаревича, под влиянием тех мистически настроенных лиц, которые окружали его супругу. Вдовствующая императрица пообещала отцу переговорить с царем.
Результат этой встречи не заставил себя ждать. Отца вызвали в императорский дворец; но вызов был передан через морского министра, и отец не сомневался, что адмирал Тыртов, которому в некотором смысле выкрутили руки, постарался настроить его величество против отца. С таким настроением он и отправился к императору. Я много раз слышал, как отец с горечью рассказывал в деталях об этой аудиенции.
Отец обещал себе держаться перед царем твердо. Однако, едва переступив порог императорского кабинета, он не смог не подпасть под обаяние государя, которое испытывал каждый, кто к нему приближался: мой отец сам не раз испытывал его на себе. Но император, человек очень застенчивый, сам не осознавал, как на людей воздействуют его серые глаза и ласковая речь. В серьезные моменты, возможно желая справиться со смущением или же скрыть его, он со всей тщательностью занимался ничего не значащими мелочами. Обладая феноменальной памятью на имена, он с удовольствием ею пользовался. Как и все члены императорской фамилии, тщательно развивавшие в себе эту способность, Николай постоянно ее демонстрировал с почти фантастической виртуозностью. Обращаясь по имени и отчеству к людям, которых он знал совсем мало, император удивлял собеседников и льстил их самолюбию. Хотя в определенных слоях общества этот способ нравиться почти не действовал и по отношению к нему употреблялось слово «фокус», он тем не менее был весьма эффективен со многими людьми, принимавшими его за проявление особого монаршего благоволения.
Протокол аудиенций требовал, чтобы вопросы задавал император, а его собеседник строго ограничивался ответами на них. Но мой отец догадывался, что его величество плохо ориентируется в теме разговора, сам же он давно горел желанием все ему объяснить. Разумеется, император был осведомлен о том, какого рода информацию мой отец собрал во время своей поездки, и не мог забыть, что сам поручил ему совершить эту поездку.
Однако шли минуты, а император даже не обмолвился о порученной им миссии. Верный своему пристрастию к деталям, он подробно выспрашивал у отца его мнение относительно небольшого изменения, которое планировалось внести в форму моряков: добавлять или не добавлять серебряный галун на поясной ремень парадного кителя. В той мере, в какой это дозволялось этикетом, отец постарался выразить свое желание отчитаться о поездке. Тогда царь соизволил спросить его о персоне микадо, о том, как японский монарх разговаривает и ведет себя на публике, об окружавших его церемониях; отметил ли мой отец какие-нибудь любопытные особенности японского этикета? Император слышал, что отец привез подарки, представляющие большой художественный интерес: удовлетворен ли он приемом, оказанным ему микадо?
Затем, как будто он посылал отца на Дальний Восток лишь затем, чтобы тот собрал все эти сведения о микадо, император поднялся, давая тем самым знак, что аудиенция окончена. Она продолжалась столько же времени, сколько обычно, т. е. четверть часа, максимум двадцать минут.
Тогда отец, уступив чувству беспокойства, переполнявшему его, попросил у его величества прощения за нарушение всех правил этикета, что объяснялось серьезностью вопроса, и заговорил первым. Он сказал императору, что во время своей поездки собрал очень важные сведения: Япония готова объявить нам войну и вести ее…
Перебив отца и протянув ему на прощание руку, император сказал:
– Ах, вы, как всегда, пессимистичны… – и с любезной улыбкой закончил: —…Николай Илларионович!
Отец вышел.
Через некоторое время после этой аудиенции отец был назначен главнокомандующим Черноморским флотом и наместником причерноморских областей. Это сложное русское название его новой должности в европейских языках, в первую очередь во французском, международном языке дипломатии, передается титулом «вице-король Крыма». Также и титул императорского наместника на Кавказе всегда переводится как «вице-король Кавказа». Назначение отца было очень почетным; он мог чувствовать только удовлетворение, получив его, и вся моя семья испытывала гордость. Вместе с тем и ближайшее окружение императора было удовлетворено – это самое меньшее, что я могу сейчас сказать, – этим назначением, удалявшим отца из столицы… Это окружение, или «клика», состояло из влиятельных людей, по большей части весьма посредственных умственных способностей, но эти люди крепко держались друг за друга и старались никого больше не подпускать к государю; они боялись влияния любых людей, не принадлежащих к их кругу, которые могли раскрыть царю глаза на грозящие опасности, не побоявшись нарушить его благодушие.
Итак, отец отправился в Севастополь, резиденцию наместника. Там все его время и силы поглотили обязанности, связанные с новой должностью. Естественно, его внимание было отвлечено от Дальнего Востока. Тем не менее он не забыл свои недавние тревоги; но, не будучи больше в курсе событий, ибо в 1903 году пресса не пользовалась свободой и не имела современных средств связи, отец начал спрашивать себя, не поддался ли он и впрямь пессимизму, как говорил его величество. Он думал, что Япония начнет войну в самое ближайшее время, а войны все еще не было. Ему хотелось бы самому убедиться в действительном положении вещей, сделать свои выводы.
В это время мои родители отправились на рождественские праздники в Петербург и там получили приглашение на придворный прием в Зимнем дворце. Отец поспешил принять его. Где, как не при дворе, можно узнать о русско-японских отношениях?
Такие приемы, на которые мои родители часто приглашались, носили название «малых», но на них собиралось до трехсот человек. Они включали в себя спектакль и ужин. После прибытия приглашенные должны были выстроиться в два ряда: дамы с одной стороны, мужчины – с другой. Император и императрица проходили вдоль рядов, останавливаясь по своему усмотрению перед персонами, к которым желали обратиться, и недолго с ними беседовали.
Протокол требовал, чтобы первыми на пути следования августейшей четы стояли члены дипломатического корпуса. Моя матушка, в своем качестве супруги наместника, должна была на этот раз стоять в начале дамского ряда[5]. Таким образом, заняв свое место среди дам, матушка оказалась напротив членов дипломатического корпуса, что позволило ей даже лучше, чем отцу, наблюдать всю сцену, а его избавило от необходимости расспрашивать кого бы то ни было о напряженности в отношениях между двумя империями.
По окончании спектакля царь и царица вошли в Малую бальную залу, где уже выстроились приглашенные, и начали с ними разговаривать. Император уже обратился ко многим дипломатам. Он поравнялся с предпоследним из них, послом Великобритании; любезно поговорил с ним. Далее, последним в группе дипломатов, стоял посол Японии. Закончив разговор с английским послом, царь отошел от него. Японский посол уже начал его приветствовать, но царь демонстративно повернулся к нему спиной и подошел к другой группе.
Эффект был сильным. По дипломатическим обычаям той эпохи, подобного рода афронт, усиленный официальным и протокольным характером мероприятия, был равнозначен разрыву. Поступок императора изумил всех тем сильнее, что присутствующим была хорошо известна любезность государя, порой чрезмерная; от него никогда не ждали резких и энергичных действий.
В эту ночь поведение царя не получило объяснения. Двор с ужасом рассматривал его возможные последствия, терялся в догадках и комментариях.
Лишь на следующий день стало известно, что японский флот без объявления войны атаковал русские корабли. Всего за несколько минут до начала прошлого вечера император получил телеграмму, извещавшую его об этом.
Сейчас события Русско-японской войны хорошо известны, а виновные в поражении русских войск давно названы, что избавляет меня от необходимости рассказывать об этом. Но в некоторых кругах, в которых бывал мой отец, а это были умеренно-либеральные интеллигентские круги, не ждали, пока пройдут годы, чтобы вынести здравое суждение об этой войне. Скоро все убедились в непредусмотрительности правительства. Не хватало боеприпасов, угля для кораблей, перевязочных материалов для раненых. А до фронта из центральных районов страны было две недели езды по железной дороге. Эта война, еще больше, чем этикет и интриги императорского двора, кажется относящейся к далекому прошлому, а ведь ее события отделены от времени, когда я пишу эти строки, какими-то тридцатью годами.
Поначалу публика восприняла войну довольно отвлеченно. Она шла где-то очень далеко. К тому же ни один полк из составлявших императорскую гвардию не был отправлен на Дальний Восток, так что мало людей в столице воспринимало происходящее как реальность. Следует отметить, каким бы шокирующим это ни показалось, что в Петербурге и Москве война была непопулярна. Это проявлялось в том малом интересе, которое к делам на Дальнем Востоке проявляли и правительство, и общество. Не были приняты никакие чрезвычайные меры; во главе армии и флота оставлены все те, кто, за редкими исключениями, занимали свои посты в мирное время благодаря фавору или дружеским связям. В боевых условиях они проявили свою техническую безграмотность, отсутствие опыта командования, неспособность руководить крупными соединениями. На театре военных действий, когда главнокомандующему сухопутными силами Куропаткину приносили донесения об очередном бое и с тревогой ждали от него решающего приказа, он во всех случаях отвечал одним словом: «Терпение! Терпение!» Не хватало боеприпасов и провианта, люди умирали, как мухи… «Терпение!» Это слово так и прилипло к главнокомандующему, которого теперь называли не генерал Куропаткин, а генерал Терпение.
В правительстве и в обществе никто не сомневался в победе. В Петербурге над японцами насмехались; на Дальнем Востоке умирали от их пуль. Но приходили известия о все новых и новых поражениях, и в конце концов ситуация стала очевидной для всех. Возникло беспокойство.
Наконец правительство обратило на события на Дальнем Востоке больше внимания. Это совпало по времени с почти полным разгромом русского флота. Среди многочисленных решений, принятых в это время, одно затрагивало нас непосредственно: адмирал Макаров, командующий Дальневосточной эскадрой, погиб при взрыве своего флагманского корабля «Петропавловск», и ему следовало найти замену. Тогда вспомнили о моем отце и назначили его командующим Дальневосточной эскадрой.
Отъезд отца в далекий край, где шла война, является моим первым детским воспоминанием. Эти образы, особенно один, одна картина, до сих пор стоят у меня перед глазами.
Матушка и мы с сестрой сели в специальный поезд нового главнокомандующего, чтобы проводить его из Севастополя до Харькова. Популярность моего отца была огромна. Со времени Русско-турецкой войны он был одним из главных героев страны. Рассказы моряков, наивные песни, лубочные картинки донесли до каждого крестьянина его имя и его образ. Кроме того, он был известен своими либеральными воззрениями и приверженностью новым вглядам, нередко вступавшей в конфликт с существующей системой. По пути следования поезда собирались толпы. На станциях к вагонуподходили целые делегации, и мы с сестрой, на руках гувернанток, смотрели из окон за этим народным движением. Мне было четыре года, сестре – три. Моего отца благословляли; ему подносили иконы, кресты, одни бедные и грубые, другие – усыпанные драгоценными камнями. Матушка насчитала их триста семьдесят.
Наконец, в Харькове мы расстались. Отец простился с нами по старому славянскому обычаю, соблюдаемому при отправлении в дальнюю дорогу, особенно на войну. Мы с сестрой были слишком малы, чтобы слышать об этом обычае, поэтому непривычные действия и слова отца потрясли нас и навсегда отпечатались в наших головках.
Итак, в Харькове, прямо на перроне вокзала, отец собрал нас перед собой. Гувернантки передали нас с сестрой на руки матери, которая поставила нас перед собой. Мы держались за ее юбку и смотрели на отца-адмирала. Ряды встречающих расступились. Отец подошел, опустился на колени, прямо на плиты платформы, и в этом положении попрощался с нами и попросил у нас прощения. Этот шестидесятилетний мужчина в полной парадной форме, посреди пришедшей встретить его толпы, стоял на коленях перед женщиной и двумя маленькими детьми. В полной тишине он произнес такие слова:
– Ты, жена, и вы, дети, простите меня за все то зло, что я вам причинил.
Ошеломленные и напуганные, мы с сестрой сами чуть не упали на колени.
Как известно, запоздалые усилия правительства уже не могли переломить ход событий на Дальнем Востоке.
Прибыв на театр военных действий, отец увидел, что численность эскадры катастрофически сократилась, те немногие корабли, что еще остались в строю, находятся в плачевном состоянии, большинство артиллерийских орудий непригодно к использованию. Вдобавок ко всему ощущалась нехватка снарядов. Матушка до сих пор хранит письмо отца, в котором он приоткрывает ей подлинное положение вещей, не решаясь обрисовать его полностью, и сетует на то, что до сих пор не получил необходимых для санитарных пунктов медикаментов, хотя отправил запрос уже пятьдесят дней назад.
Войска были деморализованы. Некоторые командиры тоже. Умножались случаи измены или халатности, которая в тех условиях была равнозначна измене. В последующие годы много говорили о героической обороне Порт-Артура: однако адмирал Небогатов, командовавший флотом, и генерал Стессель, начальник гарнизона, были сурово наказаны правительством. После капитуляции они были обвинены в ряде ошибок. Но виновны ли они были, или им просто не повезло? Как бы то ни было, и тот и другой были на десять лет посажены в Петропавловскую крепость.
И как не признаться, что меня сильно поразило такое совпадение: первые мои воспоминания связаны с Русско-японской войной. Случаю было угодно, чтобы эти записки, основную часть которых составляет рассказ о большевистской революции, начинались конфликтом на Дальнем Востоке. Таким образом, мои первые личные воспоминания относятся к тем самым событиям, последствия которых привели к беспорядкам, хоть и подавленным, но явившимся провозвестниками революции. Русско-японская война и ее катастрофический исход безжалостно высветили главных виновных: определенную категорию военных и государственных деятелей, влиятельных, но опытных лишь в светских делах, необразованных и руководствующихся устаревшими принципами; отдельных членов императорского окружения, ослепленных интригами и эгоизмом; наконец, самого царя, окруженного плохими советниками, поддающегося чужому влиянию, слишком неуверенного в себе, слишком благодушного и оптимистичного. Никто не пытался исправить недостатки существующего государственного здания, и тринадцать лет спустя они, еще более усугубившиеся, послужили причиной его обрушения. Кровопролитная Русско-японская война нанесла первый удар по этому зданию с облупившимся фасадом; народные возмущения, последовавшие за ней, поколебали его до самого фундамента, обнажив глубокие трещины. Но никто не пытался его починить, модернизировать. И при третьем ударе простоявшее века строение рухнуло.
Так русские люди моего поколения открывали глаза, чтобы увидеть затянутое тучами небо, прорезаемое первыми молниями той бури, в которой многим из них суждено было погибнуть. И сам я видел, как в смутах 1905 года эти угрозы конкретизируются.
Глава 3
ПЕРВЫЕ БЕСПОРЯДКИ
Помню, в одно воскресное зимнее утро в Петербурге мы с сестрой были приглашены на детский праздник. Как я сейчас припоминаю, было самое начало 1905 года. До сих пор среди наших детских игр мы слышали о покушении на того или иного министра, а в некоторые дни взрослые говорили, что сегодня благоразумнее не выходить на улицу. Но в то воскресенье матушка разрешила нашим гувернанткам отвезти нас в семью, устраивавшую детский праздник.
После того как мы провеселились целый день, нас усадили в карету, чтобы везти домой. Наш кучер поехал обычной дорогой, но на одном перекрестке по жесту городового остановил лошадей. Этот полицейский был другом нашего кучера; он узнал его и, видя, что в карете сидят женщины и дети, посоветовал нам сменить маршрут; главное, сказал он кучеру, не ездить по Невскому проспекту, так будет разумнее.
Помню, наши гувернантки переглянулись и побледнели. А сестра и я очень обрадовались этому неожиданному инциденту. Кучер повез нас кварталами, где мы никогда раньше не бывали. Но новизна площадей и улиц, которыми ехали, удивила нас меньше, чем вид заполнявших их толп. Казалось, все люди высыпали из своих домов; они занимали проезжую часть и часто останавливали нашу карету. Но никто не оставался возле домов. Толпа двигалась именно по проезжей части, текла по ней ручьями, сливавшимися на площадях, и, казалось, грозила затопить весь город. Эта толпа, двигающаяся и шумная, так сильно отличалась от обычных русских толп – вялых и пассивных, что я спросил мою гувернантку: «В этих кварталах люди так развлекаются каждый день?» и «Почему они не ходят по тротуарам?».
Долго пропетляв, мы наконец приехали домой. И совершенно не поняли поведения нашей матушки, которая, увидев нас, словно избавилась от страшной тревоги.
Позднее я узнал, что в это воскресенье, во второй половине дня, нигилисты останавливали все прилично выглядевшие кареты, высаживали ехавших в них и отправляли кареты пустыми, к великой радости толпы, насмехавшейся над невольными пешеходами. Более серьезных инцидентов в тот день не случилось, но неловкое сопротивление со стороны подвергшихся издевательствам буржуа при общем возбуждении толпы способно было стать той искрой, от которой мог вспыхнуть большой пожар.
Для меня еще долго слова «революция», «народное возмущение», «нигилизм» напоминали безобидную поездку через празднично одетую толпу. Будущее готовило мне менее мирные, но более яркие картины.
Перед этим будущим данные происшествия выглядят совершенно безобидными. Однако мы принимали их всерьез. Тревога в имущих классах была не пустой, если подумать, что Россия давно уже не видела серьезных беспорядков. То, что в стране с республиканской формой правления, где привыкли к демонстрациям и забастовкам, покажется пустяком, в России 1905 года, напротив, выглядело признаком приближения смертельной опасности.
О возникновении этого бунта, его причинах и вызревании уже все сказано. Я буду рассказывать лишь о том, свидетелями чему были я сам или мои близкие.
Дома любой инцидент, происшедший в городе, становился известным почти немедленно. Серьезные события следовали одно за другим в убыстрявшемся с каждой неделей ритме. Недовольство и раздражение народа возрастали. Из провинции также поступали драматические известия. У наших друзей мужики сожгли усадьбу. Наши знакомые приносили новости из официальных кругов. Так мы узнали, что правительство, ошибшееся во всех своих прогнозах, планирует принять радикальные меры. Мы были готовы ко всему.
Помню, однажды ночью матушка сама пришла в наши детские разбудить нас. Она велела нас быстро одеть, как для выхода в город, и держала рядом с собой. Было за полночь. Сначала недовольные, мы скоро увлеклись новым приключением.
– Мы пойдем гулять? – спрашивали мы.
– Возможно, – отвечала матушка.
– А куда?
– В министерство. В Морское министерство.
– А когда?
– Когда я вам скажу. Молчите.
Я и сейчас вижу матушку, неподвижно стоящую, опираясь одной рукой на стол, а другой показывающую нам, что надо молчать, внимательно прислушивающуюся к малейшему звуку снаружи, к любому свистку или звонку. Казалось, она слушает город, слушает ночь.
Но и в тот день тревога оказалась ложной. Рабочие и революционеры были особенно многочисленны и агрессивны в ту ночь, возникли опасения, что к восставшим присоединятся войска гарнизона. Как это часто бывало, положение спасла императорская гвардия, расквартированная в Петербурге. Не принимавшие, как я уже говорил, участия в Русско-японской войне, гвардейские полки были особенно привязаны к императору; пользовавшиеся большим уважением среди других частей и среди населения, они являлись для правительства и военной, и моральной защитой.
10 января 1905 года матушке нанес визит князь Шервашидзе, обер-гофмейстер двора императрицы Марии Федоровны. Князь, большой друг нашей семьи, имел с матушкой беседу, которая ее совершенно потрясла. Он рассказал ей о кровавых событиях предыдущего дня, при которых присутствовал.
Когда отец вернулся с Японской войны, то от своего окружения, заслуживающих доверия непосредственных свидетелей событий, он услышал рассказы, подтвердившие рассказ князя. Я считаю, что приводимый мной здесь рассказ о событиях 9 января 1905 года и их психологическое объяснение максимально близки к истине.
Толпа начала собираться, чтобы сформулировать свои требования установления более либерального правления. Решив выразить свое мнение, она задумала предпринять мирную демонстрацию, что по тем временам было большой дерзостью. Люди решили пойти в Зимний дворец и подать государю петицию.
В качестве лидера в данной ситуации, как и во многих других, революционеры избрали священника Гапона. Этот странный человек, страстный революционер, был свободным священником, не имевшим прихода. Он давно уже возбуждал народ против монархии. Он был умен, образован, а ряса добавляла ему уважения. Тогдашний министр внутренних дел граф Витте, главный начальник всей полиции, считал Гапона серьезным противником. Выплатой крупных сумм он сумел убедить Гапона работать на правительство. В тот момент, когда толпа, возглавляемая Гапоном, направилась к Зимнему дворцу, этот агент вел очень опасную двойную игру. Гапон испугался и попытался улизнуть, но революционеры его не отпустили и заставили и дальше идти впереди толпы. У Гапона оставалось единственное средство – предупредить тайную полицию, что он и сделал.
Это предательство Гапоном его сторонников спасло бы им жизни, если бы события пошли так, как было предусмотрено. Извещенная полиция организовала манифестацию так, чтобы избежать какого бы то ни было кровопролития: император должен был принять избранную от толпы депутацию во главе с Гапоном, которая представила бы ему петицию. Затем император должен был выйти на балкон дворца, чтобы уговорить толпу разойтись. Предполагались, что на это манифестанты ответят радостными криками.
Но тут вновь вмешалось ближайшее окружение императора. Охваченное страхом, я бы даже сказал, ужасом, после первого же донесения полиции относительно планировавшегося шествия народа к дворцу, императорское окружение сразу начало оказывать на государя сильное и настойчивое давление: следовало немедленно поднять по тревоге ближайшую часть – стрелковый его величества полк. Царь сдался и отдал приказ. Тут же дворец был окружен плотным кордоном из вооруженных солдат.
Выйдя на Дворцовую площадь, толпа на мгновение замерла. Вид занявших оборону солдат и блеск примкнутых к винтовкам штыков показывал, что ее предали, что царь, еще не выслушав народных просьб, отказывался принимать делегацию иначе, как под защитой войск. Как уверял меня отец, почти наверняка петиция была бы вручена мирно, как просьба о милости, о более либеральном правлении.
Охваченная разочарованием, проявившимся в смятении, толпа все же не расходилась, несмотря на призывы и приказы полиции и войск. Тогда царь, прекрасно отдавая себе отчет в том, что ситуация крайне напряжена, хотел вмешаться лично. При всех своих недостатках он не был лишен достоинств; будучи робким и нерешительным, он всегда предпочитал решать дела мирно: компромиссами, уговорами. Сама доброта царя подсказывала ему сделать примирительный жест, который, вне всякого сомнения, достиг бы цели. Итак, император уже собирался выйти на балкон, когда на сцену выступил его дядя, великий князь Владимир Александрович.
Великий князь был человеком крайне властным, слепым приверженцем абсолютной монархии. Он был совершенно убежден, что в любых обстоятельствах народ способен понимать лишь один аргумент: силу. Этот день был отмечен столкновениями между различными группировками, которые давно уже боролись за влияние при дворе. В этот день кроваво восторжествовало то влияние, которое упорно ограждало императора от любых контактов с толпой. Скоро это течение, усиленное императрицей, приведет к гибели императора, его семью и империю.
Дядюшка сурово отчитал императора, объяснив, что выход на балкон будет равнозначен унижению императорской власти: такие поступки недостойны царствующего монарха, к тому же бесполезны. Нет, только сила! Толпу нужно рассеять силой!
Царь, возможно втайне почувствовавший облегчение оттого, что кто-то принимает решение за него, отдал приказ, продиктованный великим князем Владимиром Александровичем. Приказ был немедленно доведен до офицеров, которые с этого момента были готовы открыть огонь по толпе. В возможность того, что солдаты откажутся подчиниться, а тем более примкнут к революционерам, никто не верил: помимо того, что эта часть отличалась особо высокой дисциплиной, солдаты не слишком разбирались в побудительных мотивах толпы. Они видели, как она надвигается на дворец, и полагали, что она намерена покуситься на жизнь императора.
Толпа надвигалась, возможно, что и против своей воли, так как сзади подходили все новые и новые группы, подталкивавшие стоявших впереди, заполняла прилегающие к площади улицы. Чтобы напугать эту движущуюся массу, приближавшуюся к построенным цепью войскам, офицеры приказали стрелять в воздух. Толпа не испугалась и, то ли из бравады, то ли убежденная, что в нее стрелять не станут, не приняла предупредительный залп всерьез. Она «упорствовала». Солдатам, разрядившим винтовки в воздух, она кричала, что у них те же цели, что и у народа. Мало-помалу толпа разогревалась; она продолжала надвигаться. Тогда офицеры решили, что существует опасность сговора солдат с народом, и отдали приказ стрелять на поражение.
Толпа, испуганная и изумленная одновременно, толпа, которая даже не успела ни стать по-настоящему угрожающей, ни тем более устроить реальные беспорядки, моментально рассеялась, оставив на площади убитых и раненых.
Из окон Зимнего дворца за картиной бойни могли наблюдать два человека: царь, не желавший ее, но разрешивший, и великий князь Владимир Александрович, желавший ее и развязавший.