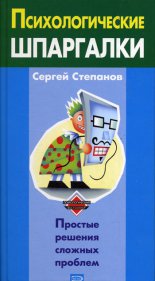Жизнь графа Дмитрия Милютина Петелин Виктор
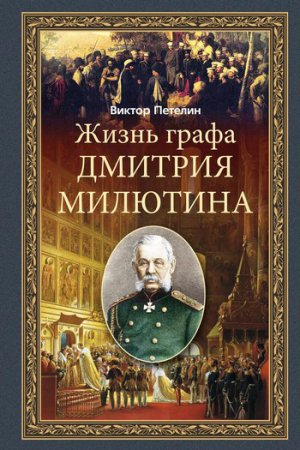
Видите, Дмитрий Алексеевич, в каких условиях нам приходится работать. Воспитанники не такие, как студенты университета, но все-таки за ними нужен догляд.
– В ближайшее время, Яков Иванович, я вам сообщу свой ответ на ваше столь лестное предложение…
– Учтите, Дмитрий Алексеевич, еще и то, что государь непременно будет утверждать ваше назначение. По каждому поводу обращаются к нему. Вот недавно наш министр народного просвещения Сергей Семенович Уваров рассказывал мне, что Николай Васильевич Гоголь, получив от государя денежное пособие, написал ему благодарственное письмо, которое приведу вам с его слов полностью: «Мне грустно, когда я посмотрю, как мало я написал достойного этой милости. Все, написанное мною до сих пор, и слабо и ничтожно до того, что я не знаю, как мне загладить перед государем невыполнение его ожиданий. Может быть, однако, Бог поможет мне сделать что-нибудь такое, чем он будет доволен». Ручаюсь за смысл этого письма, но не за подлинность его. А ведь Гоголь написал «Мертвые души», «Ревизор», это гениальный художник… С какой силой, с каким тактом, как метко и верно он обличил наши общественные недостатки. Так что смотрите, Дмитрий Алексеевич, рапорт о вашем назначении попадет непременно к Николаю Павловичу. И учтите еще и другое: в интеллектуальных кругах все пропитано философией, все увлекаются Гегелем…
Вскоре вопрос был решен, и с 5 июня Милютин приступил к исполнению новых обязанностей по ведомству военно-учебных заведений. И вместо спокойной жизни на Васильевском острове ему пришлось все лето пробыть «среди лагерной суеты, в беспрерывных хлопотах, вблизи Двора и на виду самого императора…».
В середине июля генерал Ростовцев при встрече предложил Милютину должность начальника отделения в штабе военно-учебных заведений. «Такое предложение было, конечно, для меня находкою, ибо я видел совершенную невозможность оставаться на одном профессорском окладе, но возникал вопрос: в какой мере возможно, без ущерба для дела, соединить обязанности начальника отделения с занятиями профессора? Генерал Ростовцев, которому я высказал некоторое сомнение на этот счет, успокоил меня и взялся лично уладить дело с начальником Военной академии…»
Вернувшись из Петергофа в Петербург, Милютин получил от брата Николая письмо, в котором он описывал путешествие по Европе: были в Берлине, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Кельн, Брюссель, Париж, объехали всю Испанию, приехали в Италию… «К тебе, мой милый Дмитрий, летят часто мои мысли, – писал он 3 (15) сентября 1845 года. – Твой домашний быт представляется мне маленьким уголком счастья и радости, и эти мысли услаждают меня. Как часто хотелось бы мне очутиться между вами, поделиться своими впечатлениями, быть может, укрепиться в любви и надежде, – и опять возвратиться к кочевой жизни, которая никогда мне не надоедает».
Авдулин, который все собирался выехать к своей жене, так и не выехал. И Николай Алексеевич, вернувшись в Петербург, оставил свою сестру на попечении совсем в чужой семье.
11 ноября 1845 года у Милютиных родился сын, которого в честь деда назвали Алексеем.
В том же ноябре пришло из Палермо высочайшее утверждение о назначении Дмитрия Алексеевича Милютина начальником Третьего отделения военно-учебных заведений по совместительству с должностью профессора Военной академии.
Это вполне удовлетворяло материальному положению в семье, за обе должности профессор Милютин получал 2700 рублей, и он уже «считал себя обеспеченным в средствах жизни».
В свободные минуты от подготовки лекций и от работы в академии Милютин жадно листал страницы журналов, выходивших в это время, особенно журнал «Отечественные записки», где всего лишь несколько лет тому назад был опубликован его очерк «Суворов как полководец». Сколько здесь оказалось новостей для него, словно целый мир обрушился на него. По-прежнему печатались Жуковский, Вяземский, Баратынский, Вельтман, Кольцов, а сколько статей и рецензий о Пушкине и Гоголе, как высветилось могучее содержание этих русских гигантов… Дмитрий Алексеевич быстро пролистал страницы всех журналов «Отечественные записки» и обратил внимание на статьи молодого критика Белинского, ярого полемиста, горячего, смелого, правдивого, уж скажет так скажет… А ведь всего лишь несколько лет тому назад господствовал триумвират писателей – Сенковский, Греч и Булгарин, которые вроде бы и полемизировали между собой, но всегда оставались опорой официальной идеологии. Об Андрее Александровиче Краевском никто и не знал, особенно о том, что он возьмет на себя такую великую роль, как противостоять «Северной пчеле» Булгарина и «Библиотеке для чтения» Сенковского. Еще в 1839 году Краевский, взяв журнал в свои руки, объявил, что он решил способствовать «русскому просвещению по всем его отраслям», заявил, что он будет придерживаться «энциклопедизма», воевать против Сенковского и «литературных промышленников», которых поддерживал богач П.П. Свиньин. Все это было всего лишь несколько лет тому назад, а сейчас «Отечественные записки» самый популярный журнал, 8 тысяч тираж, с крупными статьями, острыми, яростными, в которых все еще чувствуется влияние немецкой философии, но сколько уже самостоятельности и полного взгляда на русскую историю и на русскую литературу. От начинающего Белинского 30-х, о котором упоминалось в разговорах студенческих лет и который начинал проповедовать примирение с действительностью, ничего не осталось. Белинский – проповедник борьбы со всеми, кто провозглашает гениями Кукольника и барона Брамбеуса, кто по наставлениям триумвирата возводит в литературные таланты Масальского, Степанова, Тимофеева… Некоторые призраки свободы вроде бы существовали в России, но, когда закрыли журнал «Телескоп» за публикацию в 1836 году «Философического письма» Чаадаева, перестали даже думать о свободе мнений и философических размышлений, вся свобода раскрывалась лишь в тайных обществах, кружках, литературных посиделках. «Диким ругателем» называли в обществе критика Белинского… Ну, посмотрим…
Учебные лекции продолжались успешно. В процессе изложения материала Милютин вносил существенные дополнения в курс военной географии, которая до него преподавалась в «таком безобразном виде», в каком преподавать эту дисциплину немыслимо. Это только одна сторона информации о воюющей державе. Нужно постичь весь комплекс знаний о воюющей стороне. Он настаивал на изучении материальных средств воюющего государства. Это: 1) территория, народонаселение, государственное устройство и финансы; 2) устройство вооруженных сил и военных его учреждений; 3) условия войны оборонительной и наступательной. «В таком смысле оно будет уже не военной географией, а специальным отделом статистики, которому может быть присвоено наименование «военной статистики», – писал Милютин. Так уже с первых шагов своего профессорства Д.А. Милютин проявил себя как новатор учебного процесса.
Еженедельно, по субботам, собирался учебный комитет под председательством генерала Ростовцева, на котором обсуждались самые разные вопросы. Рядом со зданием 1-го кадетского корпуса, в казенном доме по Кадетской линии, где жил Ростовцев, собирались преподаватели военно-учебных заведений, генералы, полковники и подполковники, академики, профессора, преподаватель по русскому языку и словесности писатель Николай Иванович Греч (1787–1867). Выступали много, и заседания комитета проходили оживленно, часов до одиннадцати ночи. Особенно часто выступали академик, ректор Петербургского университета Иван Петрович Шульгин (1795–1869), Николай Иванович Греч, Яков Федорович Ортенберг, инспектор классов в Павловском кадетском корпусе статский советник Ржевский. Приглашались и со стороны специалисты по спорным вопросам. Милютин составлял протокол заседаний, подписывал его у председателя и рассылал принятые предложения по инстанциям.
Наиболее яркой и известной фигурой был, конечно, писатель и учитель Греч. Из разговоров с Ростовцевым и другими участниками старшего поколения Дмитрий Алексеевич вскоре понял, какую гибкую и извилистую карьеру проделал Николай Иванович. Дед – прусский дворянин, выходец из Богемии, стал служить русскому двору еще в середине XVIII века, был полковником у графа Румянцева. Его мать, Катерина Яковлевна, родилась в 1769 году в городе Глухове под пушечную пальбу. Шел бой по приказу графа Румянцева. Говорили, что граф был влюблен в Христину Михайловну, мать Катерины, которая «была необыкновенная красавица», поэтому ничего не было удивительного, что Румянцев влюбился в нее.
Греч получил хорошее домашнее образование, учился на юридическом факультете Юнкерского училища при Сенате, прошел курс в Петербургском педагогическом институте, преподавал русский язык в частных школах, в Главном немецком училище Святого Петра, в Петербургской гимназии, как талантливый журналист был одним из основателей журнала «Сын отечества», привлек к участию в журнале Батюшкова, Гнедича, Грибоедова, Державина, Вяземского, Жуковского, Крылова, Пушкина… Греч был «отъявленным либералом», входил в масонскую ложу «Избранного Михаила», хорошо был знаком с будущими декабристами Бестужевым и Рылеевым, с 1820 года стал директором полковых училищ Гвардейского корпуса. Александр Первый подозревал Греча в том, что он имел касание к бунту Семеновского полка. А в 1824 году в типографии Греча была опубликована книга немецкого пастора Госнера «Дух жизни и учения Иисус Христова в Новом Завете», которая оказалась «опасной для церкви и государства». А потом вдруг все изменилось в жизни Николая Ивановича: он увлекся учебниками по русской словесности, издал «Практическую русскую грамматику», «Начальные правила русской грамматики», «Пространную русскую грамматику», за которую был избран в члены-корреспонденты Академии наук. После этого о связях с декабристами и думать перестал, полностью признал Николая Первого, писал только верноподданнические статьи и был на виду при дворе. В разговоре о Грече упоминали и его романы, особенно «Черная женщина», пользовавшийся успехом у публики, даже критические отзывы были благопристойны, а влиятельный критик Белинский вообще сказал, что роман «Черная женщина» имеет «большое литературное достоинство»… И вот дослужился до чина тайного советника, а это немало для нынешнего времени.
Но где же и когда Милютин впервые узнал о писателе Грече? Ну конечно же когда он писал для «Энциклопедического лексикона» А.А. Плюшара, а потом, чуть позднее, для «Военного энциклопедического лексикона» Л.И. Зедлера, он познакомился и с Николаем Ивановичем Гречем, который тоже принимал участие в этих изданиях. В те же времена Дмитрий Алексеевич услышал о знаменитых четвергах Греча, куда приходили Брюллов, Кукольник, Пушкин, Плетнев, все жадно слушали язвительные и насмешливые реплики хозяина, сыпавшего анекдотами и эпиграммами. Высказывал верноподданнические мысли о Николае Первом, но одновременно с этим резко говорил об императорах Павле и Александре.
Действительно сложный, противоречивый человек, проделавший очень извилистую карьеру и дослужившийся до чина тайного советника. Может, он ошибся, когда подружился с Булгариным? Кто знает…
Глава 5
«И СОВЕСТЬ МОЯ УСПОКОИЛАСЬ»
В феврале 1846 года Николай Алексеевич Милютин вернулся в Петербург и сразу окунулся в служебные дела Хозяйственного департамента: вместе с коллегами он разработал новое Положение о городском управлении, которое было представлено Николаю Первому еще до отъезда в отпуск. 13 февраля Николай Первый утвердил «Положение об общественном управлении в С.-Петербурге», которое предопределило самостоятельность не только Петербурга, но и других городов Российской империи: впервые на условиях участия всех сословий проводились организация выборных учреждений и выборы гласных, это была своего рода революция, изменившая вековые традиции. А Николай Алексеевич тут же получил неприятное прозвище «Красный», и в некоторых светских домах его перестали принимать.
Братья часто встречались, несмотря на загруженность работой, разговаривали о текущих событиях; Николай Алексеевич восхищался расположением и доверием своего министра Льва Алексеевича Перовского, а Дмитрий Алексеевич благодушно рассказывал о том, как Яков Иванович Ростовцев, любитель поговорить и пустить пыль в глаза, чрезмерно восхищался своими учениками кадетских корпусов, а ведь было ясно, что в работах учеников многое было исправлено рукою учителя или даже вовсе эти работы заготовлялись по заказу.
– Как-то раз я попробовал указать Якову Ивановичу на явные подлоги, – улыбаясь, говорил Дмитрий Алексеевич, – но он показал вид, что не расслышал меня, и отошел. Бывали и другие случаи, убедившие меня в наклонности генерала Ростовцева к самообольщению.
– К сожалению, Дмитрий, этим недостатком страдает не только генерал Ростовцев, этой несимпатичной чертой характера обладают чуть ли не все придворные чины, к тому же они часто впадают в лицемерие, вранье, льстивость, подлость, скажут одно – делают другое…
– Горяч ты, Николай, поостынь чуточку… Ты прав, в тяжелых условиях приходится править императору Николаю Первому… Вот опять лето придется сидеть в Петергофе, а времени отводится весьма и весьма мало, не успеваю как следует провести практические занятия, особенно плохо обстоит с ружейной стрельбой, а ведь пехотный офицер должен прекрасно стрелять, увы, у нас все плохо стреляют, даже в Кавказском корпусе…
Осень 1846 года принесла свои огорчения и боли… Сначала заболела Наталья Михайловна, страдала сильными невралгическими болями в голове, а она еще кормила сына и не могла его отнять от груди, у него резались зубы, он сильно исхудал.