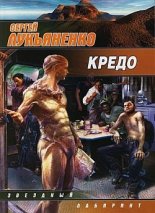Океан в конце дороги Гейман Нил
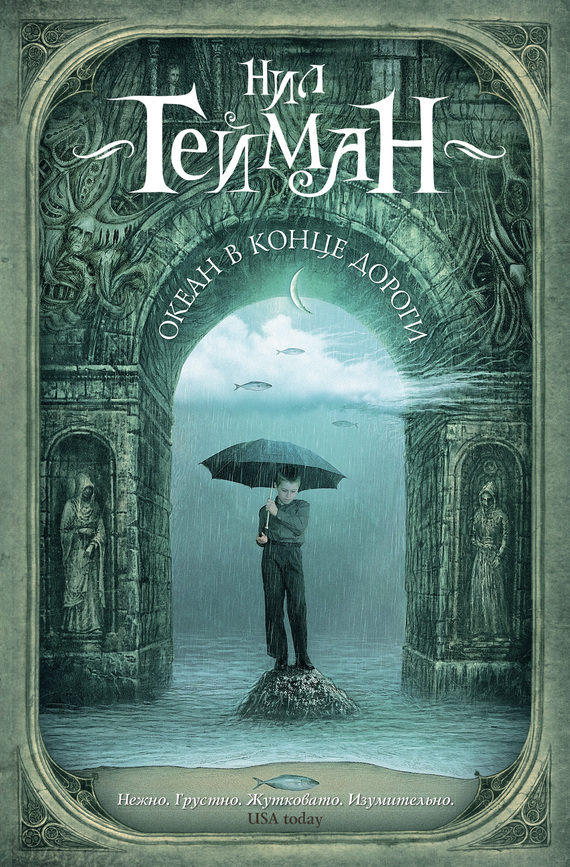
Мне было семь лет, но я никогда не получал писем. Мне приходили открытки на день рождения от бабушек и дедушек, от Эллен Хендерсон, подруги моей матери, которую я лично не знал. На день рождения Эллен Хендерсон, жившая в передвижном трейлере, обычно присылала мне носовой платок. Но даже и так я каждый день бегал к почтовому ящику проверить, не пришло ли что-нибудь мне.
И этим утром кое-что пришло.
Распечатав его, я так и не понял, что это, и понес письмо маме.
«Ты выиграл в лотерею», – объяснила она.
«Как это?»
«Когда ты родился – с рождением каждого внука бабушка покупала по билету Национальной лотереи. И когда выпадают указанные на нем числа, ты можешь выиграть сотни тысяч фунтов стерлингов».
«Я выиграл сотни тысяч фунтов стерлингов?»
«Нет. – Она взглянула на полоску бумаги. – Ты выиграл тринадцать фунтов стерлингов и одиннадцать шиллингов».
Я огорчился, что не выиграл сотни фунтов стерлингов (Я уже знал, что куплю на них. Место, куда можно пойти и побыть одному, как пещера Бэтмена, с потайным входом), но все равно было приятно обладать некоторым состоянием, превосходившим мои прежние мечты. Тринадцать фунтов стерлингов и одиннадцать шиллингов. Можно было купить четыре маленьких лакричных тянучки «Черный Джек» или фруктовые жевательные конфеты в ярких желтых фантиках за пенни: каждая из них стоила фартинг, хотя фартингов тогда уже не было в ходу. Тринадцать фунтов стерлингов и одиннадцать шиллингов, если в одном фунте стерлингов 240 пенсов, и на каждый пенни приходится по четыре конфеты, то это было столько сладостей, сколько я не мог себе сразу представить.
«Я положу их тебе на счет», – сказала мама, возвращая меня на землю.
К конфетам, что мне дали утром, сладостей не прибавилось. Но даже так я был богачом. На тринадцать фунтов стерлингов и одиннадцать шиллингов богаче, чем всего секунду назад. Я еще никогда ничего не выигрывал, никогда.
Я попросил маму показать мне лотерейный билет и мое имя на нем, прежде чем она уберет его к себе в сумку.
Было утро понедельника. После обеда древний мистер Уоллери, приходивший по понедельникам и четвергам после обеда садовничать (миссис Уоллери, его не менее древняя супруга, которая носила поверх туфель галоши, полупрозрачные резиновые ботики, приходила после обеда по средам убираться), копал овощные грядки и наткнулся на бутылку с пенсами, монетами в полпенни, в три пенса и даже фартингами. Все монеты датировались самое позднее 1937 годом, и я провел вторую половину дня, начищая их до блеска вустерским соусом и уксусом.
Бутылку со старинными монетами мама поставила на каминную полку в столовой, сказав, что, может, какой-нибудь нумизмат заплатит за них пару фунтов стерлингов.
Вечером я отправился спать в счастливом возбуждении. Я был богат. Нашлось зарытое сокровище. Этот мир – хорошее место.
Я не помню, как уснул. Но так обычно и засыпают? Знаю, что был в школе, что день не задался, что я прятался от каких-то мальчишек, которые колотили меня и обзывали, но они везде меня находили, даже в густых зарослях рододендрона за школой, и я знал, что это должен быть сон (но во сне я не знал, что это была явь и все взаправду), потому что с ними был дедушка и его друзья, старики с землистого цвета лицами, кашлявшие сухим мелким кашлем. В руках они сжимали острые карандаши, вроде тех, от которых идет кровь, когда уколешься. Я бежал от них, но эти старики и эти большие мальчишки были быстрее, они нагнали меня в туалете, где я обычно прятался в одной из кабинок. Они схватили меня и стали силком разжимать рот.
У дедушки (только это был не мой дедушка: на самом деле это была восковая фигура дедушки, которая хотела продать меня на нужды анатомии) в руках было что-то тонкое и блестящее, он принялся запихивать мне это в рот своими скрюченными пальцами. Оно было твердое, острое и знакомое, я подавился и начал задыхаться. Во рту появился металлический привкус.
А люди в туалете стояли и смотрели на меня злым торжествующим взглядом, я старался не задохнуться, твердо решив не доставлять им такого удовольствия.
Я проснулся, задыхаясь.
Мне не хватало воздуха. Что-то застряло у меня в горле, что-то твердое, острое, оно не давало дышать или позвать на помощь. Проснувшись, я начал кашлять, по щекам бежали слезы, из носа текло.
От отчаяния и страха я отважился и сунул пальцы как можно глубже в рот. Кончик указательного пальца уперся в край чего-то твердого, я, задыхаясь, нащупал средним пальцем обратную сторону предмета, сжал его и вытащил из горла.
Жадно глотнул воздуха, и меня стошнило прямо на простыни, вышло немного слизи вперемешку с кровью – я порезался, пока вытаскивал непонятный предмет.
Я не посмотрел, что это было. Липкое от слюны и слизи, оно лежало у меня в ладони. И я не хотел на него смотреть. Я хотел, чтобы оно исчезло, чтобы не было этого моста между сном и явью.
Я помчался по коридору в ванную, вниз – в дальний конец дома. Я полоскал рот, пил холодную воду из-под крана, сплевывал красную слизь в белую раковину. И только когда закончил, присел на край белой ванны и разжал руку. Я испугался.
Но то, что лежало у меня в руке – то, что оказалось у меня во рту – не было страшным. Это была монета: серебряный шиллинг.
Я пошел обратно в комнату. Оделся, почистил, как мог, испачканные простыни мокрым полотенцем. Я надеялся, они успеют высохнуть до того, как я отправлюсь спать вечером. Затем спустился вниз.
Мне хотелось рассказать кому-нибудь об этом шиллинге, но я не знал кому. Я достаточно разбирался во взрослых, чтобы понимать – если я все-таки расскажу, мне вряд ли поверят. Мне и так не особенно верили, даже когда я говорил правду. С чего бы им верить, когда на правду совсем не похоже?
В саду за домом играла сестра со своими друзьями. Завидев меня, она подбежала и сердито крикнула: «Ненавижу тебя. Все расскажу маме и папе, когда они вернутся».
«Что расскажешь?»
«Сам знаешь, – сказала она. – Я знаю, это был ты».
«Где был я?»
«Бросал монеты в меня. В нас. Из кустов. Это просто отвратительно!»
«Но я не бросал».
«Это же больно!»
Она вернулась к друзьям, они все таращились на меня. Горло драло, глотать было больно.
Я пошел по дорожке прочь от дома. Не знаю, куда я собирался идти, – мне просто не хотелось больше там находиться.
У края дорожки под каштанами стояла Лэтти Хэмпсток. Выглядела она так, будто ждала здесь добрую сотню лет и могла прождать еще сто. На ней было белое платье, но солнечный свет, пробиваясь сквозь молодые весенние листья каштана, оставлял на нем зеленые пятна.
«Привет!» – поздоровался я.
Она спросила: «Тебе ведь снились кошмары?»
Я вытащил из кармана шиллинг и показал ей. «Чуть не задохнулся из-за него, – пояснил я, – когда проснулся. Ума не приложу, как он попал мне в рот. Если бы кто-то мне его попытался засунуть туда, я бы почувствовал. Но я проснулся, а он уже там».
«Да», – подтвердила она.
«Сестра говорит, это я бросал в них монеты из кустов, но это не я».
«Нет, – согласилась она. – Не ты».
Я спросил: «Лэтти? Что происходит?»
«Что-что, – сказала она, как будто все было ясно. – Просто кто-то пытается дать людям деньги, вот и все. Но делает это очень дурно и бередит сон того, кому надлежало бы спать. А это непорядок».
«Это как-то связано с умершим человеком?»
«Как-то связано. Да».
«Это он делает?»
Она отрицательно покачала головой. И спросила: «Ты уже завтракал?»
Я тоже покачал головой.
«Ну, тогда пойдем», – предложила она.
И мы пошли вниз по проселку вместе. То тут, то там нам попадались дома, мы проходили мимо, Лэтти Хэмпсток указывала на дом и что-нибудь рассказывала. «В этом доме человеку приснилось, будто его продали и превратили в деньги. Теперь ему в зеркале все время что-то мерещится».
«В смысле, что-то?»
«Он видит себя. Но из глаз лезут пальцы. И что-то лезет изо рта. Наподобие щупальцев краба».
Я представил, как люди глядятся в зеркало и у них изо рта вылезают щупальца краба. «Почему у меня во рту оказался шиллинг?»
«Он хотел, чтобы у людей были деньги».
«Добытчик опалов? Который умер в машине?»
«Да. В каком-то смысле. Не прямо так. Началось все с него, это как зажечь фитиль от фейерверка. Его смерть стала спичкой. Но то, что готово взорваться сейчас, это не он. Это кто-то другой. Что-то другое».
Она поскребла свой веснущатый нос грязной рукой.
«Здесь хозяйка сошла с ума, – продолжила свой рассказ Лэтти, и мне бы в голову не пришло сомневаться в ее словах. – У нее в матрас зашиты деньги. И теперь она не хочет вылезать из постели, чтобы их не украли».
«Откуда ты знаешь?»
Она пожала плечами. «Стоит пожить здесь какое-то время, и ты понимаешь, что к чему».
Я пнул ногой камень. «”Какое-то время” – это значит “долго-предолго”?»
Она кивнула.
«А сколько тебе лет на самом деле?» – спросил я.
«Одиннадцать».
Я подумал немного. Потом снова спросил: «И сколько уже лет тебе одиннадцать?»
Она улыбнулась мне.
Мы прошли «Тминный двор». Там стояли хозяева, которые, как я потом узнал, были родителями Келли Андерс, они кричали друг на друга. А увидев нас, затихли.
Когда мы скрылись за поворотом, Лэтти сказала: «Вот бедные».
«Почему бедные?»
«Потому что у них трудно с деньгами. А сегодня под утро ему приснилось, что она… она занимается дурными вещами. Чтобы подзаработать. Он обшарил ее сумочку и обнаружил целый рулон из банкнот по десять шиллингов. Она клянется, что не знает, откуда они взялись, но он ей не верит. Он не знает, чему верить».
«Все эти ссоры, сны. Это все из-за денег?»
«Не уверена», – ответила Лэтти и показалась мне такой взрослой, что я ее почти испугался.
«Что бы это ни было, – сказала она, поразмыслив, – это все можно выправить. – Она увидела мое лицо, обеспокоенное. Даже напуганное. И добавила: – Но сначала блины».
Блины Лэтти пекла нам в большой металлической сковороде на плите в кухне. Они получались не толще бумаги, блин готовился, Лэтти отжимала над ним лимон, в самую середину плюхала сливового джема и плотно скручивала в трубочку, как сигару. Когда блинов стало вдоволь, мы сели за кухонный стол и съели их с большой жадностью.
На кухне стоял очаг, в нем еще теплились угли со вчерашней ночи. В этой кухне мне ничего не грозит, подумал я.
«Мне страшно», – признался я Лэтти.
Она улыбнулась. «Я прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось. Обещаю. Мне не страшно».
А мне все еще было страшно, но уже не так сильно. «Просто все это жутко».
«Я же пообещала, – заверила меня Лэтти Хэмпсток. – Я не позволю, чтобы тебе навредили».
«Навредили? – раздался высокий, скрипучий голос. – Кому навредили? Как навредили? Почему кому-то должны навредить?»
Это была старая миссис Хэмпсток, она придерживала за края передник, где в подоле теснилось столько нарциссов, что их отраженный свет делал ее лицо золотым, и казалось, будто вся кухня залита солнечным светом.
Лэтти стала объяснять: «Что-то неладно. Что-то дает людям деньги. Во сне и наяву». Она показала старушке мой шиллинг. «Мой друг утром проснулся, задыхаясь – у него в горле застрял этот шиллинг».
Старая миссис Хэмпсток опустила передник на стол и стала быстро выгружать нарциссы на деревянную столешницу. Потом взяла у Лэтти шиллинг. Посмотрела на него, сощурившись, обнюхала, потерла, послушала (во всяком случае, поднесла к уху) и провела по нему кончиком своего фиолетового языка.
«Он новый, – заключила она. – На нем написано тысяча девятьсот двенадцатый год, но еще вчера его не было и в помине».
Лэтти согласилась: «Я знала, что с ним что-то не так».
Я взглянул на старую миссис Хэмпсток: «А как вы узнали?»
«Хороший вопрос, милок. Главным образом по электронному распаду. Чтобы увидеть электроны, нужно смотреть на вещи пристально. Они махонькие такие, похожи на крохотные улыбки. А нейтроны серые и вроде как хмурные. Эти электроны чуть-чуть улыбистей, чем нужно для тысяча девятьсот двенадцатого года, так что я прошлась по краям букв, по голове старого короля, и грани оказались чуток острей и четче. Даже там, где они сносились, это выглядит словно их нарочно сточили».
«Должно быть, у вас очень хорошее зрение», – заметил я восхищенно. Она вернула мне монету.
«Уже не такое как прежде, но вот доживешь до моих лет, тоже зоркости поубавится». И она громко хохотнула, будто сказала что-то смешное.
«А сколько мне еще жить до этих ваших лет?»
Лэтти глянула на меня, и я с беспокойством подумал, что сказал грубость. Иногда взрослым не нравилось, что их спрашивают про возраст, а иногда нравилось. Мой опыт говорил, что старым людям нравилось. Они гордились своим возрастом. Миссис Уоллери было семьдесят семь, а мистеру Уоллери – восемьдесят девять, и они любили рассказывать, сколько лет им исполнилось.
Старая миссис Хэмпсток подошла к буфету и взяла несколько ярких цветастых ваз. «Еще порядочно, – ответила она. – Я помню, как луна родилась».
«А она разве не всегда была?»
«Господь с тобой! Ничуть не бывало. Я помню день, когда появилась луна. Мы смотрели на небо – оно тогда было грязно-бурое, закоптелое, в серых разводах, не зеленое и не синее…» Она поставила вазы в раковину и каждую наполнила до половины водой. Потом достала почерневшие кухонные ножницы и принялась обрезать нарциссы, по полдюйма от каждого стебля.
Я снова спросил: «А это точно не призрак того человека? Может, это он нас преследует?»
И девочка, и старая женщина засмеялись, я почувствовал себя дураком. И поспешно извинился: «Простите».
«Привидения не могут ничего создавать, – разъяснила мне Лэтти. – Они даже двигать вещи толком не могут».
Тут старая миссис Хэмпсток сказала ей: «Сходи за матерью. Она стирает. – А затем – мне: «Ты подсобишь мне с нарциссами».
Я помогал ей расставлять цветы по вазам, а она спрашивала моего совета, где их лучше разместить в кухне. Мы ставили вазы туда, куда я говорил, и я чувствовал себя необычайно важным.
В этой кухне среди мебели темного дерева нарциссы стояли как заплатки из солнечного света, добавляя ей яркости. На полу – красная плитка. Стены выбелены известкой.
Старушка подала мне выщербленное блюдце с куском пчелиной соты из улея Хэмпстоков и добавила немного сливок из молочника. Я ел соту ложкой, пережевывая воск, как жвачку, мед растекался во рту, сладкий, клейкий, цветочный.
Я выскребывал из блюдца остатки сливок и меда, когда в кухне появились Лэтти и ее мама. На миссис Хэмпсток все еще были резиновые сапоги, и она влетела в комнату, будто очень спешила. «Мама! – воскликнула она. – Кормить мальчика медом! Ты же испортишь ему зубы».
Старая миссис Хэмпсток повела плечами. «Я переговорю с этой неуемной мелкотней у него во рту, – заверила она. – Они не тронут его зубы».
«Ты же не можешь вот так командовать бактериями, – возразила миссис Хэмпсток. – Они этого не любят».
«Сущий вздор, – отмахнулась старушка. – Дай им только волю, и они совсем распояшутся. А покажешь, кто тут главный, они все сделают, только б тебя умаслить. Ты же пробовала мой сыр. – Она обернулась ко мне. – Я за свой сыр медали получала. Медали! В стародавние времена, бывало, на лошади неделю скакали, лишь бы купить головку моего сыра. Даже поговаривали, что сам король ест мой сыр с хлебом, а королевичи – Дикон, Джеффри и даже маленький Джон клялись, что лучше моего сыра отродясь не едали…»
«Ба», – одернула ее Лэтти, и старушка осеклась.
Мама Лэтти сказала: «Тебе понадобится ореховый прут. И… – добавила она задумчиво, – я думаю, можно взять с собой мальчика. Это его шиллинг, с ней легче справиться, если он будет с тобой. Если будет что-то, что она сама сделала».
«Она?» – удивилась Лэтти.
Девочка держала в руках складной нож с роговой рукояткой, лезвие было спрятано.
«Похоже, что она, – ответила мама Лэтти. – Но учти, я могу ошибаться».
«Не бери с собой мальчика, – вмешалась старая миссис Хэмпсток. – Накличешь беду».
Я расстроился.
«Все будет хорошо, – заверила ее Лэтти. – Я о нем позабочусь. И о себе тоже. Будет нам приключение. И вместе оно веселей. Ба, ну пожалуйста?»
Я с надеждой смотрел на старую миссис Хэмпсток и ждал.
«Не говори, что я тебя не предупреждала, если все пойдет наперекосяк», – проворчала старая миссис Хэмпсток.
«Ба, спасибо! Я тебе слова в упрек не скажу. И буду глядеть в оба».
Старая миссис Хэмпсток шмыгнула носом. «Ну, тогда смотри, не напортачь. Подходи осторожно. Свяжи, перекрой все отходные пути и усыпи».
«Да знаю я, – сказала Лэтти. – Все наизусть знаю. Честно. Все обойдется».
Вот что она сказала. И не обошлось.
4
Лэтти повела меня в заросли лещины у старой дороги (по весне ветви орешника клонились под тяжестью сережек) и ыломала прут. Ножом очистила его от коры так, будто делала это уже мириады раз, укоротила, и прут стал похож на рогатку. Она спрятала нож (я так и не понял куда) и взяла по концу рогатки в каждую руку.
«Это – не волшебная лоза, – объяснила она. – Просто проводник. Думаю, для начала мы ищем синюю… синюю бутылку. Или что-то фиолетово-синее и блестящее».
Мы огляделись. «Я ничего такого не вижу».
«Еще увидишь», – заверила она меня.
Я снова глянул вокруг и выхватил взглядом бурую, с рыжиной, курицу, клевавшую что-то в траве на краю подъездной дорожки, ржавый трактор, деревянный стол-помост рядом с дорогой и на нем шесть пустых металлических бидонов из-под молока. Я увидел дом Хэмпстоков из красного кирпича, который высился, как громадный кот, в дреме поджавший лапы. Весенние цветы – заполонившие всё белые и желтые ромашки, золотистые лютики (лютик верный даст ответ, любишь масло или нет)[1], одуванчики и в тени под молочным помостом запоздалого весеннего гостя – одинокий колокольчик, еще блестящий от ро…
«Он?» – выкрикнул я.
«А у тебя меткий глаз», – похвалила она.
Мы направились к колокольчику. Когда мы с ним поравнялись, Лэтти зажмурилась. Ее тело задергалось во все стороны вместе с выставленным вперед ореховым прутом, как будто сама она была стрелкой часов или компаса, а руки ее вросли в рогатку и направляли нас на какой-то восток или север, не доступные моему зрению. «Черное, – вдруг проговорила она, словно описывала что-то увиденное во сне. – И мягкое».
Мы оставили колокольчик и двинулись вдоль проселка, который, как мне иногда казалось, проложили еще древние римляне. Мы прошли сотню ярдов и у места, где нашелся «мини», она обнаружила это: клочок черной ткани на колючей ограде.
Лэтти приблизилась к нему. Снова выставленный вперед прут, снова и снова медленное вращение. «Красный, – уверенно сказала она. – Ярко-красный. Туда».
Мы пошли в указанном направлении. Через пойменный луг в перелесок. «Вон», – показал я, завороженный. На подстилке из зеленого мха лежало крохотное тельце какого-то животного – по виду полевки. У него не было головы, на шубке и среди ворсинок мха алели бусины крови. Ярко-красные.
«Теперь, – напутствовала Лэтти, – держи меня за руку. Не отпускай!»
Своей правой рукой я схватил ее левую руку, чуть пониже локтя. Она поводила рогаткой и решила: «Сюда».
«А что мы теперь ищем?»
«Мы подходим ближе, – сказала она. – Теперь нам нужна гроза».
Мы продирались сквозь ветви, тесно прижавшись друг к другу, пролесок густел, и листва деревьев смыкалась над нами плотным пологом. Мы отыскали прогалину и шли вдоль нее, все вокруг стало зеленым.
Слева послышалось глухое ворчание дальнего грома.
«Гроза», – пропела Лэтти. И вновь закружилась, а вместе с ней и я. В тот момент, держа ее за руку, я чувствовал, или мне казалось, что чувствовал, как меня трясет, будто я держусь за мощный двигатель.
Мы опять сменили направление. Вместе перебрались через узкий ручей. Тут она вдруг остановилась, споткнулась, но не упала.
«Мы на месте?» – оживился я.
«Нет, – сказала она. – Еще нет. Оно знает, что мы идем. Оно нас чует. И не хочет, чтобы мы до него добрались».
Ореховый прут завертелся в руках, как магнит у отталкивающего полюса. Лэтти улыбнулась.
Порыв ветра швырнул листьев и земли нам в лицо. На отдалении погромыхивало, будто шел поезд. Разглядеть что-либо становилось все труднее, а небо, пробивавшееся сквозь толщу листьев, было темным, как если бы у нас над головами собрались тяжелые грозовые тучи или утро разом перешло в сумерки.
Лэтти крикнула: «Пригнись!» и приникла к покрытой мхом земле, утягивая меня за собой. Она лежала ничком, я – подле нее, чувствуя себя немного глупо. Земля была влажной.
«Сколько нам еще?..»
«Ш-ш-ш!» – шикнула она на меня почти злобно. Я замолк.
Что-то пробиралось сквозь ветви над нашими головами. Я поднял голову и увидел нечто коричневое, мохнатое и в то же время плоское, как гигантский ковер с хлопающими, загибающимися краями, с лицевой стороны у ковра была пасть, она щерилась множеством мелких острых зубов и смотрела вниз.
Хлопая, оно проплыло над нами и исчезло.
«Что это было?» – спросил я, и мое сердце билось в груди так сильно, что я не знал, смогу ли снова стоять на ногах.
«Шкуроволк, – ответила Лэтти. – А мы зашли дальше, чем я думала». Она поднялась и смотрела вслед мохнатому чудищу. Потом выставила вперед ореховый прут и стала медленно поворачиваться.
«Ничего не чувствую». Она тряхнула головой, чтобы убрать с глаз волосы, не выпуская из рук рогатки. «Либо оно прячется, либо мы подошли слишком близко». Она закусила губу. И попросила: «Шиллинг. Ну, тот, что был у тебя во рту. Достань его».
Левой рукой я вынул его из кармана и протянул ей.
«Нет, – отказалась она. – Мне нельзя до него дотрагиваться, не сейчас. Положи на рогатку у самой развилки».
Я не спросил зачем. Просто положил серебряный шиллинг, куда было сказано. Лэтти вытянула руки, медленно поворачиваясь и направляя конец ореховой ветки прямо вперед. Я двигался с ней, но ничего не чувствовал. Никаких вибрирующих двигателей. Мы уже прошли полкруга, когда она, замерев, сказала: «Смотри!»
Я посмотрел, куда было обращено ее лицо, но увидел только деревья и тени между ветвями.
«Нет, сюда смотри». Она сделала знак головой.
На конце ореховый прут слегка дымился. Она повернулась немного влево, немного вправо, снова чуть вправо, и конец ветки начал светиться ярко-оранжевым светом.
«Никогда раньше такого не видела, – удивилась Лэтти. – По идее монета должна усиливать сигнал, а тут…»
«Пшшш-буум!» и на конце рогатки вспыхнуло пламя. Лэтти ткнула ее в мокрый мох. Она велела мне забрать монету, что я и сделал, осторожно подхватив шиллинг пальцами, на случай если он разогрелся, но он был холодным как лед. Она оставила ореховый прут лежать на земле, его обугленный конец все еще сильно дымился.
Лэтти шла дальше, я шел рядом. Теперь мы держались за руки: моя правая ладонь была зажата в ее левой руке. В воздухе пахло странно, как от фейерверка, мы углублялись в лес, и с каждым шагом вокруг становилось все темнее.
«Я же говорила, что не дам тебя в обиду?» – напомнила Лэтти.
«Да».
«Я обещала, что не позволю тебе навредить».
«Да».
«Просто держи меня за руку, – продолжала она. – Не отпускай. Что бы ни случилось, только не отпускай».
Ее ладонь была теплой, но не потной. Это вселяло уверенность.
«Держи за руку, – повторила она. – И ничего не делай, пока я тебе не скажу. Понял?»
«Мне все равно как-то не по себе», – заметил я.
Она не пыталась меня обнадежить. Лишь сказала: «Мы зашли дальше, чем я себе могла представить. Дальше, чем я ожидала. Я даже точно не знаю, что за твари здесь, на границах, живут».
Деревья расступились, и мы вышли на открытую местность.
Я спросил: «А далеко мы от вашей фермы?»
«Нет. Мы все еще в ее пределах. Ферма Хэмпстоков простирается далеко-далеко. Мы много чего забрали из Древнего Края, когда приплыли сюда. Ферма явилась с нами и притащила с собой других своих обитателей. Ба называет их блохами».
Я не знал, куда мы зашли, но мне не верилось, что мы все еще на земле Хэмпстоков, и этот мир не похож был на тот, где я вырос. Небо здесь светилось тусклым оранжевым светом, какой дает аварийная лампа; растения, покрытые шипами, похожие на огромные косматые алоэ, были темно-зеленого цвета и поблескивали серебром, точно их отлили из оружейной бронзы.
Монета у меня в левой руке, разогревшись в ладони, снова начала остывать, пока не стала на ощупь, как кубик льда. Своей правой рукой я изо всех сил сжал ладонь Лэтти Хэмпсток.
«Все, – сказала она. – Мы на месте».
Сначала я подумал, что передо мной какое-то сооружение: оно было похоже на шатер величиной с деревенскую церковь, из серой и розовой холщовой ткани, рвущейся во все стороны под порывами штормового ветра в этом оранжевом небе – сооружение кренилось набок, обветшалое, побитое временем и непогодой.
И тут оно повернулось, я увидел его лицо, услышал чье-то поскуливание, так скулит собака, которую пнули ногой, а потом до меня дошло, что поскуливал я.
Вместо лица были лохмотья, вместо глаз – две глубокие щели в ткани. За ними – пустота, просто серая маска из дерюги, намного больше, чем я вообще мог себе представить, вся в клочьях и дырах, парящая в потоках сильного ветра.
Что-то сдвинулось, и груда рванья нависла над нами.
Лэтти Хэмпсток приказала: «Назови себя».
Молчание. Два пустых глаза таращились на нас сверху вниз. Затем раздался голос, бестелесный, как шелест ветра: «Я хозяйка этого места. Я поселилась здесь давным-давно. Еще до того, как люди стали приносить в жертву друг друга на скалах. Мое имя принадлежит мне, дитя. Оно не твое. А теперь оставь меня в покое, пока я всех вас не развеяла по ветру». Точно рваный парус, взметнулась в воздух ее тряпка-рука, и меня охватил озноб.
Лэтти Хэмпсток сжала мою ладонь, и я приободрился. Она заговорила: «Слышь, ты, я велела назвать себя. Не брехать про старость и время. Не скажешь, как тебя звать, и пеняй на себя». Ее слова звучали как никогда просторечно, по-деревенски. Может быть, из-за злости в голосе: когда она злилась, ее речь звучала иначе.
«Нет, – прошелестело спокойно тряпичное существо. Девочка, девочка… кто твой друг?»
Лэтти шепнула: «Молчи». Я закивал и крепко сжал губы.
«Мне это начинает надоедать, – подала голос серая груда лохмотьев, раздраженно всплеснув рваными руками. – Что-то явилось ко мне с мольбой о любви и помощи. Оно поведало, как осчастливить всех подобных ему. Они – существа простые, все, что им нужно, – это деньги, только деньги, и ничего больше. Маленький кругляшок-за-работу. Если бы оно попросило, я бы дала ему мудрость или покой, абсолютный покой…»
«А ну, хватит! – приказала Лэтти Хэмпсток. – Тебе нечего дать им. Не лезь к ним».
Налетел ветер, и громадная фигура закачалась в потоке воздуха, словно корабль с огромными парусами, а когда ветер стих, положение ее изменилось. Казалось, она подлетела ближе к земле и изучает нас, как тряпичный великан-ученый, разглядывающий двух белых мышек.
Двух очень напуганных мышек, сцепившихся лапками.
Теперь рука у Лэтти была влажной. Она стиснула мою ладонь – подбодрить ли меня или себя, не понятно, но я сжал ее руку в ответ.
Рваное лицо, то место, где должно было быть лицо, искривилось. Я подумал, что оно улыбалось. Наверное, улыбалось. Я чувствовал, как оно всматривается в меня, в каждую клеточку. Как будто оно знало обо мне все – даже то, что я сам о себе не знал.
Девочка, державшая меня за руку, пригрозила: «Не назовешься, свяжу тебя, как безымянную вещь. И будешь связанная, привязанная, запечатанная яко призрак какой или баргест».
Она замолкла, существо не отвечало, и Лэтти Хэмпсток начала произносить непонятные слова. Временами она говорила, временами это напоминало песню на неведомом языке, который я до этого никогда не слышал и который больше мне не довелось услышать. А вот мотив я знал. Это была старая детская песенка, мотив, на который мы пели: «Мальчишки, девчонки, гулять идем!» Мелодия была та самая, но слова Лэтти были еще старше. В этом я был уверен.
И пока она пела, под оранжевым небом стало что-то происходить.
Земля вспучилась и зазмеилась червями, длинными серыми червями, выползавшими из-под наших ног.
Что-то выстрелило в нас из самой гущи развевающегося тряпья. Оно было чуть больше футбольного мяча. В школе на уроках физкультуры, если я что-то должен был поймать, обычно мне это не удавалось, рука опаздывала на секунду, и я получал удар в лицо или живот. Но сейчас это что-то летело прямо в меня и в Лэтти Хэмпсток, и не успел я подумать, как взял и сделал.
Вытянул обе руки и поймал его – косматый, извивающийся клубок из паутины и истлевшей ткани. А поймав, почувствовал боль: что-то кольнуло в ступню и тут же прошло, как будто я наступил на кнопку.
Лэтти выбила у меня из рук клубок, он упал на землю и исчез. Она схватила мою правую руку и крепко сжала ее. При этом, не прекращая петь.
Эта песня являлась мне во снах, ее странные слова, незатейливый детский мотив, и иногда, во сне, я понимал, что в ней говорилось. В тех снах я тоже говорил на этом языке, на праязыке, и мог повелевать всем сущим. Во сне это был язык бытия, все сказанное на нем претворяется в жизнь, и ничто реченное не может быть ложью. Он – главный строительный камень мироздания. Во сне я использовал этот язык, чтобы лечить больных и летать; однажды мне приснилось, что я владелец замечательной маленькой таверны на берегу моря, и каждому своему постояльцу я говорил: «Исцелись», и он становился цельным, снова цельным, а не разбитым, потому что я говорил на языке формы.