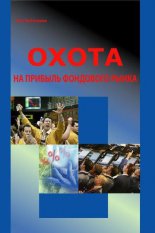Барышня Муравьева Ирина

В этот день, то есть седьмого февраля 1914 года, в Москве была сильная метель. Всё двигалось под серебром и если замирало, то на секунду, а через секунду опять вспыхивало, рвалось снизу вверх, откуда валило, слепило, откуда неистово жгло белым ветром.
Дом на Плющихе, в котором жил доктор Лотосов, был двухэтажным деревянным домом, зимой в нем топили кафельные печи, а лестница черного хода вся благоухала промерзшей капустой, дровами, смолою и запахом снега.
Вряд ли я успею одолеть это расстояние – от метели 1914 года до пасмурного июня 2009-го, – хотя там, наверху, верно, скажут, что это и не расстояние вовсе. Тогда шел, шел снег и стучали пролетки, а нынче оплакивают Майкла Джексона, который был маленьким черным мальчишкой и звонко пел песни, потом вдруг явился неведомо кто – наверное, ночью явился, украдкой, – убил первым делом мальчишку, перед смертью наобещав ему молочные реки, сахарные горы, дома из попкорна и много игрушек, – убил, закопал, где нога человека отнюдь не ступала (а зверя – подавно!), и вместо убитого вырос костлявый, белей алебастра, с приклеенным носом. Сказал, что он – Майкл, фамилия – Джексон. И стали вокруг бесноваться и хлопать.
А так всё на свете. Все были детьми, попадали под дождик, все рвали цветы и орали от боли. Потом всех убили и всех закопали. Остались деревья и виды предместий. И главное, так удивительно скоро!
В феврале 1914 года, за много лет до того, как отправили в пустоту и там, в пустоте, умертвили несчастных: животное Белку, животное Стрелку, – за много лет до того, как началась война в Афганистане, вышел на экраны фильм «Анна Каренина» и начали сперму вливать из пробирок в чужое покорное женское лоно, короче, задолго до всех наших бедствий – задолго до бомб, лагерей, трансплантаций – был дом на Плющихе.
Александр Данилыч Алферов, муж Александры Самсоновны Алферовой, чье имя носила женская гимназия, в которой училась Таня Лотосова, преподавал литературу в старших классах, и барышни тихо его обожали.
– Дело в том, – сказал Александр Данилыч, – что Пушкин перед смертью очень сильно страдал. Я надеюсь, что никому из нас, – он оглядел бледных от зимнего света, прелестных своею застенчивой молодостью гимназисток, – надеюсь, что никому из нас не выпадет того физического страдания, через которое он прошел.
И кивнул на портрет великого поэта работы Тропинина, в стекле которого ритмично отражался падающий снег.
– Он был открытым человеком, – сказал Александр Данилыч, – гениальные люди открыты и просты душою. В ранней своей молодости он ходил к гадалке Александре Филипповне Киргхоф, которая нагадала ему смерть «от белой головы», поэтому он всегда опасался блондинов и был суеверен до крайности. В таком случае, зачем же ему было возвращаться обратно за шубой, когда он ехал на Черную речку? Ведь это плохая примета! Он вышел в бекеше и вдруг возвратился. Велел подать себе в кабинет большую шубу и, надевши ее, пошел пешком до извозчика. Зачем же? Ведь он не искал себе смерти. Я очень прошу вас не верить, что Пушкин искал себе смерти. Я думаю вот что: он просто решил не бояться. Высокие душою люди часто осознают, что жизни бояться не стоит. Грешно. И это, я думаю, есть вера в Бога.
Александр Данилыч вопросительно приподнял брови, но в классе была тишина.
– Да, это есть вера. Поэтому, когда вам будут говорить, что он не справился со своим африканским темпераментом, я очень прошу вас заткнуть себе уши.
Он потер лоб и снял очки. Без очков глаза его стали немного испуганными.
– Когда человек проходит через душевные страдания, он приобретает опыт смерти. А когда он проходит через страдания физические, то опыт жизни.
Перед ним сидели бледные от снежного света девушки с погрустневшими лицами. Они его не понимали.
– Представьте себе, – сказал Александр Данилыч и снова надел очки, – весь снег был пропитан кровью. Тянулся густой красный след от вмятины на снегу, которая образовалась, когда Пушкин упал, и до самых саней.
Гимназистки вздрогнули, у многих из них увлажнились ресницы.
– Его везли с Черной речки до Мойки не менее часа, в полусидячем положении, и часто останавливались, поскольку он все время терял сознание. Никаких приготовлений к тому, чтобы доставить раненого, не было произведено. Носилок и щита не было, поэтому поначалу Пушкина с раздробленным тазом просто волокли по снегу, как раненого зверя, затем положили на шинель. Но долго нести его в таком положении не смогли. Тогда секунданты и извозчики разобрали забор из тонких жердей и подогнали сани.
Александр Данилыч тяжело вздохнул и еле заметно всхлипнул, как это иногда случалось с ним от сильного волнения. Гимназистки под партами сжали руки на коленях.
– Он сильно страдал, – продолжал Александр Данилыч, нимало не заботясь о том, что школьный урок превращается в проповедь. – Сохранилось официальное донесение о дуэли, и я вам его прочитаю: «Полициею узнано, что вчера в пятом часу пополудни, за чертою города позади комендантской дачи происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком Кавалергардского Ее Величества полка Геккерном, первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха, а последний в правую руку навылет и получил контузию в брюхо. Господин Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством господином лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни…»
Барышни переживали не столько за Пушкина, раненного в брюхо, что было давно, и он не испытывал больше ни боли, ни страха, сколько за самого Александра Данилыча с его темно-рыжей кудрявой бородкой и испуганными глазами.
– Но дело совсем не в стихах! – таким тоном, словно с ним кто-то спорил, сказал Александр Данилыч. – Литература есть не что иное, как верная догадка о жизни. Вы можете и вовсе забыть о стихах! Но я бы просил вас запомнитьстрадания…
Если бы залетела в натопленную классную комнату – в гимназии Алферовой не экономили на дровах – чудом выжившая в суровое время года, пушистая, черная с золотом муха и сладко бы стала жужжать и кружиться, то всякий услышал бы это жужжанье: такая была тишина.
– Хотел вам еще один портрет показать, – вздохнул Александр Данилыч, доставая из своего потрепанного портфеля небольшой холст без рамки. – Я заказал копию, а оригинал поступил в музей Александровского лицея лет двадцать назад, может, даже и больше. Подписано странно: «И. Л.». Считается, что живописцем был некто Линев Иван Лонгинович.
На темном холсте изображался Пушкин со взглядом страдальческим и обреченным, которым он видел, как всё это будет: и снег, пропитавшийся красною кровью, и тяжелое дыхание секундантов, которые затаскивали его на мерзлую шинель, а кровь заливала их руки, и бешеные глаза лошади, рванувшейся в сторону, когда его стали усаживать в сани и шубу, намокшую кровью, набросили на ноги…
* * *
Давали прекрасную оперу Глинки «Руслан и Людмила». Что может быть лучше театра, Большого театра, когда всё завалено снегом, и черное небо чудесно мерцает, и все эти слабые дымные звезды, наверное, знают какую-то тайну, но всё на другом языке, не на нашем… Что может быть лучше театра с его бархатными ложами, внутри которых белеют открытые спины с угловато выступающими лопатками, вспыхивает изредка маленький перламутровый бинокль, поднесенный к глазам, или особенно крупное драгоценное украшение на вытянутой, как у лебедя, шее? А запах в фойе шоколада Сушар? А запах мороза, врывающегося с улицы в открытую лакеем дверь, если какой-нибудь особенно нетерпеливый зритель вдруг покидает представление и устремляется в темноту? Пахнёт снежной пылью, и дверь затворится. И нет человека, растаял.
Татьяне Лотосовой, молодой, только окончившей гимназию барышне, было немного неловко оказаться в театре одной, без подруги, которая, будто назло, заболела и кресло которой теперь пустовало. Но постепенно она освоилась, поправила косу с черным бантом и стала внимательно следить за оперой. Когда во втором акте на сцене появилась огромная голова и начала дуть на витязя с такой силой, что волосы женщин, сидящих в первых рядах партера, слегка разлетелись, Татьяна Лотосова почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Она скосила глаза. Между нею и незнакомым господином с открытым высоким лбом и мелкими, как у ягненка, кудряшками над ним стояло пустое тяжелое кресло. На левой ручке кресла почти невесомо лежал девически-острый локоть Татьяны Лотосовой, на правой – рука господина с худыми и длинными пальцами. Он заметил, что она перехватила его взгляд, и вдруг улыбнулся, спокойно и вежливо. Она растерялась сначала, но тут же подумала, что если тебе улыбается сосед, с которым вы вместе слушаете оперу, отвернуться от него, изобразив удивление, есть верх неприличия, ибо ничто не сближает незнакомых людей так сильно, как музыка. И Таня сама улыбнулась соседу – с испуганной робостью, но улыбнулась. Когда полногрудая, пышноволосая, в больших жемчугах и рубинах Людмила допела всю оперу вместе с Русланом и с шумом, похожим на шум океана, задвинулся занавес, незнакомый господин, похожий немного на Пушкина с портрета живописца Линева, пересел на пустое кресло рядом с Таней и что-то спросил у нее. Вокруг громко хлопали, трещали веерами, переговаривались, и Таня его не расслышала. Она покраснела почти до слез.
– Прекрасная опера! – близко наклоняясь к ней, сказал он. – Давно так прекрасно не пели!
– Да, – хрипло от волнения ответила она. – Мне тоже понравилось.
Вместе они вышли в фойе, вместе отразились в большом и тоже как будто взволнованном зеркале и, наконец, когда Таня Лотосова продела руки в узкую, с белыми хвостиками, муфту, а господин, не отстающий от нее ни на шаг, надел теплое пальто с меховым воротником, они вместе вышли из театра.
Выталкивая колкое от холода дыхание, незаметно дошли до Плющихи, и меховой воротник на пальто господина – как было положено – засеребрился сквозящей морозною пылью. Таня узнала, что нового знакомого ее зовут Александром Сергеевичем Веденяпиным, он служит врачом в психиатрической лечебнице Алексеева, имеет сына, чуть помоложе, чем Таня, и по роду своей деятельности нередко сталкивается с молодыми людьми, решившими по той или иной причине добровольно уйти из жизни. Почему Александр Сергеевич вдруг начал посвящать ее в подробности своей медицинской практики, она догадалась не сразу, но слушала с очень большим интересом, нисколько не меньшим, чем оперу Глинки. Александр Сергеевич объяснил ей, что если родственникам или друзьям удается спасти такого молодого человека, вынув его из петли или ухватив за полу пальто, когда он останавливается на самом краю обрыва, желая шагнуть и погибнуть в пучине, – то роль Александра Сергеевича не заключается только в том, чтобы напичкать спасенного порошками и пилюлями, а в том, чтобы, поговорив с ним наедине, раскрыть осторожно смятенную душу, как какой-нибудь скользко-загорелый, с острыми ребрами и большими зубами островитянин, нырнув глубоко в океан, раскрывает опутанную водорослями почерневшую раковину в надежде увидеть жемчужину.
Александр Сергеевич относился к своим обязанностям ответственно и в первый же вечер знакомства признался Тане, что ни опыт его грустной, хотя и весьма однообразной работы, ни долгие годы одних и тех же разговоров не убили в нем сострадания к безумцам, попадающим в городскую лечебницу Алексеева, и потому он всякий раз с любопытством и добротою выслушивает сидящего перед ним на казенной койке пациента. Хотя – если честно признаться – хорошего тут не услышишь, одна чепуха и расстройство рассудка.
Восемнадцать лет назад, когда он только начинал свою практику, в больницу была на извозчике доставлена молодая девушка, отравившаяся спичками.
– Я увидел ее, – сказал Александр Сергеевич Веденяпин, и снежный сгусток, сбитый с дерева порывом ветра, опустился на его плечо, подобно убитому голубю, – и… Этого не скажешь словами! Вот говорят, что можно полюбить с первого взгляда. Это чепуха. Можно другое: потерять себя. Вот, скажем, ты жил, дышал, бегал, занимался своими делами, и вдруг тебя как будто схватили за руку. Стой и смотри. А всё остальное неважно. Вот так и со мной: я стоял и смотрел. Она спала, бледная, губы запеклись, руки – тоненькие-тоненькие, а сколько при этом детской свежести, сколько беззащитности было в ней! И жилка на шее. Я на какую-то секунду вообще перестал различать всё остальное, только эту синюю жилку…
Он замолчал и вытер лоб под шапкой.
– Не скучно вам? Вы не замерзли?
Она затрясла головой.
– А снегу-то сколько! – пробормотал Александр Сергеевич. – Вам нравится снег?
– Мне – снег? Нет, не очень. А что было дальше?
Александр Сергеевич вдруг весь осветился вспыхнувшей улыбкой.
– Через неделю я предложил ей свою руку. У нее незадолго до этого умер отец, и она была влюблена в молодого человека, который довел ее до попытки самоубийства. У них были отношения, и ей показалось, что она беременна. А когда она сказала ему об этом, он ответил, что может найти хорошего доктора, чтобы тот освободил ее от плода. Тогда она решила отравиться, но ее вовремя спасли.
– Если она влюблена была в другого, так как же она вышла за вас? – испуганно спросила Таня, оторопев от всех этих произнесенных им подробностей.
– О, это прекрасный вопрос! Не в бровь, а вот именно в глаз! Почему она вышла за меня? Потому что я умолял ее об этом. Многие считают, что после занятий в анатомическом театре все романтические призраки улетучиваются, но это не так, они ошибаются: со мной, во всяком случае, этого не случилось. Я был и, боюсь, остался законченным романтическим идиотом. А вот приятель мой – тот действительно перестал даже смотреть на женщин после того, как мы произвели в морге несколько первых резекций. В каждой хорошенькой барышне ему начали мерещиться будущие покойницы. Вы спрашиваете, почему она согласилась? А как же ей было не согласиться? Любовник ее исчез, курс она кончила, деньги, которые оставил отец, оказались ничтожными. И тут появляюсь я. Молодой врач, с неплохой уже практикой, влюбленный к тому же без памяти. Рыцарь, короче. Что ж было не выйти?
– Она совсем-совсем не любила вас? – сильно покраснев в темноте, спросила Таня.
– Н-н-не знаю… До самой свадьбы она не разрешала мне даже поцеловать себя, только руку… И то как-то с болью, как будто насильно…
Тут Александр Сергеевич вспомнил, что разговаривает с молодой девушкой, и осекся. У Тани, несмотря на холод, горело лицо так, как это бывало только после долгого катания на коньках под громкие вальсы закоченевшего оркестра.
– Ну, что говорить! Через полтора года у нас родился сын, и она, несмотря на свою нервность и непомерное воображение, оказалась хорошей, заботливой, хотя, к сожалению, слишком заботливой матерью.
– Что значит – слишком?
– Она постоянно боялась. Всякий раз, когда мы уходили в гости или в театр, становилась сама не своя, подъезжая обратно к дому. Ей все время казалось, что в наше отсутствие с ребенком должно было произойти несчастье. Она совершенно забывала о себе, когда он, например, заболевал, и могла встретить доктора в ужасном, растерзанном виде… Успокоить ее было почти невозможно. Но главное – ревность. С самого первого дня она начала ревновать сына ко мне, и, чем больше он подрастал, тем ужаснее становилась эта ревность. Я всё время проводил в больнице, даже по ночам меня таскали к больным, и сын, для которого почти не оставалось времени, очень радовался, когда я урывал минутку, чтобы поиграть с ним. А у жены началась какая-то прямо мания, что я отбираю у нее ребенка и даже настраиваю его против нее. Ему было, кажется, одиннадцать или двенадцать лет, когда я взял его с собой в поездку по Волге. Собралось несколько моих коллег, и мы отправились. Заняло это неделю, если не меньше. На следующий день после нашего возвращения жена закатила мне дикую сцену. Она кричала, что Васю нельзя узнать, он грубит, не дает прикоснуться к себе, обнять, и всё это сделано специально мной, и вся поездка была придумана только для того, чтобы отвратить его от матери.
Александр Сергеевич опять вдруг замолчал.
– Замучил я вас, – прошептал он, близко наклоняясь к ней и всматриваясь в ее лицо.
– Нет, что вы! – сказала она.
– Конечно, замучил. Потерпите немножко, история не особенно длинная. С прошлого лета в нашем доме стало просто нечем дышать. Она следила за Васей, следила за нами обоими, выкрала даже Васин дневник, потом, правда, очень сама переживала, проплакала несколько дней.
– Бедная! – вздохнула Таня.
– О, да! Кто же спорит! В конце концов, она потребовала, чтобы я снял ей квартиру, куда она намеревалась перевезти Васю и спасти его от моего ужасного влияния. Страшный это был разговор… Сначала она кричала, нападала на меня, потом стала упрашивать, упала на колени… Я, разумеется, отказал ей решительно и предложил ехать за границу лечиться… Но тут выяснилось еще одно грустное обстоятельство…
Он снял перчатку и стряхнул с плеча снег. Таня почти перестала дышать.
– Выяснилось, что она и в самом деле больна, тяжело больна. Она и раньше уже кашляла, но тут ей стало совсем плохо. Внезапно похудела так, что узнать нельзя. Я пригласил своего коллегу, замечательного диагноста. Он установил у нее рак правого легкого. Запущенная опухоль, оперировать поздно, и жить ей осталось недолго.
– О господи! Что же вы сделали?
– Я пообещал, что сниму ей квартиру, но с одним условием… Не знаю, может быть, именно это и было моей ошибкой… Какие условия можно ставить умирающему человеку? А я потребовал, чтобы она немедленно ехала лечиться в Германию и находилась там до полного выздоровления.
– Но вы же сказали, что она не может выздороветь!
– Я обманул ее. Мне важно одно: чтобы она уехала.
– Но как же? Ведь это жестоко?
Александр Сергеевич опять улыбнулся сквозь снег.
– Жестоко! А что это значит – жестоко?
– Это когда кому-то больно, а ты виноват, – пролепетала Таня.
– А всем всегда больно, и все виноваты, – оборвал ее Александр Сергеевич, но тут же опять улыбнулся. – До этих вещей дорастают, поверьте.
– Неправда! Что это вы такое говорите!
– Ну, дай бог, чтобы я ошибался, – коротко согласился он.
– Где она сейчас, ваша жена? Она еще жива?
– Жива, разумеется. Я снял ей квартиру в Мерзляковском переулке. Василий наотрез отказался жить с ней. Я просил ее, чтобы она уехала не позднее начала января. Она до сих пор не сказала мне ни «да», ни «нет». Не знаю, как долго всё это продлится… Хотя мне и стыдно того, что я думаю об этом… Ну, как объяснить вам? Бессердечно, наверное…
– Вы что, не встречаетесь с нею?
– Теперь она уже и сама не хочет видеть ни меня, ни его. Сын позвонил ей несколько дней назад по моему настоянию. Она кричала, что ненавидит нас обоих, что я всегда был чудовищем и мне удалось вырастить такое же чудовище из него… После этого он несколько ночей не мог спать…
Таня прижала ладони к горячим щекам.
– Прошу об одном: чтобы Господь дал ей умереть спокойно, – сказал Александр Сергеевич.
– Вам жалко ее?
Он удивленно приподнял брови:
– Иногда смерть есть не только единственный, но и самый лучший выход.
– Неправда! – возразила Таня. – Как можно сказать за кого-то другого, что ему лучше умереть? Когда он не хочет?
– Ну, это вопрос философский… – Он опять стряхнул снег, не глядя на нее.
Она притихла.
– А можно мне будет увидеть вас завтра? – вдруг спросил он после паузы.
Таня растерялась.
– Не бойтесь меня, – усмехнулся Александр Сергеевич, – у меня и в мыслях нет обидеть вас.
– Мне кажется, это неловко, – с заминкой сказала она. – Как это – увидеть?
– В кофейне Филиппова, – просто сказал Александр Сергеевич. – Вы любите горячий шоколад? Я очень люблю. Особенно когда на улице зима. А чтобы вам было спокойнее, я приведу своего Васю. Он милый парнишка, дичится немного…
Они стояли перед ее домом. В ватной темноте одна за другой гасли лампы. Таня наконец спохватилась, что опера давно закончилась и отец должен волноваться.
Ночью она долго не могла заснуть, всё мешало ей: и влажное бормотание няни, спавшей в соседней маленькой комнате, и шаги отца, которыми он отмерял расстояние от двери до окна, и даже бесшумный, сияющий снег, засыпавший тихую улицу. История, рассказанная только что Александром Сергеевичем, вызывала у нее животный страх.
* * *
У матери Тани давно была другая семья и другая дочка, которую Таня ни разу не видела. Из тех осторожных объяснений, которые несколько лет назад предложил отец, Таня поняла, что мать вышла за ее отца с горя, любя другого человека, который не захотел жениться на ней против воли своих очень упрямых родителей. Но через три года упрямые родители умерли один за другим, и тут нерадивый влюбленный явился к ним в дом, на Плющиху. Он прошел к отцу, заперся с ним в его кабинете, потом прислуга и няня слышали, как он рыдал там, за запертой дверью, и отец терпеливо просил его успокоиться, а он всё рыдал, объясняя свое невыносимое положение, признаваясь, что Танину мать любит очень давно и эта любовь их взаимна, поэтому просит простить, дать развод, но тут он совсем задыхался, пил воду и кашлял.
Развод состоялся, но Таня осталась с отцом. Это было условием.
Лет в тринадцать какой-то бес словно обуял ее: она стала приставать к отцу, требуя от него объяснений, почему мать ушла и бросила их, задавала нелепые вопросы, мучилась сама и мучила отца, который повторял одно и то же: всё правильно, всё произошло так, как нужно, ведь брак без любви вызывает болезни, и он это знал еще раньше, когда был простым медицинским студентом.
– Но почему она бросиламеня? Меня-то как она могла бросить?
– Но как же ей было уйти и одновременно остаться с тобой? – Отец так сильно морщился, что на его лбу собирались розовые бульдожьи складки. – Ты после поймешь, когда вырастешь.
Она почувствовала, что ничего не добьется от него, и перестала спрашивать. И перестала думать о матери, но иногда на нее наплывало какое-то не воспоминание даже, но запах цветочных духов, или она вдруг чувствовала в руке что-то гладкое, круглое и вспоминала, что это, должно быть, та пуговица, в которую она, уже лежа в кровати и засыпая, крепко вцепилась однажды, чтобы не дать матери уйти, и в конце концов оторвала ее вместе с куском ткани.
Еще вспоминался другой эпизод.
Отец снимал дачу в Царицыне, где Таня жила с няней и с гувернанткой. Он сам приезжал к ним в четверг поздно вечером, а днем в воскресенье опять уезжал. Стояло прекрасное время – середина июля, – когда некто Коля Бабаев, соседский ребенок, вдруг умер. Он умер в субботу, а в четверг, за два дня до этого, к ним прибежала прислуга с той дачи, где жили Бабаевы, и отец, только что с поезда, схватил свой докторский чемоданчик, надкусил яблоко, но тут же и бросил его прямо на пол. А няня и Таня смотрели с балкона, как он торопливо бежит по песку, мокрому от недавнего дождя и сильно хрустящему под его тяжелыми шагами.
Вернулся он в пятницу после полудня, когда оглушительно пахло жасмином, а няня варила малину и косынкой отмахивалась от ос, – вернулся измученным, но оживленным, как будто пытаясь их всех обмануть, уныло взглянул в таз с кипящим вареньем, сказал, что он сыт, и уснул на террасе. Вечером снова прибежала прислуга с Колиной дачи, отец моментально вскочил и, умывшись, ушел со своим чемоданчиком.
Тогда Таня начала с ненавистью думать об этом ушастом и вежливом Коле в его накрахмаленной белой сорочке, вспомнила, как они ловили стрекоз на болоте и он всё время промахивался, нелепо хлопал сачком мимо прозрачной стрекозы, которая со своим помертвевшим от страха лицом сперва повисала над их головами, не веря свободе и празднику жизни, а после взмывала наверх с дикой силой… Этого жалкого восьмилетнего Колю Таня страстно проненавидела всю ночь, ревнуя отца, который возился с чужим и ушастым, как будто бы рядом и не было Тани, но утром заснула так крепко и сладко, что не услышала ни того, как вернулся отец, как пил с няней чай на террасе, а няня кряхтела и плакала тихо.
Колю отпевали в деревенской церкви. В разгаре цветущего лета с его этим зноем и светом, росою в траве, ночными зарницами в небе, мокрыми лепестками, засыпавшими садовую скамейку так густо, что издали было похоже на облако, в разгаре цветущего сонного лета внесли на руках – было много народу, и пахло свечами, и многие плакали, – внесли на руках желтый новенький ящик, поставили его на возвышение, и Таня, которую отец крепко держал за плечо, увидела, как с громким стуком на ящик упала вся черная – в таком неопрятном и жеваном платье, как будто она в нем спала целый месяц, – лохматая старая дама…
Через два дня Таня и сама заболела скарлатиной, начала гореть, задыхаться, во сне ей казалось, что с Колей они снова ловят стрекоз и Коля зачем-то всё время смеется. Ненависть опять охватывала ее, Таня сбрасывала с себя одеяло, плакала, кричала, что Коля живой, он обманщик и просто лежит сейчас в новеньком ящике…
На третий день температура спала, и Таня увидела спальню, столб светящейся солнечной пыли над ковром, отца, взъерошенного, в раскрытой на груди рубашке, и рядом с ним незнакомую женщину. У женщины были темные, очень густые волосы, просто зачесанные назад, и нежная желтизна под глазами, от которой она казалась особенно красивой.
– Проснулась, – бодро сказал отец и, наклонившись, пощупал Тане лоб, – теперь всё в порядке.
Женщина стояла у окна, спиной к очень яркому саду, и ветка зеленой сияющей вишни как будто росла у нее из затылка.
– Узнала меня? – спросила она, сделав шаг к кровати, и наклонилась так же, как отец, приглаживая Танины вспотевшие волосы.
Это была мать, которую она не видела бог знает сколько времени, потому что мать уехала за границу, и там у нее родилась слабая и чем-то больная девочка, и девочку стали лечить на курорте, поэтому мать не вернулась в Россию. Изредка от нее приходили письма, которые отец, насупившись, читал вслух неестественным и громким голосом. Мать называла ее «Татушей» и всё обещала, что скоро приедет.
Теперь, когда она наклонилась над Таней, оказалось, что мать существует так же ясно, как все остальные вокруг: отец, птицы, няня. Она приоткрыла рот, и Таня вдруг вспомнила, что между передними зубами у матери была узкая полоска немного припухшей и розовой кожи. Она и сейчас там была. Тогда она выскользнула из-под материнской руки, оттолкнула ее и бросилась бежать. Ее не успели поймать. Скатившись по лестнице, босая, с исказившимся от громкого плача красным лицом, Таня пересекла террасу и, не угадав, что перед нею закрытая стеклянная дверь, налетела на нее. Боли не чувствовалось, но щипало и жгло, когда отец, морщась от сострадания, смазывал йодом ее очень сильно разрезанный лоб, и всё было густо испачкано кровью, особенно волосы. Остались два крошечных шрама: один на скуле и другой – рядом с бровью. Они ее вовсе не портили.
* * *
В кофейне Филиппова пахло свежим хлебом, а пол был в коричневых от растаявшего снега лужах, похожих по цвету на пролитый кофе. С сильно колотящимся сердцем, стараясь казаться независимой и взрослой, она села за мраморный столик и принялась ждать. Вошла очень худая большеглазая дама с требовательным и жалким лицом. Потом, разрумяненные, переговариваясь деревянными от холода голосами, громко хлопнув дверью, ввалились два гимназиста, потом молоденькая няня с закутанным ребенком в коляске, которая приложила большие красные руки к кипевшему на стойке самовару и тут же со смехом отдернула их. Тане надоело ждать, и она встала, потуже завязала вязаный шарф под подбородком и, чувствуя себя оскорбленной, пошла к выходу. На пороге они столкнулись. Александр Сергеевич смешно отпрыгнул от нее, придерживая тяжелую дверь.
– Прошу простить, – заговорил он, сверкая знакомой улыбкой, от которой у Тани вдруг сжалось внутри живота и в глазах потемнело. – Извозчик попался не самый проворный.
Рядом с Александром Сергеевичем стоял худой и нескладный молодой человек лет шестнадцати, если не меньше. Кирпичный румянец уходил под его рыжие мелкие кудри, которые на висках были ярко-красными, как будто румянец пропитал их изнутри, как вода пропитывает мох на лесной поляне.
– Вот, Татьяна Антоновна, прошу любить и жаловать: Василий, мой сын и наследник.
Василий кивнул ей небрежно, и Таня совсем потерялась. Сели за столик, не глядя друг на друга. Александр Сергеевич, придвигая стул, ненароком дотронулся до ее локтя. Им принесли три чашки горячего шоколада, от которого поднимался волнистый, похожий на тюлевый, пар. Няня с закутанным спящим ребенком неторопливо доедала калач и дула на чай, подкладывая в него кусочки колотого сахару. Василий сидел неподвижно и прямо.
– Вы в какой гимназии учитесь? – спросила Таня.
– Сейчас я перешел в гимназию Ямбурга, – темно покраснев, с надменностью растягивая слова, ответил Василий и вытер крупный пот, выступивший на лбу. – Там и гуманитарные, и естественные предметы очень хорошо преподаются.
Каждое слово доставляло ему страдание. В замешательстве Таня начала быстро пить шоколад, но он обжигал язык, и она отодвинула чашку. Хотела подуть и смутилась, не стала. Александр Сергеевич вдруг начал рассказывать, какая замечательная у них лечебница, названная в честь своего основателя, бывшего губернатора Москвы Алексеева, который особо жалел сумасшедших и не хотел, чтобы их по обычаям старого времени держали в смирительных рубашках и лили им воду на бритые головы. Просвещенный гуманист, Алексеев собрал богатое московское купечество на обед, описал, каким оскорблениям незаслуженно подвергаются тяжело больные люди, и попросил помочь ему в постройке хорошей современной больницы. Тогда, заскрипев стулом, поднялся купец Ермаков, огромный, налитый тяжелой купеческой кровью, однако в прекрасной английской одежде, сощурил калмыцкие желтые глаза и сказал так: «Поклонишься в пол здесь, на людях, и дам миллион». А не успел он закончить, как белый, хуже зубного порошка, Алексеев вышел из-за стола, сорвал с себя хрустящую салфетку, которую заложил за воротничок, приступая к обеду, и низко поклонился купцу Ермакову. И тот дал ему миллион.
– А что потом было? – спросила Таня, стараясь не смотреть на Василия, который краснел всё сильнее.
– А то, что обычно бывает, – нервно дернув щекой, ответил Александр Сергеевич. – Построили лечебницу, закупили новейшие ванны, постельное белье, халаты для больных, шкафчики. Лечили по всем требованиям цивилизованного мира. Никаких побоев. Старались подолгу беседовать с пациентами, ловили, так сказать, искорку неомраченного сознания. Сам Алексеев очень этим увлекся, пропадал в клинике днями и ночами, пока его, бедного, не зарезали.
– Как так зарезали? – вскрикнула она.
– Ну, просто, как курицу, – усмехнулся он. – Сидел в сумерках с одним больным, на которого возлагал особые надежды, увещевал. А тот схватил бритву и изо всей силы полоснул его по горлу. Весь сумасшедший дом просился присутствовать на отпевании, и в клинике долго был траур.
– Почему вы сказали, что так всегда бывает? – насупилась Таня.
– А как же иначе? – засмеялся он, но не успел договорить.
Из дамской комнаты к их столику быстро подходила та самая, очень худая, с разгневанным и жалким лицом женщина, которая пришла в кофейню почти одновременно с Таней. У женщины горели щеки, в уголках губ запеклась пена.
– Ах, вот они где! – сказала она, так сильно выкатив блестящие глаза, что всё остальное на ее истощенном лице стало почти незаметным. – Нашел себе новую куклу?
Василий вскочил и, застонав, словно у него разом заболели все зубы, выбежал из кофейни. Няня, хлопая своими растаявшими ресницами, испуганно открыла рот и начала быстро качать коляску.
– Я знала, что всё этим кончится! Знала! Но я не позволю! Клянусь, завтра я подниму все газеты!
– Какие газеты? – побледнев так, что на кончике его прямого носа стали заметны редкие черные точки, спросил Александр Сергеевич. – Ты, Нина, себя не слышишь!
– Я слышу! Ты хочешь жениться – женись! Только Васю не трогай!
– А, это уже что-то новое, – буркнул Александр Сергеевич. – Пойдемте, Татьяна Антоновна, здесь нам не дадут поговорить спокойно.
Тане хотелось провалиться сквозь землю. Александр Сергеевич осторожно взял ее под руку. Набросив на голову шарф, в незастегнутом пальто, она прошла мимо жены Веденяпина, боясь случайно дотронуться до нее, и перевела дыхание, только оказавшись за порогом кофейни.
Лицо Александра Сергеевича было несчастным и постаревшим.
– Ну, видите, видите? Что я мог сделать?
– Мне всё-таки лучше уйти, – пробормотала Таня, сгорая от стыда и неловкости.
– Вам гадко здесь с нами! – Александр Сергеевич наклонился, стараясь поймать ее взгляд. – Еще бы не гадко! Но это продлится недолго, ведь вы же всё видели…
– Как вам не стыдно! – расплакавшись, закричала Таня. – Вы ждете ее смерти? Ах, как вам не стыдно!
– Бывает, что смерть-то и есть лучший выход…
– Вы это вчера говорили! Вы говорите ужасные вещи, я даже и слушать не стану!
– Я буду молчать, если вам это лучше.
– Оставьте меня, пожалуйста! – взмолилась Таня. – Я не знаю, как отвечать вам, подождите… Даю слово, что я сама позвоню вам.
– Даете мне слово?
– Да, я позвоню.
Нужно было, чтобы он как можно быстрее отпустил ее.
За обедом отец молча протянул ей распечатанное письмо.
– Что это? Мне?
– Твоя мама вернулась в Москву.
– Как – мама вернулась?
– Соскучилась, – с ядом в голосе ответил отец.
– А я не хочу! – зло и возбужденно заговорила Таня, отталкивая от себя тарелку и расплескивая суп по скатерти. – Я не хочу ее видеть! Зачем она мне?
– Она родила тебя, – негромко сказал отец.
– Никто не просил! Она и потом тоже вроде рожала! Ведь там еще девочка, верно?
– Девочка-то уж совсем ни при чем… Она тебе ничего плохого не сделала.
Тут только Таня заметила, что письмо распечатано.
– Ты что? Ты прочел?
– Бог знает, что она могла написать тебе. Я ей не слишком доверяю.
«Татуша! – писала мать. – Понимаю, как тебе больно вспоминать обо мне, как сильно я виновата перед тобой. Но теперь, когда ты становишься взрослой, тебе, может быть, будет легче понять меня. Мы с Диной вернулись в Россию после двенадцати лет жизни в Европе. Это очень большой срок. Я много рассказывала ей о тебе, и она знает все смешные словечки, которые ты говорила, когда была маленькой, и смеется твоим детским шалостям».
Сквозь злые горячие слезы Таня удивленно посмотрела на отца:
– Каким моим шалостям она смеется?
– Были, наверное, какие-то шалости. Ей теперь кажется, что и она, как любая мать, должна помнить, каким был ее ребенок в детстве… Чувствительный самообман.
– Не хочу! – Она бросила письмо на пол и изо всех сил сжала голову руками. – Одни сумасшедшие рядом!
– О чем ты? – нахмурился отец. – Какие рядом с тобой сумасшедшие?
Она прикусила язык.
– Красивая зима! – Отец посмотрел за окно, где голубовато и нежно сверкало. – Почему ты перестала ходить на каток?
Он всегда переводил разговор, когда ей нужно было отдышаться и сообразить, что к чему.
– Папа! – Таня всхлипнула. – Я не стала тебе рассказывать, потому что я не знала, как… Вчера меня проводил из театра один человек. Он доктор, работает в больнице… У него сын, гимназист. Еще и гимназии даже не кончил.
Отец еще больше нахмурился:
– Почему ты позволяешь незнакомому человеку провожать тебя из театра?
– Он рядом сидел, и мы с ним познакомились. Потом он пошел провожать. У него жена, которая больна и скоро умрет. Сегодня мы были в Филипповской, она ворвалась и устроила сцену. Он очень несчастный…
Слезы затопили ее, но они же оказались и той спасительной смазкой, которая помогала словам протискиваться сквозь горло.
– А ты здесь при чем? Какое тебе дело до чужого мужчины и его жены?
В том, как отец произнес слово «мужчина», сверкнула обозленность. Он резко встал и, обойдя стол, подошел к ней.
– Смотри на меня, я хочу видеть твои глаза.
Она подняла заплаканные глаза.
– Ты очень красивая молодая девушка, – твердо выговорил отец. – Ты росла без матери, а я не сумел подготовить тебя к жизни. Ты не понимаешь, что это значит, когда не старый еще мужчина, – опять он неприятно и обозленно надавил на это слово, – сколько, кстати, ему лет?
– Не знаю. Лет сорок, а может быть, больше…
Отец весь темно покраснел:
– Лет сорок! Тебе восемнадцать! Лет сорок! Ты не знаешь, что это значит, когда мужчина в театре знакомится с молоденькой девушкой, а потом провожает ее домой и рассказывает ей о своих драмах!
– А что это значит? – хрипло спросила она.
– Это значит, что в следующий раз он пригласит тебя в номера! Не думай, что в жизни одни только розы!
– А я и не думаю, – прошептала Таня. – Ты же сам говоришь, что я росла без матери.
Отец покраснел еще больше:
– Разве это я виноват в том, что ты росла без матери?
Таня вскочила. Теперь они стояли лицом к лицу, и оба тяжело дышали.
– Никто из вас не виноват! – закричала она, жалея отца и одновременно наслаждаясь его растерянностью. – Я не виновата в том, что вы сначала женились, а потом разженились! Я только знаю, что меня бросила мать, а теперь ты упрекаешь меня, что я пожалела кого-то, кого тоже бросила жена! А я ни на секунду не забывала, что моя мама сделала с нами! Со мной и с тобой! Помнишь, как мне однажды приснилось, что мы идем по лесу и снег вокруг? И кто-то лежит в этом снегу, совсем маленький, как ребенок. А потом мы наклоняемся и видим, что это мама. И ты говоришь: «Она заблудилась. Сейчас отнесем ее домой и отогреем». Не помнишь?
Таня с размаху уткнулась в отцовскую шею, где между накрахмаленными отворотами воротничка перекатывалось адамово яблоко, которое было еще горячее ее собственного лица.
– Ну, хватит, – забормотал отец, целуя и приглаживая ее волосы. – Если этот господин позвонит, я попрошу его оставить тебя в покое. А с мамой я сам разберусь… Скажу, что тебе нужно время…
Опять она не могла заснуть. Мысли о матери перебивались мыслями об Александре Сергеевиче, потом о его сыне, который сбежал из кондитерской, потом она начинала представлять себе, какая у матери младшая дочка, но тут ее прожигали слезы, и рот наполнялся соленой слюною.
* * *
Под утро она заснула и проснулась далеко за полдень.
– Папаша велел, чтоб тебя не будили, – шамкая сухими коричневыми губами, сказала нянька. – Вставай и иди хоть позавтракай, поздно. Уж скоро обедать.
На улице таяло, и оползший за утро сугроб напоминал огромную неуклюжую птицу, у которой одно крыло нагромоздилось на другое.
– Весна, стало быть, – вздохнула нянька. – Вот как припечет, так и лету недолго! Глядишь, и согреемся. А то прям хоть плачь: сыпет, сыпет!
– Папа не сказал, когда придет?
Нянька глотнула чаю из стакана, обожглась и помахала ладонью перед раскрытым ртом.
– С мамашей сегодня встречаются, вот как, – не сразу ответила она. – Звонил ей с утра, сговорились. При мне дело было.