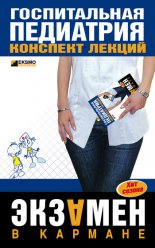Дом Леви Френкель Наоми
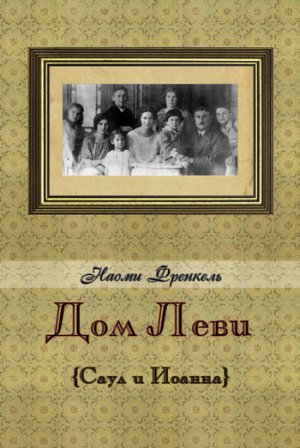
* * *
Площадь все еще погружена в дремоту.
В доме Леви спят. Жалюзи опущены. Ветер треплет кроны деревьев. Вьющиеся растения на стенах дома вытянулись порывами ветра и похожи роту часовых, охраняющих дом при входе и выходе.
Восемь раз прокуковала кукушка в стенных часах салона. Жильцы дома пробуждаются от сна.
В столовой Эсперанто вращает глазами, навостряет уши, зевает со сна и соскальзывает со своего ночного ложа в кресле.
Фердинанд внес патефон в ванную, и бреется под звуки популярной в сезоне песенки. Служанка в коридоре начищает обувь в ритме мелодии. Кудрявые девицы, поднимают головы, на миг, прислушиваются к вою ветра, шуму дождя, скрипу жалюзи, и опять погружают свои кудри глубоко в подушки.
«Жаль», – думает господин Леви и зажигает ночник, – жаль. Осень в этом году пришла слишком рано. Придется отсиживаться дома. Позвоню Филиппу, приглашу на обед. Гейнца тоже следует пригласить на эту беседу. Проверить, что происходит на фабрике. А первым делом следует осведомиться о здоровье Эдит. Все еще не вернулась из своего путешествия. Фрида сказала мне, что она переписывается с Гейнцем».
Господин Леви сворачивается под одеялом, дождь бьет в жалюзи.
«Эдит, – думает он с теплотой, – я ведь люблю ее больше всех детей, но никогда не выказывал ей свою любовь».
* * *
«Где чулки?» – Иоанна находит один чулок под кроватью. «Саул обещал прийти сегодня, но в такой дождь вряд ли придет». Иоанна сидит на кровати, и чулок вяло свисает с ее рук. «Завтра начинаются занятия в школе. Фу! Сегодня попрошу у отца нанять мне учительницу иврита. Хочу тоже знать то, что знает Саул».
– Ты трус! – Бумба сидит на краешке ванны. – Ты большой трус, Фердинанд.
Фердинанд вернулся с каникул возбужденным и несчастным. Обе кудрявые девицы влюбились. Весь дом соболезнует горю Фердинанда.
– Я бы на твоем месте, – продолжает Бумба, – сделал то, что сделал один мексиканец, которого я видел в кинофильме. Встал бы против одного из этих господ, выхватил бы пистолет и крикнул: господин хороший, предупреждаю тебя – ты или я!
– Это называют дуэлью, – вмешивается Иоанна, что тем временем явилась в ванную в ночной сорочке с одним чулком на ноге.
– Отстаньте от меня, – злится Фердинанд, – оставьте меня, я нервный.
В кухне Фрида включает электрическую кофеварку. Жужжание ее внушает некоторую бодрость в это осеннее утро. В кухню на коленях вползает Гейнц. В утренние часы мягкость Фриды явно ей не идет и пугает всех обитателей дома.
– Фрида, – подлизывается Гейнц, – Фрида, доброе утро! Как спалось в эту ночь? Как ты себя чувствуешь в такое скверное утро?
– Не задавай сразу столько вопросов! – сердится Фрида. – Садись, ешь и собирайся на твою работу. Снова проспал.
Фрида энергичными движениями ставит на стол посуду, еду, Гейнц скромно усаживается на краешек стула, с выражением вины на лице, и просящим прощения.
– Твой дед, – начинает Фрида, и поток ее слов заполняет кухню до предела, – каждое утро вставал до рассвета и открывал ворота фабрики. Уважаемый господин, говорила я ему, у вас что, на фабрике нет привратника? Фрида, отвечал он мне, Фрида, ему надо ждать поезда, чтобы добраться до места работы. Да и отец твой, когда был еще здоров, выходил из дому каждое утро точно в семь, а вот, наследник – сидит за столом.
– Фрида, ты преувеличиваешь.
– Преувеличиваю, преувеличиваю! Не присматривала бы я за этим сумасшедшим домом, давно бы мы все ходили по улицам с протянутой рукой, – Фрида вытирает нос передником. – Бедные дети! Вы должны благодарить Иисуса милосердного, что я хлопочу здесь обо всем.
– Ты преувеличиваешь! – мягко возражает Гейнц, – перестань так беспокоиться, положение наше не до такой степени худо. Во всяком случае, оно дает тебе возможность покупать каждое утро свежие булочки.
– Иди на работу!
– Выгляни в окно, Фрида на этот пасмурный день! Страх Божий! В какой мир ты изгоняешь меня вместо того, чтобы предложить еще одну чашку кофе.
Гейнц абсолютно отрешается от плохого настроения Фриды, с удовольствием закуривает, словно собираясь сидеть здесь долгие часы.
– Послушай, Фрида, ветер воет, как хищный волк. Не кажется ли тебе, Фрида, что в такой день мир обнажает свое истинное лицо? Фрида, как ты полагаешь, если я сейчас выйду в бушующую пустыню, как будет себя чувствовать во мне человек – венец творения?
– Надень теплые штаны и не изводи меня своими бестолковыми рассуждениями.
– Фрида, – Гейнц притягивает к себе второй стул, и кладет на него ноги. – Я буду себя чувствовать как несчастный воробей, который мокнет под дождем, и ветер его треплет. Куда обратится, куда спрячется воробей-сиротка в эту бурю?
– Тебе следует жениться, – на лице Фриды возникает выражение большого беспокойства, – тебе необходима жена. Когда парень безостановочно плетет глупости, это означает, что он созрел. – Фрида неожиданно усаживается напротив Гейнца, скрестив руки на животе, и вперяет в него явно осуждающий взгляд. – Давно пришло время, чтобы ты вел себя ответственно и разумно. Отец твой болен, а ты первенец его, как же ты свел Эдит с этим мерзким юбочником? Дочь добропорядочных родителей обретается с мужчиной в гостиницах. Езус! Видела бы это ваша матушка! Перевернулась бы гробу! И беда эта из-за тебя! Привел этого типчика в наш дом. Ты! А Эдит, Эдит…
Фрида плачет. По ее широкому и доброму лицу текут крупные слезы. Гейнц сконфужен. Поворачивается к окну, вглядываясь сквозь дождь.
– Ты первенец! – кричит Фрида ему в спину и сморкается в платок.
Гейнц нервно сминает в пальцах сигарету.
«Он привел этого мерзавца в дом! Что Фрида знает об этих жестоких днях? С тех пор партия Гитлера преуспела на выборах, усилился антисемитизм, именно в металлургической отрасли. Он, Гейнц, вынужден искать новые связи. Он обязан дружить с победителями, насколько это возможно. В подвалах с питьем и развлечениями он нашел многих из них. И этого Эмиля Рифке. Он офицер республиканской полиции, но его связи с нацистами такие, что он был послан штабом полиции к крестьянам Пруссии, не желающим платить налоги. Они вышвыривают со двора налоговых инспекторов. И это сопротивление нагнетают типчики в коричневых рубашках. Решили послать вора к ворам: Эмиль Рифке сумел погасить конфликт. Эдит поехала с ним, в маленький городок, скрытый между селами. По сути, это курортный городок, Эдит тоже одна из отдыхающих. В небольшой гостинице она ожидает Эмиля из поездок по селам. Эдит сломалась в грубых ладонях налогового инспектора. Не для этого он, Гейнц, привел Эмиля в их дом. Он пытался ее предостеречь. Вернувшись из усадьбы деда, нашел ее в саду. Была летняя ночь. Он сидел на ступеньках дома. Сад тонул в сиянии. Эдит шла к нему по аллее в светлом вечернем платье, с улыбкой на губах, как бы погруженной в любовные воспоминания. Он побежал ей навстречу, и они встретились между деревьями. Хотел с ней поговорить, предостеречь, рассказать кто он, этот Эмиль. Протянуть ей руку. Но Эдит окинула его холодным отчужденным взглядом и заскользила в сторону дома, не собираясь даже его слушать Совершенно обескураженный, он глядел вслед, оставшись с пустыми руками. Тогда он понял, что опоздал. Любое предостережение – впустую. Эдит, бабочка, расправила крылья. На следующий день уехала. И кто виноват?»
– Ты – первенец! – укоряет его Фрида, и слезы текут у нее из глаз.
Гейнц подошел к ней и положил руку ей на плечо.
– Успокойся, добрая старушка, – он растроганно гладил седые волосы Фриды, – Эдит вернется. Началась осень. Она не останется на каникулах в ливень и бурю. Вернется в ближайшие дни.
– Вернется – Фрида не успокаивается, – но даже вернется, не будет та же Эдит, избранная и чистая, какой была раньше.
– Что делать, милая моя старушка? – Гейнц обнимает Фриду за плечи. – Нельзя бабочку держать в закрытой коробке. Она может потерять все свои красивые оттенки.
– Ты со своей болтовней! Когда можно будет с тобой серьезно поговорить?
– Быть серьезным, моя старушка, – быть серьезным и жениться. Отлично сказала, красиво. В этом холодном мире возьму себе в жены толстушку, круглую, теплую, – голос Гейнца становится тише, задумчивей, – быть может, не увидишь меня на улицах этого города. В объятиях ее совью гнездо, закрою свой дом на замок и удостоюсь увидеть своих сынов и внуков, получивших образование, ставших зрелыми. Если бы это свершилось! Дни-то сейчас ужасно тяжкие.
Зазвонил телефон.
– Езус, – смахивает слезы Фрида, снимает руку Гейнца со своего плеча. – Уважаемый господин проснулся. Просит завтрак.
– Гейнц, – говорит она, прослушав телефон, – твой отец просит зайти к нему прежде, чем ты отправишься на фабрику. Поторопись! Лентяем ты был еще тогда, когда я тебе утирала нос, лентяем будешь всю жизнь.
– Доброе утро, отец.
– Доброе утро, Гейнц.
В комнате господина Леви опущены жалюзи. Горит настольная лампа. Чисто выбритый, прямой, серьезный, как всегда, сидит господин Леви у темного письменного стола. Перед лицом отца лицо Гейнца обретает еще более серьезное, самоуверенное выражение. Гейнц отвешивает отцу легкий поклон.
– Как прошла для тебя поездка из усадьбы, отец?
– Прошла. Видишь, Все трубы небесные разверзлись на меня. Я надеялся найти дома Эдит.
Господин Леви бросает долгий оценивающий взгляд на сына.
– А, Эдит? Она все еще отдыхает в каком-то маленьком романтическом городке.
– Да, – говорит господин Леви, – отдыхает.
Довольно долго отец и сын не роняют ни звука. Гейнц мнет в пальцах сигарету.
«Его царственный вид сердит меня каждый раз. Даже утром, это не очень приятно, когда каждый человек, свободный от дел, не встает с постели, он уже бодрствует, чисто выбритый и одетый с иголочки, готовый в любой миг для приема посетителей. Следует уважать правила поведения человека. В общем-то, нетрудно быть уравновешенным и разумным, пока ты в стенах дома. Но дни-то иные, дорогой отец-принц. Ни разума, ни уравновешенности. Отец уверен, что разум не обманет. Но разум не вечен, уважаемый отец. Сегодня разум растаптывается прахом под самыми грубыми страстями».
Кукушка в прихожей нарушает молчание. Девять утра.
– Отец, разреши идти. Час поздний.
– Гейнц, что случилось с Эдит? Все ее поведение меня удивляет. Кто этот человек, за которым она пошла?
Гейнц немного сконфужен.
– Отец, разреши поднять жалюзи? Скрежет и удары ветра действуют на нервы.
– Пожалуйста, Гейнц. Мы не привыкли вести такие беседы, и все же прошу тебя, говори со мной откровенно. Гейнц, я беспокоюсь за Эдит.
– Отец, сказать по правде, я и сам ее не понимаю. Появился мужчина, и она провела с ним несколько вечеров, и уехала с ним, не сказав ни слова.
– Но кто этот человек?
– Один из моих знакомых, офицер полиции.
– А Тибо?
Гейнц жестом руки как отметает это имя.
– А Тибо? – повторяет господин Леви, расхаживая по комнате, чего обычно не делает, беседуя с кем-то – дай мне ее адрес, Гейнц.
– Что ты намереваешься делать, отец?
– Потребовать от нее вернуться домой.
– Не очень привычно для нее слушаться требований отца.
– Гейнц, здоровье мое слабое. Не знаю, что будет со мной завтра. Я напишу ей об этом, и попрошу вернуться, чтобы следить за мной.
Гейнц в смятении направляет прямой взгляд в лицо отца. Отец болен уже много лет. Но ни разу не слышали такого отчаяния в его голосе. Взгляд открывает в лице отца усталость, мягкость, печаль. Гейнц испуган. Неужели до такой степени ухудшилось здоровье отца? Об этом свидетельствуют глубокие тени в глазных впадинах. Страх охватывает Гейнца. Надо всеми силами беречь отца. Вопреки всему, он является родовым деревом, основой этого дома.
– Отец, – как можно мягче говорит Гейнц, – я уверен, что Эдит немедленно вернется домой, чтобы ухаживать за тобой.
Господин Леви выпрямляется.
– Гейнц, я хочу получить точный отчет о фабричных делах. Постарайся вернуться домой в два часа, к обеду Я приглашу также Филиппа. Я хочу, чтобы он высказал свое мнение по определенным вопросам, касающимся будущего фабрики.
Снова лицо господина Леви становится сдержанным. Мягкие доверительные нотки, что миг назад установились между отцом и сыном, исчезли. Лицо Гейнца окаменело, словно его заморозил черт.
– Как пожелаешь, отец. Я буду готов. До свиданья, отец.
– Гейнц, еще минуту. Почему ты приводишь в наш дом людей, которые нам не по вкусу?
– Отец, потому что дни теперь такие, безумные. В такие дни нам приемлемы такие друзья, как офицер полиции Эмиль Рифке.
Гейнц отвешивает поклон и выходит из комнаты.
Кукушка озвучивает время.
Когда черный автомобиль въезжает во двор металлургической и литейной фабрики «Леви и сын», рабочий день уже в разгаре.
Территория фабрики огромна. Шоссе, которые дождь довел до блеска, соединяют много различных зданий. Между ними движется поезд. Открытые платформы вагонов загружены тяжелыми плитами. Электровоз тянет вагоны, и гудит без перерыва. Фонари в тумане дождя сверкают как кошачьи глаза в ночи. Около огромных весов, обслуживаемых рабочими в плащах и черных капюшонах, поезд останавливается. Подъемный кран опускается и подхватывает большим своим ногтем связки листов стали. Затем переносит свою добычу на грузовик. Открываются ворота, и тяжело нагруженный грузовик уступает место еще не загруженному собрату, и отправляется в путь.
Гейнц останавливает автомобиль, приглаживает волосы и смотрит на рабочих, уважительно приветствующих его. «Нет нужды так торопиться», – с горечью думает Гейнц, – эти листы стали, из которых изготовляют кухонные плиты, – последний большой заказ. Если нам не удастся подписать договор с городскими газовыми предприятиями, фабрика погрузится в зимнюю спячку». Испугавшись самой этой мысли, Гейнц вновь заводит автомобиль и едет в гараж. Большое движение царит на фабричном дворе, шум оглушает. Краны скрежещут, машины тарахтят, дождь барабанит по скоплениям ржавого железа, рабочие торопятся, заводят, тормозят, разгружают и загружают. Огромный мир железа и стали. Из труб доменных печей клубится густой дым, оседая на крышах домов и складов, тяжелый как осенние облака. Гигантский молот высится над крышами зданий как стальная остроконечная башня, и кувалда, висящая в нем, как язык колокола, бьет без остановки. Молот гоняет кувалду вверх-вниз как игрушечный колокол.
Гейнц останавливает автомобиль у литейного цеха. В самом центре двора огромный навес литейного цеха: закрытое кирпичное здание, подобное удлиненному кубу, и только под крышей навеса открыты ряды узких оконцев с темными стеклами. По одну сторону навеса – горы кокса, по другую – глубокая яма, заполняющаяся шлаком и всякими отходами, а у ямы – гора краснозема, используемого при литье. Поверх гор кокса и краснозема катятся вагонетки по стальным тросам воздушной канатной дороги в обе стороны, от гор кокса внутрь доменных печей, четыре квадратных трубы которых выходят из крыши литейного цеха до самых облаков.
Большие стальные ворота литейного цеха открыты. Тут царство огня, и здесь не чувствуется ни осень, ни зима, ни дождь, ни ветер. Нестерпимый жар царит между черными стенами все месяцы года и все дни недели. Сердце фабрики пульсирует здесь, под задымленным навесом. И как выдох рта гигантского тела выходит дым из плавильных печей. Все дороги, исходящие отсюда и ведущие сюда, подобны длинным артериям. Все дома вокруг, как вспомогательные клетки этого огромного тела, обслуживают лишь его. Если они остановятся, остановится весь завод. Из сердцевины, в которой кипит железо, пылающий поток вливается и застывает в формах, так рождаются предметы и вещи в месиве огня, дыма и жара.
Гейнц входит в литейный цех, останавливается у входа и кладет руку на усилитель пламени. Раздается звонок – знак, что завершилась плавка, и огненная река бьет в закрытые отверстия печи. Рабочие суетятся у печей, на бедрах у них кожаные фартуки, на руках кожаные рукавицы, на ногах легендарные сапоги из лоскутов кожи. Но руки и плечи оголены, и фартуки лишь частью защищают открытую грудь. Команды коротки и отрывисты, иногда ругань, иногда едкие выкрики – осколки разговора в царстве огня. Железные шесты сняли преграду с отверстия печи, и ореол искр и белые облака пара взметаются вокруг пляшущих языков пламени, дымных воскурений, шипения, пузырей, кипения. Потоки огня текут в бетонных желобах, выходящих из плавильной печи, и уже большой кран движется по стальным рельсам под крышей зала. В маленькой кабине – водитель. На длинных цепях круглый котел, носик которого изогнут аркой, подтягивается краном к отверстию печи. Словно из разинутых зевов драконов надвигается, подобно мифической реке Самбатион, поток языков пламени, со страшным шипением и дымом. Кран захватывает когтями котел, извлекает его из огня преисподней и быстро передвигается к большим формам, ждущим раскаленного литья. Тут кран замирает, открывается носик котла, и лава опрокидывается в форму, вся в ореоле искр и ослепительного сияния. Как гнев огня, зажатого без возможности вырваться, выходит дым через щели формы, бьют электрические молоты, не дают остыть литью, подбрасывая его, толкут в форме, длится расплющивающая пляска. А кран уже движется к следующей форме – быстрей! Пока еще железо текуче! Когда в первой форме, в красноземе, возникает форма – рабочие сбрасывают эту красную землю, и из пламени возникает уже остывшая деталь.
Гейнц стоит у входа, лицом к огню, спиной к дождю. Усилившийся ветер швыряет струи дождя в ворота литейного цеха, и огромный вал дыма, который не нашел выхода через трубы, катится под навесом. И клубы пыли, пригоршни дождя и фейерверк огня смешиваются, словно соединились четыре элемента Сотворения – вода, огонь, прах и ветер – создать единым усилием что-то новое е. Под навесом жар. Нечем дышать. С черными лицами и покрасневшими глазами суетятся полуголые рабочие в огне и облаках дыма, как демоны в глубинах преисподней.
Инженер, ответственный за работу в цеху, здоровается с Гейнцем.
– Дым сгущается в цеху. Когда усиливается ветер, дыму нет выхода. Рабочие задыхаются, и это замедляет работу.
– Я это знал, – самоуверенно отвечает Гейнц, – если я не ошибаюсь, вы не первый раз жалуетесь мне на дым в цеху.
Инженер прикусывает язык и замолкает. Гейнц известен среди рабочих и служащих как человек спесивый и высокомерный. Чувства инженера хорошо видны на его замкнувшемся лице. Гейнц знает, что работники фабрики к нему не питают большой любви. Перед дедом преклонялись, отец вызывал уважение своим возвышенным образом, а Гейнца побаиваются, но за спиной ругают его, на чем свет стоит. Инженер этот работал еще при отце, он верный работник и он прав.
«Следует внести изменения в здание литейного цеха. И это не терпит отлагательства, литейный цех столько лет не обновлялся. Еще дед его построил, отец несколько обновил, да и немного добавил. Но все время была проблема с чертовым дымом. Сегодня строят литейные цеха более просторными, открытыми свету и воздуху».
Гейнц вглядывается в огонь и дым. Рядом молчаливый инженер.
Как извивающийся змей, плюющий фейерверком огня на все окружающее, обнимает дым суетящихся рабочих.
«Надо изменить это старое сооружение, чтобы облегчить труд рабочих и увеличить выработку. Что сказать инженеру? Сказать, что сейчас нет возможности вложить много денег в новое строительство и что будущее фабрики несколько стопорится? Лучше не говорить с ним об этом. Лучше высокомерие, ибо это отличное прикрытие отсутствия уверенности».
От печи отделяется и приближается к выходу кочегар, мужчина широкий в кости, с почерневшим от дыма лицом. Спина и плечи обнажены, и мышцы играют как гибкие стальные струны. Он выпячивает грудь, поросшую черными волосами. В руках у него железная болванка, и он крутит ее в пальцах, как спичку. Это Хейни-сын-Огня, как его прозхвали товарищи по литейному цеху за его умение зажигать курительную трубку куском раскаленного добела железа, который он поднимает с земли пальцами, которые не боятся огня. Тяжелыми шагами он приближается к выходу, чтобы высунуть голову под дождь, подышать свежим воздухом и остудить тело. Гейнц с улыбкой первый спешит его поприветствовать, у него установились особые отношения с этим темнолицым кочегаром. Не раз Хейни приглашался на беседу с молодым хозяином. Там, в офисе Гейнца огромный рост Хейни как бы сжимался. Стоял с жалким видом среди темной мебели, шапка в руках, переступал с ноги на ногу, мямлил в ответ на вопросы Гейнца со смятенным выражением лица. Здесь, в литейном цеху, проходит Хейни перед хозяевами – огромный, широкоплечий и черный, как библейский Тувал-Каин собственной персоной, и на приветствие Гейнца отвечает уголком рта в полнейшем равнодушии. Здесь, в царстве огня Хейни – хозяин, а белолицый и чисто одетый Гейнц – ничто. Гейнц добродушно усмехается. Эти знаки небрежности, подаваемые Хейни, предназначены лишь для того, чтобы произвести впечатление на товарищей по цеху, вознестись над ними. Вообще с литейщиками сплошная беда. Они первыми бастуют, и по своим делам, и по делам других. Они подстрекают всех рабочих фабрики в любой подходящий момент. Как листопад, к которому поднесли горящий фитиль, так ненависть охватывает эту профессию. Как традиция из поколения в поколение, у древних плавильщиков железа в глубинах леса родилась эта ненависть. Вечная ненависть этого племени с обожженными бровями и ресницами, опаленными лицами, к людям светлой кожи, белолицым, чисто и аккуратно одетым. Литейщик, который, раздувая огонь в печи, одновременно не раздувает ненависть к своим хозяевам, принимается в этом немногочисленном племени, как недостойный профессии. Все литейщики – «красные», за исключением Хейни. Он политикой не занимается. «Хейни – пустое место», – брюзжат рабочие. Но Хейни размахивает болванкой, держа ее между пальцев, как спичку, напрягает мышцы рук, выпячивает грудь, как барабан, в который бьют, призывая к бою. Он провозглашает и разъясняет – ничего, настанет час, он будет готов! Совершат что-либо, и он будет с ними, – но до тех пор пусть оставят его в покое, дадут жить спокойно. Сердце его не расположено к перекармливанию словами, как перекармливают гусей на продажу. Дело надо делать, а не болтать!
Гейнц поворачивается к Хейни, стоящему у входа в цех и подставляющему лицо дождю. Его черная от дыма спина обращена к Гейнцу, как спина быка, ожидающего ноши.
– Если будет подписан договор с городскими газовыми предприятиями, – обращается Гейнц примиряющим тоном к руководителю работ, – нам придется увеличить выработку даже в этих условиях. Не настало еще подходящее время для большого ремонта.
– Если это так, господин, все же придется сделать некоторые исправления. В противном случае придется остановить работу одной из печей.
– На следующей неделе начнем срочный ремонт.
Инженер одобрительно кивает головой, как человек, с мнением которого согласились.
Хейни возвращается от ворот: прозвучал колокол, и пришла его очередь работать у печи. Опять проходит мимо хозяев, лишь слегка кивнув головой в их сторону – шаги его тяжелы, и болванка вертится между пальцами его руки. «Ненависть здесь вызревает, как змеиные яйца в темной пещере» – думает Гейнц.
У печей шипит железо, пузырится, поднимая густой пар. Как языческий идол в воскурении фимиама, стоит Хейни в красном свете. Гейнц вздыхает и выходит из литейного цеха. Во дворе шум усиливается. Горы кокса посверкивают, как алмазы порока. Гейнц садится в автомобиль и едет в гараж, стоящий напротив конторы.
Эту контору тоже построил дед – на подобии особняка, украшенного в стиле ложного барокко.. В моде тех лет было украшать ворота, карнизы всех окон скульптурами девушек, ангелов, идолов. То же самое сделал дед. Все эти фигуры разбросаны по стенам, копоть, ветер и дождь почти стерли их лики. Перед конторой – небольшой сквер – деревья, грядки цветов, клумбы. Скамейки стоят вокруг каменной жабы, которая в дни деда испускала водяную струю в небо. Но в дни Первой мировой войны испортился механизм внутри жабы и до сих пор не исправлен, жаба сидит с раскрытой пастью и сухим горлом.
Гейнц поднимается по ступенькам, покрытым красным ковром. Множество стеклянных дверей ведет в комнаты. За дверьми сидят служащие. «Слишком их много», – думает Гейнц, с огорчением поглядывая на эти комнаты. Эти служащие – вечный предмет спора между Гейнцем и его отцом. Многих из них должны были давно уволить. Устаревшая система работы была дорогостоящей и малоэффективной. Большинство служащих работает здесь много лет. Они пришли на фабрику вместе с молодым господином Леви, отцом Гейнца, и он не желает их увольнять. Они были преданными советниками Гейнца, который, в общем-то, довольно молодым вынужден был взвалить на плечи это огромное и сложное предприятие. Они действительно много сделали для фабрики, но теперь в них нет необходимости. Тяжелыми шагами поднимается Гейнц по ступенькам. «Я волоку за собой прошлое, подобно камням, привязанным к моим ногам. Я ничего не могу предпринять. Этому надо положить конец. Времена не располагают к сантиментам».
Гейнц открывает дверь своего кабинета. Из соседней комнаты возникает женщина в летах, секретарша, которая работала еще с отцом. Нечто материнское и доброе проступает в ее улыбке, когда она встречает своего шефа. Гейнцу претит эта материнская улыбка и этот мягкий голос. Он отдает в руке женщине свое пальто и шляпу, стаскивает с рук перчатки, и усаживается за письменный стол.
– Новости? – коротко спрашивает.
– Нет новостей.
– Доктор Ласкер не звонил по поводу городских газовых предприятий?
– Не звонил.
– Вы свободны.
Секретарша медленно закрывает за собой дверь, Гейнц встает и начинает расхаживать по кабинету. «Это дело с газовыми предприятиями переходит все границы! Фабрику ожидает большой объем работы: полное обновление оборудования газовых предприятий. Предложение было принято, договор составлен, но не подписан. Прошли недели, а дело не сдвинулось с места. Вышестоящие и нижестоящие чиновники задерживают его. И настоящая причина задержки в имени. Ведь имя Леви написано на договоре. Гейнц передал этот договор Филиппу, юридически представляющему фабрику. Но и Филипп ничего не добился, ибо чем фамилия Ласкер лучше фамилии Леви? Надо передать дело юристу христианину. Если мы проиграем это дело, фабрика будет частично парализована. Передам это дело Функе, с которым познакомил меня Эмиль Рифке однажды вечером».
Функе был пьян, физиономия противная. Гейнц увидел перед собой маленькую головку и два голубых глаза. В один из них был воткнут монокль. «Леви?» – спросил господин Функе и сильно закашлялся. Гейнцу противно вспоминать господина Функе. Но иногда невозможно выбирать друзей по бизнесу, глядя на их физиономии. Порой именно такая физиономия может принести много пользы. «Вечером выйду его поискать». Гейнц вновь усаживается за письменный стол. Секретарша положила груду писем, прижав их большой мраморной пепельницей, на которой начертано золотыми буквами – «Живи и дай жить другим». Эта пепельница здесь еще со времен деда. Дед получил ее, как презент, на соревнованиях по стрельбе, и позолоченный девиз был в его вкусе. Гейнц кладет руку на пепельницу, и она расслабленно отдыхает на позолоченной надписи. «Сегодня подводят нервы», – думает Гейнц, – и это из-за Эдит. Беспокойство за фабрику привела беду в дом. Это беспокойство привело в дом Эмиля Рифке, и эта фабрика…»
Неожиданно его сотрясает нервный кашель. Тут же открывается дверь, всовывается седая голова секретарши.
– Вам что-то нужно? – мягко спрашивает голос.
– Ничего не нужно, – в голосе Гейнца недовольная нотка, – попрошу мне не мешать.
Глаза сестры милосердия смотрят на Гейнца, и тут же седая голова исчезает. «Не могу выдержать всех этих стариков, все эти следы прошлого. Сижу в кресле, как посланец деда и отца, и ничего не могу сделать. Дед не покидает усадьбы и занят откармливанием на убой гусей. Отец погружен в свои мечтания, прикован к жизни высшего света, следует претензиям собственной головы. Ну, вот явился я? Прошлое огорчает, будущее тревожит. А сегодня… этот дождь стучит в стекла, и эта тьма посредине дня, убивающая любую светлую мысль. Если Филипп не позвонит по поводу газовых предприятий, то и делать мне сегодня здесь нечего. Могу вернуться домой».
Гейнц возвращается к столу, перебирает письма. Ничего важного. Вдруг – знакомый почерк. Письмо от Эрвина. Торопливо извлекает письмо из конверта. По спине пробегает дрожь: Эрвин сообщает, что у него родился сын. У Эрвина и Герды родился сын. С дружеским чувством, которое еще, оказывается, не выветрилось, Эрвин приглашает отпраздновать это знаменательное событие. Письмо дрожит в пальцах Гейнца «Много воды утекло в реке Шпрее со дня их последней встречи. Очень много воды». Гейнц смотрит на стекло окна, по которому стекают струи дождя, в целые облака дождя, уносимые ветром. Мутные волны Шпрее встают перед его взором. И лицо юноши с взлохмаченным чубом, хохочущего от всей души. И дом на берегу Шпрее, дом Эрвина.
Рядом с рекой была мастерская отца Эрвина – слесарная и кузница. Он подковывал лошадей, чинил телеги. Широкоплечий мускулистый мужчина с простодушным бесхитростным лицом, что целыми днями напевает «Аллилуйя». Над его внешним видом пошучивали его клиенты: «Его вид, как гибрид элементов святого и свиного». Каждое второе предложение он начинал словами «мы, люди среднего класса…» и завершал – «Порядок должен быть порядок». Его плоскогрудую жену клиенты, приходящие в слесарную, называли за глаза «пумперникель» (был такой плоский хлеб, продаваемый в городе). При словах мужа она выпрямляла спину и качала головой в знак согласия. Кайзер, Бог и родина были железными основами его мировоззрения. В последнее время он добавлял еще один принцип: «Евреи – нарост на цветущем теле матери-Германии». Слесарная всегда была полна народа и шума. У хозяина ее, мастера Копена, были хорошие отношения со всеми клиентами, за исключением извозчиков, с которыми у него время от времени были словесные перепалки. Эти лизоблюды, у которых патлы всегда мокрые, смотрели на кузнечные меха, и заявляли, просто, чтобы рассердить:
– Тяжка жизнь в нашем государстве. Для тебя страна эта богата. А для нас – что конский навоз. А твой кайзер – пусть целует, знаешь куда, мастер?
Мастер Копен открывает рот и отвечает:
– Мы, люди среднего класса…
Извозчики умирают от хохота.
– «Аллилуйя, мастер Копен!» – и уезжают.
– Порядок должен быть! – господин Копен кричит им вслед. – Порядок!
Единственного своего сына он послал учиться в школу высокого уровня, ибо это тоже входило в его принципы: сын среднего класса должен подниматься вверх.
В этой школе встретились Гейнц и Эрвин, и с первого дня стали верными друзьями.
– Не говори отцу, что имя твое – Леви, – сказал однажды Эрвин, пригласив друга к себе домой.
– А что будет, если скажу?
– Он тебе не даст больше приходить к нам. Он не уважает евреев.
Гейнц придумал себе какое-то имя и продолжал день за днем посещать Эрвина. Его влекла веселость друга и незнакомое ему окружение.
Они сидели у реки и наблюдали. Река была полна лодок. На них жили рыбацкие семьи. Женщины развешивали белье, готовили всякое варево, и острые запахи раздражали носы. Женщины то ругались, то пели хором. Мускулистые мужчины с татуировками (головки красивых девушек, сердца, пронзенные стрелами, черепа) на груди и руках, стояли в лодках, жевали черный табак, и обволакивали всех густым дымом из курительных трубок. К вечеру появлялись белые прогулочные катера, и за гроши жители города уплывали на ночную прогулку по реке, оркестры сопровождали публику. Звуки вальса подхватывали сердца танцоров. Влекомые этим волшебством, заполняли люди прогулочные корабли и исчезали в далях.
– Я хочу быть журналистом, – сказал Гейнц, и мысли его уплывали вместе с кораблями, – поезжу по странам, буду причастен к событиям и всяческим авантюрам.
– А я буду врачом, – мечтал Эрвин, – это профессия постоянная и упорядоченная.
Они были детьми, когда грянула мировая война. Мастер Копен закрыл свою слесарную мастерскую, предварительно в ней все упаковать.
– Должен быть порядок! – благословил именем Бога сына и плоскогрудую жену, и с поднятой голову пошел на войну во имя кайзера и родины.
И господин Леви – долг есть долг – вышел на поле боя. Дед приехал из усадьбы – вести дела фабрики.
Мать Эрвина осталась одна, и становилась все более худой плоскогрудой. Все труднее было доставать продукты. Лицо ее становилось похожим на усохший изюм с хлеба «пумперникель». Эрвин выстаивал очереди с продуктовыми карточками в руках. В доме Леви гремел дед, дел было по горло. Фабрика работала днем и ночью, а с усадьбы привозили продукты питания. С каждой победой войск кайзера, перед усадьбой поднимался черно-бело-красный флаг.
Гейнц продолжал посещать Эрвина. Сидели они на берегу реки. Эрвин пытался ловить рыбу для нужд своей семьи. Весь берег был усыпан жителями Берлина: детьми, стариками, женщинами, инвалидами войны, которые были специалистами по рыбной ловле. Много часов просиживали они у реки. Рядом друг с другом. И в солнечную погоду и дождь пользовались зонтиками. Фрице с деревянной ногой приходил сюда с шарманкой, развлекать рыболовов музыкой и зарабатывать на хлеб. Маленькая обезьянка в генеральском мундире, увешанном жестяными блестящими орденами, сидела на ящике шарманки. Хвост ее свисал из штанишек с золотыми лампасами, и она пританцовывала под мелодию песенки, что была любима жителями Берлина в те дни:
- Воды Шпрее текут сквозь Берлин, не встречая преград.
- Подними свой бокал, и тотчас прояснится твой взгляд.
- Даже черт или дьявол вдруг на него нападет, —
- Улыбнется берлинец, и дух его не падет.
Исчезли лодки с реки: они также были мобилизованы на войну. И женщины в траурных платьях рассказывали истории героизма мужей, сыновей, братьев, которые пали на войне. Одни плакали, другие советовали или получали советы, что и как готовить в эти трудные дни: «Человек должен жить…» Инвалиды войны плевали в воду: Бог, кайзер, родина! Пусть целуют… Понимающий поймет куда.
И мутные воды Шпрее продолжали течь через город, омывая его сердце.
– Жаль, – сказал Гейнц, – жаль, что мы не участвуем в войне. Очень хотелось бы воевать во имя Германии.
Эрвин был первым, кто сказал в полный голос:
– Война это катастрофа, черт ее побери!
И тут началась драка между друзьями. Гейнц набросился с кулаками во имя Германии и войны. В конце концов, Эрвин повалил Гейнца на землю. Затем помог ему подняться, отряхнул его одежду и упрямо стоял на своем:
– Война это катастрофа. Ты еще убедишься в этом.
Отец Эрвина вернулся с войны, украшенный медалью, но без одного глаза. Один глаз делал его лицо страшным – исчезло выражение «Аллилуйи». Мастерскую он больше не открывал. Деньги, которые он копил, обесценились в инфляции, извозчики тоже исчезли со двора. Слесарная стала складом тканей. На деревянной двери висело большое объявление «Торговый дом тканей. Авраам Коэн». А одноглазый мастер Копен пошел рабочим на фабрику. Язык его тоже изменился, теперь он не начинал речь фразой «мы – люди среднего класса». Теперь у него были в ходу два новых выражения, которыми он попеременно пользовался: «В старые добрые времена…» и «Евреи виноваты, только они». И в знак доказательства указывал на деревянную дверь в своем дворе. И только конец любой его речи не изменился: «Должен быть порядок».
Господин Леви вернулся больным с войны, но бодрым духом.
– Хотя, – сказал, – Германия потерпела поражение, но выиграла вдвойне, получила урок на будущее, и больше войны не будет. Мы основали истинную демократию.
Дед, как обычно, смеялся. На усадьбу он не вернулся. С утра до вечера без устали занимался бизнесом. За гроши купил старое военное оборудование, снял площадку и собрал на ней горы ржавых касок, детали винтовок, вышедших из строя, старое обмундирование.
– Зачем это? – злился господин Леви. – Ты что, собираешься открыть бизнес на хламе?
– Согласен! – дед похлопал сына по плечу и почти с любовью сказал:
– В торговых делах ты ничего смыслишь. В душе народа и его лидеров – еще меньше. Положись на меня, еще будет нужда во всем этом. И то, что я сегодня купил за гроши, завтра продам как дорогой товар.
С окончанием войны Гейнц и Эрвин окончили школу и оба пошли учиться в Берлинский университет. Эрвин – на медицинский факультет. Гейнц – на факультет гуманитарный. Но делом этим так и не занялся.
В то время Берлин дышал полной грудью новой свободой.
Михель дурачок, мечтательный, тихий и медлительный немец, стал танцевать в быстром темпе, вращался на оси до головокружения. Танцевал на одной ноге, без того, чтобы искать опору для второй ноги. Приличный и добрый Михель, чем все это завершится? Устанешь – найдешь покой обеим ногам и двинешься дальше взвешенно и разумно, уравновешенно и твердо? Или пьяный, качающийся, будешь бить окружающих, бить и топтать?
Михель, куда?
– Куда? – Спрашивает Фрида каждый вечер Гейнца, недовольная поведением молодого господина. Гейнц купил себе черный смокинг, белые перчатки, нашел себе подругу в одном из злачных мест города, и чувствует себя всесильным мужчиной.
– Куда? – спрашивает Эрвин. – Куда сегодня вечером?
Город переливается огнями, Гейнц знает все его тайны.
Берлин живет, Берлин насквозь просквожен развратом и наркотиками. В подвалах пляшут голые девицы. На чердаках спиритуалисты вызывают дух мужей и сыновей вдов, потерявших дорогих им мужчин на войне. Берлин занимается боксом, отгадыванием будущего, Берлин полон суеты, открывает театры, кинотеатры, небольшие сцены.
Куда?
Гейнц и Эрвин носятся по улицам города, охваченные безумным весельем.
В один из дней к ним присоединилась светловолосая с ясным взглядом девица по имени Герда, подружка Гейнца в дни учебы в университете. Девица странная, притягивает сердца. Необычное сочетание противоположностей: отличная спортсменка и глубоко верующая, рьяная католичка. Упрямо вгрызается в науки. Собирает осколки идей, как курица, клюющая зерна, развлекает преподавателей и студентов своими взглядами, которые представляют смесь идей, но все же ясную и практичную, можно сказать, светлую, как ее глаза, смесь. Развлечения студентов ее не притягивали. Гейнц пытался ее соблазнить всякими хитростями, заманивая в погреба, где развлекалась молодежь, где мужчины дерзко пялили глаза на ее красивое лицо. Гейнц же, чтобы ее еще больше разозлить, заигрывал с девицами. Она краснела, и глаза ее просили помощи у Эрвина.
– Презираю тебя! – Бросала она в лицо Гейнцу и, сгорая от стыда, покидала место, и Эрвин бежал за ней, а Гейнц смеялся им вслед.
– Ты наивна, и это твой недостаток, – дразнил ее Гейнц и продолжал тянуться за ней. В один из дней предложил:
– Давай, будем друзьями, Герда.
Они пошли на лыжную прогулку. Когда они стояли на вершине горы, и зимнее солнце играло золотом ее волос, она внезапно сказала:
– Ты чужд моему духу, Гейнц, я не люблю людей, все высмеивающих.
– Романтичная девушка, – ответил он сердито, – твой дух сбивает тебя с толку.
После этого она не хотела с ним встречаться наедине. Через какое-то время исчез и Эрвин. Он перестал заниматься в университете, ибо не смог оплатить учебу, да душе его она опротивела. Эрвин стал рабочим. Герда еще продолжала некоторое время посещать университетские занятия. Однажды Гейнц заметил, что с ее шеи исчез маленький позолоченный крестик, и даже испугался. Что-то произошло в ее жизни. И действительно вскоре она исчезла, даже не попрощавшись. Гейнц смеялся им вслед заносчивым смехом и продолжал жить прежней жизнью. Обрел новых друзей и пытался забыть Эрвина и Герду. Пришла тяжелая, полная сюрпризов, зима. Богачи и крупные бизнесмены потеряли все и сошли вниз, а бедные, едва на ногах стоящие обрели богатства и поднялись вверх. Роскошные дома развлечений открывались вечером, и назавтра закрывались. Люди кутили напропалую, до потери сознания. Болезнь времени охватила всех. Болезнь времени! – это клише было у всех на губах, у всех, охваченных смятением, понимавших свою временность.
Вместе с безумным расточительством шагал голод, морозы и огромная безработица. По улицам шагали длинными рядами люди, с серыми лицами, и красные знамена в их руках пророчествовали страх и ужас. Участились покушения на лидеров. Гнев и злоба вздымались вулканической лавой. К этим демонстрациям присоединились Эрвин и Герда. Они сделали себя посланцами бедности, и выступали с уличных трибун против богатства, которое расцветало и бесчинствовало.
В доме Леви со страхом следили за поведением первенца. «Юноша страдает болезнью времени», с тревогой качал головой господин Леви. Времена катили наводнением, бурными водами обступая дом, но не могли свалить эту скалу, стоящую в тени каштанов. Лишь Гейнц пробивал расщелину в этой скале, внося вихри тех дней и дух буйствующего огромного города.
В конце концов, деду удалось поговорить с внуком.
– Эй, дорогой внук, – гремел дед, – мы желаем с вами побеседовать как мужчина с мужчиной. Чем ты занимаешься все ночи? Завел себе маленькую подружку?
– Я не обязан давать отчет о моих делах, – кричал Гейнц, – молодое поколение имеет право жить, как оно хочет.
– Слушай, парень, – отвечал дед, – я не люблю, когда мне подают тарелку супа без супа. Это выводит меня из себя. Говори по делу, чем ты занимаешься ночами?
И Гейнц рассказал деду все – о городе, о себе. Когда закончил, встал дед со своего места, покрутил усы, похлопал внука по плечу и сказал:
– Ничего страшного. Все в порядке. У каждого периода свои сумасшествия. Но философия? Не понимаю, зачем ты учишь философию?
– Почему бы нет. Человек должен понять жизнь.
– Уф! – Дыхание деда вдруг стало коротким. – Два философа у меня в семье, два моих продолжателя, два сына. Еще одна такая беда, и я сойду в преисподнюю.
– Дед, ну, о чем ты говоришь?
– Что ты скажешь, Гейнц, о человеке, который выходит на улицу во время бури и там играет на скрипке? Не скажешь ли, что это дурак? Твой отец мог все время сидеть в стенах своего дома и музицировать на скрипке, сколько душе угодно. Дни были тогда спокойными и безмятежными, дорога была прямой и гладкой, и не было опасности, что он споткнется и упадет. Благодаря мне и моим деньгам. – Дед сделал паузу, сдерживая наплыв слов. – Теперь время иное, внук, старая моя голова кружится от всех этих слов и новостей, сыплющихся в воздухе. И не в высших сферах философии, а в мутной долине реального мира – синдикаты, картели, монополизация. Черт его знает, что. В общем, Гейнц, фабрика в опасности. Возможно, что мы не сможем ею управлять привычными доселе методами. Пока ты еще молод, переходи в высшую школу бизнеса и торговли, изучи все для общей нашей пользы, и я надеюсь, что польза от этого будет и для государства.
– Я не хочу быть торговцем, дед.
Лицо деда стало серьезным.
– Во имя существования семьи, дорогой мой.
Гейнц продолжал отрицательно качать головой.
– Уф! – Уронил дед, сделал безнадежный жест рукой, и сказал, почти с любовью. – Я верю в силу разума членов нашей семьи. Ведь ты кровь от моей крови.
И дед был прав. Когда умерла госпожа Леви, Гейнц внезапно посерьезнел, послушался совета деда и отца – записался в высшую школу бизнеса и торговли.
* * *
Много дней прошло с тех пор. Гейнц вглядывается в письмо Эрвина, смотрит в окно, за которым ветер в сером полусумраке гоняет пригоршни дождя. Снова встают перед его глазами волны Шпрее и радостное лицо Эрвина. Письмо дрожит в его руках. По стеклу окна дождь катит бесконечные струи. Гудки подают однотонные въедливые голоса. Гейнц очнулся от воспоминаний. Обеденный перерыв на фабрике. Во дворе усиливается движение. Из разных зданий, из боковых шоссе, текут потоки рабочих к центральному шоссе, сливаясь в огромную людскую реку. Дождь бьет им в спины, ветер вздувает пальто, походка их быстрая и решительная. Длиной очередью выходят литейщики из литейного цеха, среди них Хейни сын Огня, на плече его сумка с термосом, а в руке пустой деревянный сундучок. Хейни несет сундучок в гараж мимо окон Гейнца, садится на него, и прислоняется спиной к борту машины, открывает сумку, аккуратно достает из нее белую салфетку, расстилает на задымленных своих штанах. На салфетке Хейни раскладывает свой обед – большие ломти хлеба, соленый огурец и подходящую ему по размерам жестяную банку. Хейни начинает есть. Откусывает хлеб, тяжело пережевывая его, так, что все мышцы лица участвуют в этом процессе. Между откусываниями, Хейни высоко поднимает банку и пьет большими глотками, переливающимися в горле. Хейни ест с большим аппетитом и душевной отдачей. Гейнц стоит у окна и смотрит на трапезу Хейни, словно является стражем его хлеба. Обедающий Хейни и его обед – дневное развлечение Гейнца. День за днем Хейни в один и тот же час приходит есть свой обед перед окном Гейнца. В жаркие дни он сидит на скамейке, около каменой жабы, а в дождливые дни – в гараже, около машины. Раздаются гудки. Тут же Гейнц возвращается к окну, взглянуть на обеденную процедуру литейщика Хейни.
Его заинтересовал этот огромный рабочий, большие руки которого обхватывают ломоть хлеба, и покрытый копотью рот жует его с большим наслаждением. Гейнц ощущал уколы в желудке и пустоту в голове при виде этого. Никогда он не видел человека, которой ест с такой страстью и удовольствием, и это вызывало у Гейнца скрытые боли какой-то странной зависти. Наконец он не выдержал и решил узнать имя этого рабочего. «Хейни сын Огня», – сказали ему. На фабрику пришел еще юношей, был подручным, но очень скоро выделился в работе. Он истинный мужик, силен, как бык. Владеет огнем и пламенем, как никто другой. «Из красных?» – спросил Гейнц. «Нет», – ответили, – политикой не занимается, партии его не интересуют. Хейни этот – «Пустое место». Однажды он не пришел на работу. Подошел Гейнц к окну, а Хейни нет. Гейнцем овладело беспокойство, даже страх. Ведь Хейни и фабрика были повязаны, как копоть и огонь. Тут же побежал узнавать, в чем дело. «У него ребенок умер», – сказали. Хейни пошел его хоронить. На другой день Гейнц увидел его сидящим на скамье, с наслаждением пьющим и закусывающим. Послал за ним. Решил выразить соболезнование. Стоял Хейни посреди кабинета, и лицо его не было опустошенным от горя, а просто ничего не выражало. Крутил шапку в пальцах и на вопросы хозяина мямлил что-то непонятное. Не надо так сильно переживать… у него, слава Богу, еще дети. И еще, с Божьей помощью, будут. Гейнц спросил его, почему он предпочитает обедать за столом во дворе фабрики, а не присоединяется к коллегам на обед в фабричной столовой? Хейни забеспокоился, что хозяин запретит ему обедать во дворе, и стал еще сильнее мямлить, объясняя Гейнцу, что делает это из экономии. Живет он далеко, в самом центре города, жена его Тильда и он стремятся дойти до более высокого уровня жизни, а это сделать в наши дни нелегко. Гейнц спросил, какого Хейни возраста. Оказалось, родился в тот же месяц и год, что и Гейнц. С этого момента усилилась тяга Гейнца к этому рабочему. И, поглядывая на него через окно, вел с ними долгую немую беседу. И казалось ему, что это он сидит во дворе. «Хейни – пустое место», – бормотал Гейнц, – пустое, как и я. Мы одногодки, оба – пустые места. И этот немой диалог длился изо дня в день. Гейнц обращался к литейщику Хейни, словно к собственной душе.
Сегодня Гейнц смотрит на Хейни сквозь завесу дождя. Ни дождь, ни ветер, не в силах помешать его трапезе. Обрушится мир, а Хейни не сдвинется, не шевельнется, – обеденный час – дело святое! Гейнц не отрывает от него взгляда, в руке у него дрожит письмо. «У Эрвина и Герды родился сын! А я остался без ничего». Пуст, пуст – стучит дождь. Хейни пуст и Гейнц пуст. Конечно же, я поздравлю Эрвина и Герду. Любопытно увидеть Герду матерью, а Эрвина – отцом. Помирюсь с ними, последняя наша встреча не была приятной. Много лет назад. Однажды я нашел имя Эрвина на одной из листовок. Он должен был выступить на собрании рабочих. Я пошел туда, все еще не мог забыть Герду, вычеркнуть ее из своего сердца. Шел я по незнакомым, долгим и чуждым мне улицам, вдоль бесконечных шеренг серых домов и тротуаров. Дошел до кинотеатра. Рабочие шли туда толпами со всех сторон. На стене висела реклама – фильм «Зависть»: усатый мужчина страстно целовал женщину. В зале кинотеатра выступал Эрвин. Я снял галстук и вошел. Зал был забит до отказа, может, и ты, Хейни там был? Ведь ты как я, пустое место, Я протолкнулся до первого ряда, стоял почти лицом к лицу с Эрвином. Он стоял на сцене, в кожаном коричневом пальто, штанах для верховой езды и черных сапогах. Стоял, как всадник без коня. Говорил с большим волнением. Где-то был убит рабочий. Я об этом не знал, в те дни я почти не читал газет. Речь Эрвина кружилась вокруг одного предложения, к которому он все время возвращался – «Ужас шествует по улицам». Он выкрикивал эти слова, и кулаки его сжимались. Больше я ничего не слышал. Герда тоже была там. Я видел ее в профиль, и когда Эрвин сжимал кулаки, ее кулаки тоже сжимались. Это единство их откликалось во мне болью. Герда сильно изменилась, перестала быть добродетельной, как раньше. Я вспоминал позолоченный крестик у нее на шее. Я жаждал вернуть его на место, вернуть ее, жаждал до такой степени, что не мог успокоиться. Когда Эрвин завершил речь, я подошел к ним, что-то там говорил, оскорблял, насмехался над ними. Боль и страсть обострили мой язык. Пока Эрвин не протянул мне руку на прощание. Мол, расстанемся по-доброму и больше не встретимся, чтобы полностью не была уничтожена память нашей прекрасной юности. С тех пор я больше их не видел. С тех пор не мог вспомнить его имя без того, чтобы в ушах не звучали его слова – «Ужас шествует по улицам».
Гейнц прижимает лицо к оконному стеклу. «Я весь горю, как будто охватила меня лихорадка. У Эрвина и Герды родился сын в этом страшном мире, Эдит беззащитной вышла в этот мир. Фабрика борется за свое существование. Вокруг – ужас. И я предстал перед этим миром, как пустой сосуд. Пустое место, как мой Хейни, но без его зверского аппетита, без его мышц, без удовольствия, без ничего! Слышишь, Хейни? Я и ты – мы, тезки, оба Генрихи, оба – пустое место». В гараже Хейни закончил свою трапезу, аккуратно складывает белую салфетку и возвращает в сумку, собирает крошки со штанов и швыряет их в рот. Подгибает под себя ноги, прижимает голову к борту машины, погружается в короткую дрему. Рот его раскрыт, огромные черные руки отдыхают на коленях. Гейнц стоит у окна, охраняя покойный сон Хейни. В кабинете стучат часы. Идет дождь, слабые звуки радио приходят из квартиры охранника. «Надо послушать сегодня новости. Ходят слухи, что правительство собирается передать важное сообщение».
Но Гейнц не подходит к радио, а все следит за Хейни, держа в руке письмо.
Ужас, ужас… кричал он тогда, словно хотел разбудить мертвых. Надо сохранить фабрику, увеличить ее, расширить. Ужас шествует по улицам. И только богатство дает безопасность. Вечером он пойдет на встречу с Функе. Встреча с ним должна предшествовать встрече с Эрвином и Гердой. Да, ужас… Быть может Эрвин пророк, не знающий, о чем пророчествует. Эмиль Рифке! Каприз Эдит еще спасет нас… Глупости! Не буду искать защиту под прикрытием ножей этих мясников. Дом мой еще существует, дом всех наших поколений. И дом этот существует благодаря фабрике. Если она замолкнет, замолкнет и дом. Бог мой! Я же обещал отцу быть к обеду. Нет, не вернусь домой. Не расположен я сейчас к серьезным разговорам. Позвоню, скажу, что занят. Пойду праздновать рождение сына у Герды. «Праздновать!» – Гейнц смеется. «Поеду к Марианне. Уважаемый отец, хотел бы я видеть свет твоего лица, когда я подниму к тебе трубку и сообщу: отец, я еду к Марианне. Ее я купил за весомую цену. Она дорого продается, уважаемый отец. С тех пор, как ушла Герда, я знаюсь только с продажными женщинами. Сегодня вечером я выйду на покупку новых друзей. Они также дорого продаются. Но они обещали мне защиту фабрики и дома, а тебе – твой покой и верность твоим жизненным принципам».
* * *
Снова подают голос гудки. Закончился обеденный перерыв. Хейни первым пересекает двор в сторону литейного цеха. У входа он останавливается и обращает лицо к дождю, словно хочет получить благословение, прощаясь с дневным светом. Рабочие длинными шеренгами текут в ворота, возникают между домами. Литейщики исчезают в темном зеве литейного цеха. Фабрика возвращается к деятельности. И снова хаос, суматоха, беготня во дворе. Трубы выбрасывают клубы дыма, скрежещут краны, огромный молот гремит, вздымая кувалду. Гейнц остается у окна. Смотрит на лихорадку работ; нельзя, нельзя, чтоб все это замерло!
Глава шестая
В общем-то, улица не привлекает внимания. Трамваи здесь не проходят. У больших автобусов здесь нет остановок. Улица боковая, дома обычные для большого города, высокие, серые, запыленные. В них живут рабочие, мелкие торговцы, народец, зарабатывающий на жизнь трудом своих рук, но с честью. И все же эта скромная улица известна по всему городу, да и по всей стране. Среди этих серых домов скрыто здание еврейской общины. В утренние часы на улице много шума и движения. Евреи собираются со всего города – из еврейского квартала и кварталов богачей, в дорогих и простых одеждах, молодые и старики, матери и отцы, бородатые с ермолками на головах, без головных уборов, бритые. Евреи с чемоданами в руках приезжают из маленьких городов. Толпятся в воротах серого дома, входя и выходя. Сидят на скамьях вдоль длинных коридоров. Беседуют друг с другом о бурных и мрачных событиях в их жизни. Эти скамьи объединяют многих и разных с их различными делами: проблемами религии, налогов, разводов и обручений, похорон и обрезаний, советами в поисках работы. Но в последнее время прибавились новые дела: судебные тяжбы по поводу оскорблений, незаконных увольнений с работы лишь по одной причине – еврейского происхождения, просьба совета в связи с обанкротившимся делом и заработками, которые уменьшаются день за днем. На столе Филиппа – горы папок с жалобами. После победы нацистов на выборах, страну буквально смял вал издевательств. В небольших городах Пруссии, окруженных крестьянскими селами, возбужденными подстрекательством, банды хулиганов сожгли синагоги маленьких беззащитных еврейских общин. Когда этих бесчинствующих молодчиков привлекали к суду, Филипп ездил, как обвинитель со стороны евреев.
Послезавтра ему предстоит такая поездка в один из прусских городов. Пока в стране еще существует закон и порядок! Филипп иронически улыбается и закрывает одну из папок. За окном – непрекращающийся упрямый дождь. Филипп не очень хочет ехать. «Справедливый приговор» постоянен. Пьяные хулиганы отделываются штрафом, и спесивый судья цедит слово «евреи», словно выплевывает ядовитую таблетку, дружески подмигивает вожакам хулиганов, сидящим на скамье подсудимых. А после суда… ты покидаешь судебный зал в сопровождении уважаемых членов общины, что «выиграли» тяжбу. Идешь с ними по улочкам этого городка. Из окон выглядывают с презрением враждебные лица, детки свистят и сопровождают вас ругательствами. Идешь по улицам, кривым от старости, и вдалеке вздымаются зубцы развалин стены и башни рыцарских времен Пруссии. В старом колодце шуршит ветер, словно рассказывает историю дней старины, когда этот колодец был отравлен евреями. И ты ощущаешь, с каким вниманием жители городка прислушиваются к этому шороху. С тобой рядом шагают евреи, лица которых изрезаны и подавлены тревогой, ведут они тебя к сожженной синагоге, старому зданию, почерневшему от огня, такому же древнему, как старинные башни. Рядом с синагогой кривой покосившийся дом местного раввина. И снова ощущение, что ты остолбенел от страха, стиснут и зажат крыльями мыслей о будущем. Евреи рядом с тобой, «выигравшие» суд, простирают руки к обгорелым стенам.
– Погромщики вернутся. Они не будут наказаны. Это что, был суд? Надо бежать отсюда, пока еще есть время.
– Бежать? Куда? – спрашивают в изумлении. – Человек оставит свою страну, свою родину, могилы предков?