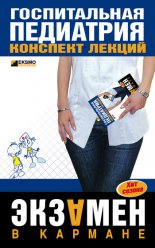Смерть отца Френкель Наоми

– Ты снова начинаешь?
– Нет-нет. Чего нам ссориться? Погляди, эти, там, – парень показывает на выстраивающихся в ряд мужчин, собирающихся покинуть ресторан.
– А этот, там, – Иоанна чуть приближается к собеседнику и шепчет, – карлик среди высоких мужчин, тот, которого называют граф Кокс, он действительно граф?
– Граф, граф, – первенец всеми силами пытается сдержать смех, но это ему не удается.
– Снова ты ржешь, как дурак?
– А ты, а ты… Ха-ха! Откуда ты такая, что ничего не видишь и ничего не понимаешь? Граф! У него одиннадцать сыновей, и все такие высокие ростом, а он расхаживает между ними, как полководец, и кличка у него – Кокс… Ты что, не знаешь, что это – Кокс?
– Конечно, знаю, это такой сорт угля.
– Угля, угля! Ребенок! Есть у этого слова и другой смысл.
– Какой?
– Лучше тебе не знать.
– Почему?
– Ты наивна, и не стоит тебя портить.
– Стоит!
Первенец Нанте и Каролины смеется, а Иоанну просто изводит любопытство.
– И граф тоже такой? – пытается она выпытать у него еще что-нибудь.
– Граф? – румяное лицо Бартоломеуса расплывается в улыбке, – нет, граф не такой, как они, он другой. У него учатся многому.
– Что я вижу! Поглядите, братья, мой сын и смуглая девочка секретничают в углу! Бартоломеус, я бы на твоем месте не выбрал именно эту, такую смуглую и тощую.
С явной приязнью дергает Нанте Дудль Иоанну за косички и подмигивает своему первенцу. В ресторане воцаряется тишина. Глаза всех обращены к дверям. Там, за спиной Нанте, стоит граф. Высокого роста, одет в черное. И шляпа его черная, но под ней белеет бледное его лицо. Он чихает несколько раз, громко, до слез в глазах, вытирает нос.
– Он болен, – шепчет Бартоломеус Иоанне, – каждую весну нападает на него такая вот болезнь, называют ее, кажется, весенней лихорадкой.
– Вот она, – гремит голос Нанте Дудля, – эта вот, смуглая уродина, принесла письмо.
– Ты кто? – протягивает граф руку покрасневшей девочке.
– Иоанна Леви.
– Из семьи Леви?
– Да.
– Очень приятно. Когда я жил на площади, у своей тети, ты еще не родилась. Тогда в вашем доме все были светлоглазые и светловолосые.
– Да, я единственная брюнетка в семье, – тихо оьвечает Иоанна.
– Смуглая и красивая, – доброта слышится в голосе графа, и Бартоломеус улыбается.
Приступ кашля снова нападает на графа, он прячет нос в платок, извиняясь перед Иоанной. С жалостью смотрит Иоанна на простуженного графа. Несмотря на воспаленные глаза и красный нос, он кажется Иоанне очень красивым.
– Пошли, – граф кладет руку на ее плечо.
«О, Сюзанна, прекрасна наша жизнь!» – наигрывает вертящаяся дверь.
На улице Рыбаков солнечно смеется день. Празднично одетые люди опираются о парапет, тянущийся вдоль реки. Дети играют деревянными палочками, к которым прикреплены длинные бечевки, и ударяют ими по подпрыгивающим и вертящимся волчкам. Воробьи скандалят на деревьях, солнце вселяет хорошее настроение, легкий ветерок поигрывает волнами реки. Граф поднимает воротник пальто и прячет в него лицо.
– Я хожу в весенний день и пускаю слезы, – шепчет он.
– Это не очень приятно, – соглашается Иоанна и скользит рукой по парапету.
Граф ростом выше всех этих людей, греющихся на солнце вдоль реки. Он широко и энергично шагает, и Иоанна семенит рядом, как дрессированный воробей.
– Это Урсула принесла письмо к вам в дом? – склоняется граф над Иоанной.
– Нет, господин, письмо она дала мне в доме принцессы.
– Так ты была в доме моей тети? Ты с ней сблизилась в последние годы?
– Нет, господин, никакого общения с ней у меня не было. Я впервые была в доме «вороньей принцессы», только сегодня…
– Извини, как ты назвала мою тетю?
– Господин, – Иоанна кусает губы и краснеет, – извините меня, мы ее так всегда называли – «воронья принцесса», она всегда ходила в черном, и каждый день приходила к озеру кормить ворон.
– Черная воронья принцесса. Да, да, – бормочет про себя граф. – Дети всегда ближе к правде. – Граф гладит девочку по голове, и от этого приятное ощущение разливается по всему ее телу.
Они проходят мимо лодочной пристани, по деревянному, наклонно раскачивающемуся над водами Шпрее мостику. Около моста старое высоченное толстое дерево, больное и наполовину мертвое. Как огромный костистый скелет, протягивает оно суковатые свои пальцы. И на редких его ветвях, склоненных над рекой, зеленеют остатки игольчатой хвои. Старики сидят на больших камнях под деревом, грея кости на весеннем солнце. На мосту стоят старые ржавые бочки из-под горючего. К железным столбам, торчащим из воды, привязаны небольшие лодки, и волны немолчно ударяют в их борта.
– Забыл твое имя, детка, – вдруг встрепенулся граф.
– Иоанна.
– Иоанна, гмм. Был у меня друг по имени – Иоанн. Иоанн Детлев.
– Я знаю. Видела его портрет.
– Ты хорошо сделала, что принесла мне письмо, Иоанна, – граф продолжает гладить Иоанну по голове.
– Ничего особенного в этом нет, не стоит благодарности, господин, – бормочет девочка. И хочет она объяснить ему, что значит – быть «помощником, на которого можно положиться», но вовремя прикусывает язык. Несомненно и он, как все, будет смеяться, если она начнет рассказывать о Движении. Не хочет она, чтобы он смеялся над ней, и охватывает ее большой стыд, что она из-за графа как бы отрекается от Движения.
– Кто сейчас в доме тети, Иоанна, одна Урсула?
– Нет, наш садовник тоже там.
– Ваш садовник? Я его хорошо помню. Я отлично помню всех членов вашей семьи. Гейнца, Эдит, девушек. Все, думаю, уже обзавелись семьями, детьми.
– Нет, у Эдит есть жених, а у Гейнца нет никого. Но родился у нас еще один по кличке Бумба. И сегодня у него день рождения.
– Вижу, в вашей семье все идет, как надо. А как здоровье твоей красавицы матери?
– Мама моя умерла, – Иоанна опускают голову над перилами, глядя на волны Шпрее, набегающие на дерево, прибавляя к зелени хвои голубизну неба и металлический оттенок вод.
Старый Берлин и лодочная пристань – за их спиной. Гигантский стальной кран высится над рекой. Вдоль берегов тянутся длинные приземистые складские помещения. Вымытые чистые пароходы и большие грузовые корабли плывут по реке.
Нос Иоанны прижат к стеклу вагонного окна. Есть, что видеть и на что смотреть сегодня! Стены серых домов воспламенены алыми буквами, багрянцем флагов и лозунгов. Большие картины и плакаты на оконных карнизах. Город Берлин вышел на предвыборную войну по избранию президента страны, и по шуму и цветистости стен, лозунгов и флагов кажется, что весь город охвачен карнавалом.
Огромная картина встает перед глазами Иоанны – «Против Версальского договора!» – провозглашает лидер коммунистов Тельман в знакомой своей кепке. Свободы и хлеба! – вопит стена красными буквами. Из ветхого трактира торчит красный флаг с фашистской свастикой. С выброшенной вверх рукой стоит фюрер, приклеенный к дымовой домовой трубе. У ног его опять же вопят буквы – «Против Версальского договора! Да здравствует Адольф Гитлер! Долой власть евреев в государстве!» – гремит лозунг, перекатываясь от окна к окну. Гинденбург с искаженным от гнева лицом мелькает над крышами городских зданий.
– За кого господин голосует? – спрашивает графа Иоанна.
– Извини, Иоанна, что ты спросила?
– За кого вы голосуете?
– А-а? За кого я голосую? – улыбается граф. – Я не из тех, кого интересуют избирательные урны.
– Это плохо! – сердится в голос девочка.
– Что плохо, детка? – продолжает улыбаться граф, глядя на ставшее весьма строгим лицо Иоанны. – Что тебя беспокоит?
– Беспокоит, что вы не идете голосовать! Каждый индивид обязан отдать долг во имя коллектива! – Иоанна повышает голос до того, что сидящий за ними мужчина поворачивает голову к ораторствующей девочке.
– Где ты учишься такой языковой патетике? – удивленно спрашивает граф.
Если граф так не смеялся, Иоанна рассказала бы ему о Движении, и беседах на тему важности выборов президента государства. Но шутливое выражение лица графа не располагает ее к откровениям, и она ограничивается репликой:
– Есть такие, которые научили меня.
Мужчина за их спиной шелестит газетой «Ангриф», издаваемой Гитлером. Напротив него сидит парень, на лацкане одежды которого значок коммунистического спортивного общества.
– Прошу вас, молодой человек, уберите ноги. Скамья не только для вас одного, – выговаривает владелец шелестящей газеты парню, сидящему напротив.
– Прошу прощения, – смеется парень громким задиристым смехом, – я вас не видел из-за этой вашей газеты, – как бы подчеркивая этим – мол, не заметил, что наступил вам на мозоль, – и громкий его смех разносится с одного края до другого края вагона. Лица всех поворачиваются ним.
– Наглость! – кричит мужчина из-за страниц газеты.
– Он прав, – шепчет Иоанна своему графу.
– Кто прав? – спрашивает граф. – Этот господин, которого оттеснили?
– Этот? – вскидывается Иоанна. – Да он же читает «Ангриф». Как он может быть прав. Он же нацист.
– Детка, справедливость и прямодушие – отдельно, а политика – отдельно.
Поезд останавливается. Парень выходит из вагона сильными мужскими шагами.
– Еврейская собака! – бросает ему вслед владелец газеты.
– Я… – лицо Иоанны багровеет, она почти рванулась в сторону мужчины, но граф хватает ее за косички и возвращает на место.
– В какой ты учишься школе, Иоанна? – спрашивает граф.
– В гуманитарной гимназии имени королевы Луизы, – все еще сердитым голосом отвечает Иоанна.
– Поглядите, – удивляется граф, – в гимназии имени королевы Луизы? А я учился в параллельной мужской гимназии имени кайзера Фридриха Великого. Иоанна, все еще доктор Гейзе преподает вам греческий язык?
– Нет! Доктор Гейзе наш директор. И к тому же он друг моего отца.
– Интересно.
– Что тут интересного?
– Доктор Гейзе был моим любимым учителем, – словно бы самому себе говорит граф.
Поезд останавливается на центральной станции города, откуда рельсовые пути разбегаются во все стороны. Перроны черны от люда. Открываются двери вагонов, и мгновенно налетает шум голосов, шарканье ног и толкотня. Мужчины в зеленых куртках, с широкими подсумками на боку, врываются в вагон. На фуражках – значки республики. У одного из мужчин в руках свернутый флаг. Они собираются в тамбуре вагона, оставляя скамейки вагона пустыми. Поезд трогается с места, и все вместе начинают петь в ритм движущихся колес. Трудно разобрать текст, кроме одного слова – «Республика! Республика!» – эта рифма завершает каждый куплет. Иоанна вперяет в группу сердитый взгляд, и даже приподнимается, чтобы лучше их видеть.
– Что случилось, Иоанна? – с беспокойством спрашивает граф. – Почему ты опять сердишься?
– Из-за Гинденбурга.
– Из-за кого?
– Гинденбурга. Представляют себя поклонниками республики, а голосуют за старого кайзеровского генерала.
– Но, Иоанна, ты ведь знаешь, что генерал верный страж республики.
– Это не имеет никакого значения, – голос Иоанны становится еще более сердитым, – вы, верно, не читали книгу Фливьера «Кайзер ушел, а генералы остались».
– Нет, – говорит виновато граф, словно пойманный за нарушение, – не читал.
– Интеллигентный человек обязан прочесть эту книгу, – голосом дрессировщика произносит Иоанна.
– Гром и молния! – вырывается у графа выражение Нанте Дудля. – Кто тебя учит всему этому?
Нос Иоанны опять прижимается к стеклу окна. Огромный плакат вопит в лицо Иоанны со стены – «Мы не являемся пушечным мясом Круппа!». И она абсолютно с этим согласна. Поезд летит. И снова станция, и снова поезд вырывается из сплетений вокзала и грохочет по рельсам. Теперь сады сменили вдоль железнодорожного пути прежние серые дома.
– Приехали! – встает Иоанна. – Станция «Зоопарк».
Вместе с ними вагон оставляет группа в зеленых плащах.
Они на широком проспекте. Разные дороги ведут с этого проспекта в глубину мегаполиса. От вокзала проспект прямо ведет к роскошной церкви. Свистки паровозов сливаются со звоном колоколов, лязгом несущихся трамваев, гулом автомобилей и шарканьем огромных людских масс. По обе стороны проспекта – многоэтажные дома, и вдоль тротуаров клены простирают свои купола поверх сплетений электрических проводов, натянутых и напряженных ночью и днем.
– Фу, – говорит Иоанна, – поглядите – сколько здесь знамен со свастиками.
– Иоанна, – выговаривает ей граф, – ты не можешь ни о чем думать, кроме этих выборов? Обрати внимание и на другие вещи.
– На что мне обращать внимание?
Рядом с ними шумное собрание людей в зеленых плащах. Над ними развевается трехцветный флаг – черный, красный, золотой.
– Глядите, они идут туда, – указывает Иоанна на огромное здание кинотеатра. Вместо портретов кинозвезд, висит гигантский портрет Гинденбурга, который топорщит усы в сторону прохожих. Масса людей движется в сторону кинотеатра. Граф тянет Иоанну на противоположную сторону улицы, к воротам зоопарка. Колоссальной величины деревья выглядывают из-за его забора. Лебеди плавают по маленькому озеру, тонкоствольные клены и березы покачивают ветвями, а между ними высеченные из камня небольшие животные кажутся хранителями этих волшебных пространств. На воротах большие часы, а под ними – маленькие, минутные. С каждой уходящей минутой в беззвучном ритме меняется табличка на циферблате. И так они, одна за другой, исчезают в бесконечности времени, с аптекарской точностью считая минуты год за годом.
– Надо поторопиться, – говорит граф, глядя на часы, отсчитывающие минуты. Это впервые граф намекает на цель их похода.
Каждый раз Иоанна удивляется заново: сколько надо ждать, чтобы прошла минута. Вот она и прошла, и граф тем временем исчез. Сейчас он стоит у доски объявлений. «Общество любителей Гете» объявляет о начале нового сезона мероприятий в «год Гете», который откроется через неделю, 22 марта, в столетие со дня смерти великого поэта. В эти дни состоятся собрания, лекция и выставки, которые почтят своим присутствием уважаемые граждане города, мэрия объявила конкурс скульптур – к воздвижению памятника поэту в центре столицы. Граф одиноко стоит перед доской объявлений. Из потока людей, снующих во всех направлениях по улице, никто не присоединяется к нему. Есть еще достаточно много, на что можно смотреть на берлинской улице, кроме объявления «Общества любителей Гете». Рекламные пузатые тумбы вдоль улицы притягивают взгляд афишами, фотографиями, цветными картинками. Целые развернутые свитки опоясывают их округлые бока. Глаза голодного ребенка, сапог, раздавливающий головы, жерло пушки, наставленное на толпу, человек с горбатым обвислым носом и пухлыми мешками денег в руках, полными монет. Знак свастики угрожает ему. Тельман, Гитлер, Гинденбург присоединяются к этой общей кричащей картине большими цветными портретами. Телефонные и электрические столбы, все, что торчит и вздымается, включая шеренгу кленов, – участвуют в этой суматохе букв и картин.
– Вы читаете объявление о любителях Гете? – Иоанна подходит к графу. – Мой отец тоже член этого общества. Видите имя доктора Гейзе! – указывает Иоанна на список уважаемых граждан города, которые почтят своим присутствием мероприятия праздника.
– Да здравствует Адольф Гитлер! Граждане. Отдавайте ваши голоса Адольфу Гитлеру! – оглушительно орет репродуктор с движущейся машины. Штурмовики в форме замерли в кузове по стойке смирно. Машина движется медленно, и шуршание знамени рассекает воздух улицы. Массы людей замирают шеренгами вдоль улицы в почтении к движущейся машине.
– Отдайте ваши голоса Адольфу Гитлеру! – море рук вздымается вверх и рев заглушает голоса животных в зоопарке.
– Адольф Гитлер! – ревет репродуктор.
– Вы думаете, они победят? – испуганно спрашивает Иоанна.
– Надеюсь, что нет.
Машина движется по улице и возвращается, минуя гневный портрет Гинденбурга на фасаде кинотеатра, перед которым стоит группа в куртках и рвет глотки стараясь заглушить орущий репродуктор. И масса с воодушевлением участвует в этом споре. В стальных касках, прикрепленных к лицам кожаными ремешками, полицейские отделяют шумную группу в куртках от еще орущей машины. Полицейские на лошадях наступают на машину.
– Проезжать! – приказывает офицер полиции, и в ответ – залп листовок накрывает толпу. Взлетают листовки на ветру, падают на тротуар, люди торопятся их поднять. С наглостью пробирается машина между аплодирующими шеренгами.
Когда они добрались до площади, ожили мертвые глаза графа. Опустил он воротник пальто и потер покрасневший нос, стараясь вдохнуть аромат весеннего воздуха. Оперся о забор дома умирающей тетушки, глядя на игры ворон на солнце: верно, потомки тех ворон, которые орали здесь в дни юности у окон его комнаты. Тишина на площади столь глубока, что шорох деревьев и чириканье птиц кажется оглушительным. Здесь окраина столицы, ни один флаг не развевается на ветру, никаких криков, никаких плакатов на столбах и на стенах.
– Зайду в дом, – с трудом говорит граф, ибо новый приступ кашля от весенних ароматов одолел его. Прижав платок к носу и кивнув в сторону Иоанны, он входит в ворота дома, но внезапно останавливается, поворачивает лицо и возвращается.
– Иоанна, – он берет ее за косички, она печально смотрит на него, – забыл тебе сказать. Когда я вернусь туда, в мой дом в старом Берлине, приходи проведать меня. Я покажу тебе интересные вещи, ладно?
Движением головы она выражает согласие. Хочет сказать ему, что пойдет с ним в дом умирающей принцессы, и все время будет рядом с ним. Но в проеме двери стоит Урсула с весьма сердитым лицом.
Дверь закрывается дверь за Урсулой и графом с сердитым стуком.
Глава вторая
– Уважаемый господин, фотограф пришел!
Это возвестила молоденькая румяная служанка Кетхен гостям, собравшимся отпраздновать день рождения Бумбы.
Праздник в разгаре, и нет более подходящего красивого дня для такого события. Воздух ослепителен, небеса по-новому обрели голубизну, все окна распахнуты, и занавеси развеваются на весеннем ветру, разгуливающем по комнатам. На ветках каштанов, на аллее, раскрылись почки, и кипарисы взметают ввысь свою сверкающую зелень.
– Уважаемый господин, фото… граф пришел!
Кетхен в проеме двери, вся выглаженная, сияет белизной, она выпевает свое сообщение, и нога незаметно, под платьем, выстукивает ритм мелодии, доносящейся из столовой. В распахнутые настежь двери видит Кетхен со своего места фортепьяно, а за клавишами красотка Марго наигрывает мотив танцующим парам.
– Ах. Господи-и-ин, фото-о-о-граф прии-и-шел!
Напев обращен к деду, но он его не слышит. Дед скрыт в проеме окна и погружен в беседу с одним из гостей. Между развевающимися занавесями видны знакомые фигуры, словно представленные вместе в этот миг перед тем, как выйти на сцену. Дед высок и худ, прям спиной, пышные усы расчесаны и стоят торчком, а в петлице неизменный цветок. С высоты своего роста смотрит он на седую растрепанную шевелюру собеседника, низенького, с большим брюхом, явно страдающего недержанием речи, направленной в сторону деда.
Это Арнольд Вольф, младший брат доктора Вольфа, домашнего врача дома Леви. Ему, в отличие от брата, не повезло, у родителей не было средств, чтобы и его учить в университете на врача, как их первенца. Но Арнольд этим не был огорчен. Продажа вин, которой он занялся, принесла ему большое богатство и была успешным предприятием вплоть до самого начала Мировой войны. После нее пришли плохие годы. Арнольд Вольф обанкротился. Тогда он открыл в центре города большой магазин женских принадлежностей, в котором продавались в том числе тысячи видов пуговиц. Почему именно для женщин? Ибо воистину верил в успех у прекрасного пола. Но ошибся и вторично стал банкротом, и от магазина у него лишь осталась фотография, где он стоит перед витриной и над ним весьма впечатляющая вывеска «Посылки товара во все части света!». После вина и пуговиц он переходил в поисках заработка с места на место, но всегда конец был один – банкротство. Низенький Арнольд Вольф считает, что не виновен в своих несчастьях, а виновно само неудачное время.
Но вовсе не так думают окружающие родные, близкие и друзья. И прозвали его – «вечный банкрот». Теперь он занимается разными весьма странными делами. На своем небольшом автомобиле разъезжает по ближним селам и продает крестьянам предметы парфюмерии. И так как ему нечем заниматься, он отслеживает дела крупных дельцов, и буквально начинен информацией о мире бизнеса. По этой причине его приглашают в дома крупных бизнесменов, как советчика. Особенно в делах биржи. И не было у него большего удовольствия, чем дать удачный совет и коснуться самых глубоких секретов, связанных с текущим бизнесом.
– Я говорю вам, что эта фирма сегодня на бирже колеблется, – уверенно вещал он. Так стал он биржевым агентом деда, а надо сказать, что дед начал «играть на бирже», и только ради собственного удовольствия, как говорится, всунул голову в это дело. Металлургическая фабрика «Леви и сын» существует и работает. Беспокоиться нет причин, но и нет заказов, способных поднять дух владельца. Дела невелики, как, например, изготовление ванн и чего-то подобного. Гейнц – этот «недостойный сын достойного отца» – доволен тем, что есть, и называет себя «главой банщиков Берлина» и сам смеется над этой явно безвкусной кличкой. Производство ванн – дело уверенное, объясняет он деду, и нет у Гейнца прежней тяги к большим заказам, в которых таится много опасностей. Но дед – о, дед! Не может он довольствоваться малыми делами, как внук его Гейнц. Дед любит напряжение и опасности, любит взмывать к небесам.
– А я говорю вам, – постановляет «вечный банкрот», – фирма «Штерн и сыновья» стоит крепко, положитесь на меня!
– Если так, я не могу положиться на сообщение, которое ты мне принес сегодня.
– Что? Не можете… – рот этого маленького человечка открывается и закрывается, как у рыбы на воздухе, – поверить в сообщение, которое я вам принес? – и он ударяет себя в грудь.
– Нет, – гремит дед без всякой жалости, – пока я не узнаю, что заставляет Штерна продавать семейные акции, я тебе не могу верить.
«Вечный банкрот» печально опускает голову. Речь идет о самом большом предприятии по производству латуни в центре Пруссии, около реки Шпрее, основанной четыре поколения назад семейством Штерн и в течение многих лет владеющим контрольным пакетом акций. А сегодня «вечный банкрот» сообщает деду, что Габриель Штерн, начал продавать семейные акции большим фирмам, производящим латунь, в Англии и Франции, и намеревается вообще оставить дело.
– Ну, почему он продает акции? – говорит дед и смотрит в сад, где легкие и тонкие туманы витают над лужами и тропами.
– Господин, фотограф пришел! – выглаженная Кетхен пробилась к окну.
– Фотограф, – отмахивается дед, – пусть ждет в передней, пока понадобится.
– Но господин, он говорит, что его вызвали к двенадцати часам.
– Подождет, подождет, – теряет терпение дед. – Я же сказал тебе. Пусть подождет.
Шурша передником, Кетхен исчезает.
– Ты говоришь, что акции компании «Штерн и сыновья» выставлены на продажу, – говорит дед в затылок маленькому человечку.
– Все, что я говорю, правда, слово в слово. Все на продажу. Если вы желаете, я могу поинтересоваться этими акциями.
– Сделай это, – говорит дед и вновь обращает взгляд поверх сада, словно видит вдалеке что-то, что видно ему одному. – Гммм… Габриель этот. Я хорошо знал его отца. Провинциальный еврей. В молодости я ездил к нему по делам производства металлов, главным образом, железа. Ходили мы рыбачить на реку Шпрее. Отлично скакал на лошади. Но, поверишь ли, больше любил рассуждать о Боге и религии, чем о стали.
– Поверю, поверю, – говорит «вечный банкрот», стараясь прервать поток речи деда.
– Он брал в контору только евреев, целую общину собрал там, на своей фабрике. Когда вечерело, все сотрудники шли на минху. Всегда было на готове десять евреев для миньяна, – дед смеется от души. – Синагога, а не бизнес. Но мне он жаловался на своего сына Габриеля, считая его авантюристом. И теперь вот сынок распродает семейные акции. Знал бы это старик.
– Авантюрист, – шепчет «вечный банкрот», – абсолютный авантюрист. И нечего этому удивляться. Об этом шепчутся во всех углах, или вы об этом не знаете?
– Что? – Спрашивает дед. – О чем шепчутся во всех углах?
– Говорят, – голос «вечного банкрота» становится почти неслышным, – говорят, что мать Габриеля, жена Ицхака Штерна, который слишком много молился... Йегудит Штерн, дочь из семьи мудрецов и ученых из города Гамбурга…
– Что говорят? – нетерпеливо спрашивает дед. – Что такого говорят?
– Говорят, что Йегудит Штерн в молодости была красавицей и весьма горячего нрава. И когда в тихом и умеренном доме мужа встретилась с другом их семьи, известным врачом…
– Ну, что тогда было?
– Тогда родился первенец Габриель, который сейчас распродает семейные акции.
– А-а, – сердито отмахивается дед, – сплетни, – и глаза его явно враждебно смотрят на собеседника. Дед не любит сплетни такого рода. Он всегда с пониманием относится к человеческим слабостям. И низкорослый гость оскорбленно замолкает.
– Гммм… – возобновляет разговор дед после долгой паузы, – в отношении продажи акций, ты, быть может, первым делом осторожно повернешь с ним беседу в сторону того, чтобы он встретился с моим внуком Гейнцем. Может, в результате такой беседы он захочет взяться за настоящее дело.
– Мне действительно надо это сделать, – опять в лице гостя появляется блеск.
– Мне ведь, кажется, сообщили о приходе фотографа?
– Сообщили, – говорит гость.
– Самое время для фотографирования, – решает дед, глядя на сад, – свет яркий и день чудесный.
* * *
В сумрачном, серьезном зале, где уединяется для размышлений господин Леви, – громкий гул голосов. Почти дюжина бесед ведется одновременно, смешиваясь со звуками фортепьяно, доносящимися из столовой. Кудрявые девицы пригласили на день рождения Бумбы трех длинноволосых парней и двух коротко остриженных девиц. Франц и его друзья-спортсмены, приход которых является большой честью для Бумбы, говорить умеют лишь громко и все разом. Они наполняют дом молодым смехом и легкомыслием. Бумба вертится между ногами всех, и радости его нет предела. Попугай, которого дед тоже принес в подарок, орет, не умолкая: «Я несчастен, госпожа!». Пес Эсперанто сердито подвывает попугаю, и Фрида громким голосом, перекрывающим всех, дает указания служанкам. Среди всего этого гама с безмятежным видом сидит «мальчик из класса», глухой друг деда, и без конца ест соленые баранки.
– Господин, – возникает Фрида в проеме двери, закрывая своим широким телом дорогу деду, и в голосе ее слышатся нотки отчаяния, – я спрашиваю вас, господин, когда и где подготовить стол к обеду, если столовая полна скачущих жеребят?
– Где, где? – заглядывает дед в столовую.
Там сдвинут в сторону стол, и коротко остриженная Марго энергично наигрывает на фортепьяно, а длинноволосый блондин напевает куплеты. Кудрявые девицы танцуют в объятиях еще двух блондинов. Эдит танцует с Эмилем Рифке. В углу сидит Фердинанд с вегетарианкой Еленой, проживающей сейчас в доме Леви и готовящейся стать сестрой милосердия.
– А-а, жеребята, – с большим удовольствием повторяет дед, – пусть себе скачут. – И он убегает от Фриды, посылающей ему вслед поток сердитых слов и тоже бегущей искать спасения у господина Леви, сидящего, как обычно, в кресле в углу и погруженного в беседу с доктором Гейзе и священником Фридрихом Лихтом, ставшим другом семьи благодаря членству в «Обществе любителей Гете». Гейнц стоит за креслом отца и скучным взглядом озирает шумную комнату.
– Господин! Я спрашиваю вас, господин…
– А-а, Фрида, лекарство я уже принял, – Леви неотрывно слушает священника. На лице Фриды – выражение абсолютного отчаяния.
– Могу ли я вам чем-то помочь? – улыбается ей Филипп.
– А, доктор Ласкер, я спрашиваю вас, где можно приготовить обеденный стол?
– Фотограф пришел! – восклицает дед, вернувшийся с фотографом, и движениями рук пытается выпроводить всех из гостевого зала в большую и светлую трапезную.
Дочери заставили отца заплатить уйму денег, чтобы обновить темную и старую столовую, любимый зал прежних хозяев – прусских юнкеров. Была убрана дубовая обшивка стен и заменена цветными шпалерами, убран «Дремлющий старик» Рембрандта, и место его заняли три голубые лошади.
Вместо тяжелой мебели – легкие стулья и кресла, отделанные шелковой бахромой. Только оставленный камин напоминал о прежней комнате. Дочери поставили туда красные абажуры, и комната запылала огнем. И со стены на обновленную комнату взирала серыми внимательными глазами покойная госпожа Леви.
– Прежде надо сфотографировать стол с моими подарками, дед, – потребовал именинник, держа в руках клетку с орущим попугаем. Веснушки на лице Бумбы лучились от счастья. Рыжая его шевелюра была напомажена бриллиантином Фердинанда. Сегодня, в день своего рождения, Бумба ни за что не хотел облачиться в ненавистную ему белую матроску. Сегодня он одет в синий пуловер с круглым воротником, и похож на спортсменов, друзей Франца. Вчера он нанес визит, согласно семейной традиции, перед днем рождения, домашнему врачу – доктору Вольфу, который измерил его рост. Выяснилось, что Бумба за год вырос на много сантиметров, что преисполнило его гордостью.
– Стол с моими подарками, дед! – сегодня желание Бумбы – закон. Фотограф устанавливает напротив стола свой фотоаппарат на длинных и тонких ножках треноги. Сверкающий велосипед, часы, настоящий мужской портфель вместо прежнего школьного ранца, белый шелковый головной убор со значком гимназии, куда в будущем должен перейти Бумба. Пробочный пистолет, книги, боксерские перчатки, и среди всего этого – подарок Иоанны – большой портрет Теодора Герцля, глаза которого с озабоченным видом глядят на море подарков Бумбы.
– Где Иоанна? – спрашивает отец, стоя рядом с Бумбой.
– Здесь, отец, – кричит Бумба и извлекает из кармана письмо, – тут она все написала, – и на лице его – гримаса неудовольствия подарком Иоанны, от которого никакой пользы.
– Фрида, – хмурится лицо господина Леви, – кажется, я запретил девочке уходить из дома.
– Господин, вы запретили ей! Она что, прислушивается к таким запретам? Делает лишь то, что ей взбредет в голову. Иоанна, говорю я ей, разве должна девушка двенадцати лет носить целыми днями эту серую убогую одежду? Что скажут люди? А она, господин…
– Довольно, Фрида, – морщит лоб господин Леви, – поговорим вечером.
Но дед приходит на помощь Фриде.
– Фердинанд! – громким голосом прекращает он все беседы в комнате.
– Да, господин, – поднимает голосу Фердинанд в углу комнаты, – если я не ошибаюсь, тут упомянули мое имя, о чем речь, пожалуйста?
– О чем речь? О чем речь! – выходит из себя дед. – Об Иоанне речь! Твоя обязанность за ней следить. Почему она ушла из дома, а-а, Фердинанд?
– Господин, речь об Иоанне? А-а? – Фердинанд тянет слова, как жвачку. – Если речь об Иоанне, я не виноват. Да она проскользнет в замочную скважину, если ей надо будет пойти в этот ее «Вандерфогель».
– Ее «Вандерфогель»! – сердится дед. – Это все, что ты можешь сказать? Я преподам ей урок, этой юной последовательнице раввина.
– Я несчастен, госпожа! Я несчастен, госпожа! – орет попугай.
– Отец! Ты не нашел во всем Берлине ничего лучшего, чем этот попугай?
– Нет, – еще не остыл дед, но тут в образовавшейся безмолвной паузе лицо его просветляется, и он провозглашает:
– В сад, гости дорогие, все – в сад! Фотографироваться!
– В сад, – вторит ему Фрида, – наконец-то можно будет подготовить обеденный стол.
Сад залит солнцем. Омыт весенними дождями. Сверкает в полдень. Ветер шуршит между высокими деревьями, скандалят воробьи, ласточки, которые уже вернулись с чужбины, летают между вершинами деревьев. Голуби отряхнулись от дремы. Вороны кружатся, рассматривая своими холодными стеклянными глазами шумную толпу людей, гуляющую по саду и нарушающую тишину. Кусты белых роз, посаженных Эдит, все еще обернуты в ткани, предохраняющие их от заморозков. Тропинки кажутся бесконечными, как и бесконечное небо, и бесконечно счастье Эдит, слушающей голос Эмиля Рифке, поющего песню «Тереза спит у старого колодца». Голос у жениха Эдит густ и глубок, и лицо ее мечтательно, словно бы весь свет в саду, все цветение весеннего дня предназначены только ей. Вдыхает Эдит воздух сада и запах влажной земли.
– Какая Эдит красивая, – произносит женский голос рядом с Филиппом, уставившим печальный взгляд в улыбающееся лицо дочери Леви. Молодая девушка с коротко остриженными волосами улыбается Филиппу. Ее облик напоминает ему Беллу. Тонкая фигура, темные волосы, стриженные под мальчика. Лицо смуглое, открытое, нежное, без намека на косметику. Глаза светлые, прозрачные. Одежда простая, без излишеств.
– Самая красивая из женщин, которых я видела, – говорит соседка Филиппу, – но рядом с этим мужланом она выглядит такой несчастной.
– Несчастной? – удивляется Филипп, вглядываясь в явно счастливое лицо Эдит. – Мне кажется, наоборот. Почему вы так говорите?
– Так подсказывает мне мое ощущение, – девушка смущена. – Не могу смотреть на них, чтоб тут же не возникла в памяти история Ромео и Джульетты.
– Ромео и Джульетты? – смеется Филипп. – Не больше и не меньше. Почему? Из-за сильной любви, которая преодолевает все трудности?
– Нет, – краснеет соседка, – именно потому, что в наши дни невозможна такая сильная любовь.
– Вы так считаете? Вы, еще такая молодая, – бросает Филипп на нее заинтересованный взгляд.
– Этому научила меня жизнь. В наши дни слишком многое может встать между влюбленными.
– Разрешите представиться, – Филипп кланяется девушке. – Доктор Ласкер.
– Кристина.