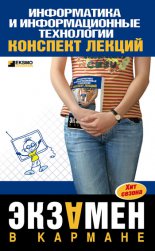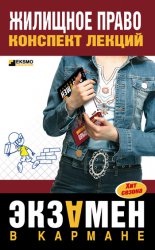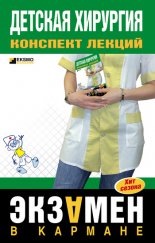Купить зимнее время в Цфате (сборник) Бартана Орцион
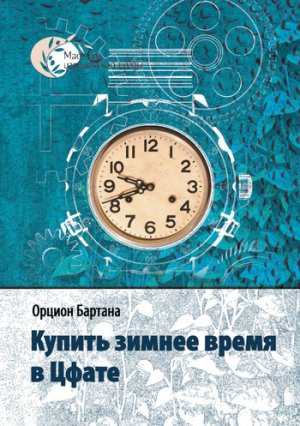
Символика, витающая над реальностью
Уже много лет я внимательно слежу за творчеством Орциона Бартана. Каждое произведение писателя, будь то сборник стихов, книга прозы, критическая статья, становится заметным явлением израильской литературы. Особое место в его творчестве занимают исследования современной ивритской литературы различных направлений, которые смело можно назвать этапными в определении принципов развития ивритской словесности.
Но Бартана прежде всего рассказчик, своеобразный, не вписывающийся ни в одно из общепринятых направлений. И менее всего – в достаточно распространенный в израильской прозе реализм, затрудняюсь сказать, критический или социалистический, реализм с признаками провинциальной психологии, считавшейся новшеством во времена Чехова.
Бартана в своей книге «Восьмидесятые» обозначил ряд писателей, которые, по его мнению, могли бы вытянуть нас из «реалистического болота», таких, как Давид Шахар, Ицхак Авербух-Орпаз, Иорам Канюк. Но беда в том, что позднее часть этих новаторов вернулась в теплое и приятное лоно реализма, забыв свою авангардистскую юность.
Бартана же прокладывает свой собственный путь в жанре новеллы и короткого рассказа, забытого в последние десятилетия.
Бартана сумел ввести материю символизма и фантазии в традиционный мир современной ивритской литературы так, чтобы это не выглядело бледным подражанием научной фантастике со всеми ограничениями жанра.
Рассказы книги «Купить зимнее время в Цфате» (в оригинале – «Красное и другие рассказы». Прим. пер.) ударяют тебя, подобно молоту. Описывают ли они проблему отцов и детей («Я, Цидкияу») или исследуют сложнейшие нюансы отношений между мужчиной и женщиной («Красное») – одна из главных тем рассказов – взросление, шок от раскрытия окружающего мира людей, перипетии молодых пар, любовников на час…
Реакцией на мир, несущий в себе апокалипсическую угрозу истребления человечества, является рассказ «Эдна строит ковчег».
Мир рассказов ограничен стенами, вмешен в достаточно узкое пространство. Это мир домашний с явными признаками клаустрофобии, но он символичен и фантастичен. Именно в напряжении между провинциальностью и лихорадочно витающим в иных мирах сознанием рассказчика, каждый раз нового, и скрыта сила воздействия на читателя.
В рассказе «Один зарезанный гусь» изображен герой, который должен был умереть ребенком и случайно остался жить, благодаря ошибке опекавших его ангелов. Он заходит на рынок, чтобы купить мясо для пикника в День Независимости Израиля, и вдруг его охватывает странное и неотступное желание купить живого гуся у резников. Они же ни за что не хотят продать ему живого гуся. По их жизненному правилу из этого места не может выйти живой гусь. Подспудно, не отдавая себе отчета, герой смутно ощущает собственную судьбу, глядя на гуся в клетке, предназначенного на забой.
Так в каждом рассказе скрыт некий высокий символ, опрокидывающий обыденность окружающей жизни. Иногда этот символ взят из Священного Писания, как царь Цидкияу и стены Иерусалима, Ноев Ковчег. Иногда это простой предмет, животное или птица, обретающие странную мощь, некое новое измерение. Будь то гусь, черепаха в коробке от обуви на подоконнике, цирковая трапеция акробатов, электрическая плитка, пылающая красной накаленной спиралью в темной комнате, квартира, заполненная водой. Все эти символы, как темнота, обрисовывающая фигуру, возникающую в свете фонарика или уличного фонаря, выделяют облик самого рассказчика, его неопровержимое существование. Это тоже герой, которого заедает обыденность, лишает его сил, а порой и желания жить. Поэтому он каждый миг ожидает, ищет освобождения, которое придет неизвестно откуда, и беспрерывно удивляется загадке законов жизни.
Находясь на грани земного и небесного, герои Орциона Бартана не хотят идти на компромисс с понятием «случайности». Они ищут закономерность во всем: в рождении, каждодневном существовании, смерти, а быть может и бессмертии.
Надеюсь, русскоязычный читатель по достоинству оценит и поймет страстный, фантасмагоричный – но до боли понятный каждому, кто знаком с рассказами Чехова, Платонова, Казакова, кто живет в реалиях повседневности мегаполисов – Тель-Авив и его жителей, увиденных проницательным взглядом Орциона Бартана.
Ран Ягил
Вырастить черепаху
В тот полдень, когда я вернулся к машине, у меня все еще болело ухо. И болело сильно. Несмотря на то, что прошло уже несколько дней. Нет ничего особенного в том, что тебе воткнули в ухо палочку, даже если это палочка хрустика из соленого теста. Когда она вошла в мое ухо в пятницу, в танцевальном подвале небольшого клуба в заднем дворе дома на улице Райнес в Тель-Авиве, со всей силой, с которой можно впихнуть ее в ухо, прямо внутрь правого уха, весь мир замер. Мир заледенел от боли и не сдвинулся даже тогда, когда хрустик застрял в ушном канале и сломался. Но мне было двадцать, и я простил ей. Я лишь убедился, что кровь из уха не течет, приложив к нему платок, смоченный водой в туалете, до того узком, что я не смог прикрыть дверь, упершуюся в мою ногу, вышел, закусив губы от боли, но улыбаясь, и пошел провожать ее до дома, вернее, до комнатки в цокольном этаже, которую она снимает у госпожи Пенцовски, на улице Раши, – вход со двора. Мне было двадцать и, обнимая, я старался прижать ее к моему лицу со стороны здорового уха. Это было там, во дворе, у двери, к которой была прикреплена бумажка с криво начертанным карандашом именем «Мэри». Эти несколько небрежно вдавленных в клочок бумаги букв так не подходили к ее черной в обтяжку юбке и черным туфлям, поблескивающем на песке, подсвеченном лунным светом. «Нет у меня желания», – сказала она, как бы не желая разговаривать у двери, рядом с мусорным баком, прислоненным к забору, под ярким огромным оранжевым месяцем, наискось лежащим над задним двором, в проеме между домами, сосредоточенным в себе, почти галопирующим на хребте этого двора, заливающим песок своим сиянием. Море песка под сиянием, переливающееся через край во двор.
«Нет у меня сегодня желания» – повторила она, как бы извиняясь и опуская черную вуаль на лицо, ушедшее совсем в тень, черное пятно во дворе, освещенном лунным светом, под тополем, возвышающимся серой громадой, неким темным знаком около груды пустых ящиков у входа в ее комнату. Так она сказала, словно бы это был еще один вечер, проведенный нами вместе, обычный в череде двух недель, в течение которых мы встречались. После этих слов я мог с ней больше не встречаться, но вернулся к ней через несколько дней. Заткнул ухо ватным тампоном, впихнув его поглубже, чтобы не было видно, довольствуясь лишь одним ухом и обещанием врача, что со временем слух в раненом ухе полностью восстановится, когда залечится рана снаружи, и вернулся в съемную квартиру Мэри. В комнату вел неосвещенный коридорчик, отделяющий ее от остальной части дома. Несмотря на предобеденный час зимнего ясного дня, в комнате царил густой полумрак, и можно было видеть лишь то, что едва обозначалось слабым светом из-за белой простыни, играющей роль занавески на единственном в комнате окне, напротив стены, у которой стояла кровать на железных ножках, аккуратно покрытая бежевым одеялом, натянутость которого лишь подчеркивали подоткнутые рваные края и впадину в форме тела посредине. Очевидно, она только поднялась с постели открыть мне дверь и вернулась в эту свою впадину после того, как закрыла дверь и положила ключ на полочку над кроватью, рядом с недопитой чашкой кофе и пирогом, крошки которого были рассыпаны на подносе и даже на бежевом одеяле. На него уселся и я, рядом с ней, по ее просьбе, ибо единственный ученический стул был завален книгами, на которые были брошены ее трусики. Недолго мы так сидели, ибо она потянула меня на себя, и я замер, прижавшись к ней и слушая постукивание капель из крана о груду немытых тарелок в раковине, играющей роль кухни между вешалкой с ее платьями и стопкой книг. Я переменил положение, чтобы укрыть больное ухо в месте слияния белой шеи с мягким плечом. Но плечо это пожелало удержать меня от стремления подняться к окну, открыть его и дать полдневному свету войти в комнату. И тут я подумал, что хозяйка этих плеч на миг оставила меня. Но она сползла с постели на пол, к моим ногам, чтоб развязать шнурки моих ботинок. Развязывая их одной рукой, другой продолжала разглаживать бежевое одеяло, поправлять, уткнув голову мне в живот и сползая все ниже и ниже. Но ухо продолжало болеть и после того, как мы голыми напряженно двигались в ритме танго под звуки пластинки в тридцать три оборота, которую она решила поставить на громоздкий проигрыватель, стоящий на не менее громоздком радиоприемнике на полу, особенно выделяющемся в этой комнатке два на три метра, по которой она двигалась и возвращалась, длинноволосая, с тонкими сжатыми губами над двумя небольшими холмиками узкой груди, над двумя светлыми пуговичками сосков, так похожих на два светлых глаза, явно не выражающих влечение. И живот ее светился тонкими мягкими волосами в белесой темени паха. И ноги ее голые, длинные, делали шаг ко мне и отступали на шаг, когда она вела меня от стены до стены в танце, поворачиваясь впритык к раковине и – обратно – у небольшого экрана старого телевизора, по которому бежали серые и белые размытые линии да какое-то цветное пятно время от времени проскакивало, окрашивая на миг зеленую пустыню или доброе бледное лицо женщины. Как и ее лицо, которое являло лишь незначительную деталь в ее образе, некий желтоватый шар, опущенный долу, над стройной колонной ее тела, ведущего меня в танце, трущегося об меня, возбуждающегося и смущенного, и вновь ее лицо в повороте танго, в полумраке, между тарелкой с едой, оставленной у кровати, рядом с раскрытой книгой и только стремительность ее и сноровка не позволяла мне споткнуться об ее ноги, не поскользнуться и не сбить полки с книгами у остальных двух стен комнаты.
К чему такое количество книг ей, недавно приехавшей сюда и вскоре покидающей этой место, да и откуда столько книг? Но когда голыми танцуют танго, тяжесть в больном ухе невероятно увеличивается, поди, объясни ей это, когда она ожидает от тебя лишь точности движения в танце, и хрустик, воткнутый ею тогда мне в ухо, вовсе не причина оскандалиться в танго. Тот хрустик в ухо она воткнула просто в шутку, так сказала она, для смеха, чтобы я лучше прислушивался к тому, что она говорит во время танца, в клубе, и она рассказывала мне о своем отце в Йоханнесбурге, возящемся с электрическими проводами в кухне, которую он превратил в лабораторию. «Прекрати, говорила она, оглядываться на своего друга Давида в то время, когда я с тобой. Даже если он твой лучший друг и хочет показать тебе что-то интересное в этом маленьком клубе, я здесь гостья, ты меня принимаешь, так делай это красиво, улыбайся мне, гляди, не отрываясь, на меня, танцуй со мной, только со мной, а то возьму вот хрустик соленый с тарелки на низком столике и воткну со всей силой тебе в ухо». И она продолжала рассказывать мне о своем отце, работающем ночи напролет в кухне, превращенной им в лабораторию для опытов с электричеством: натягивает провода, по которым пропускает ток, под ногами валяются мотки проводов, потом извлекает из шкафа бутылку и напивается, жует тонкие ломти розовой колбасы и все пьет и пьет джин, и коньяк, и просто вино, все, что под рукой, пока не падает на эти мотки, на тонкие железные стержни, на пол, чтобы доползти до кровати, к матери, которая уже давно спит, и она просыпается и начинает на него кричать, зная, что это не поможет, и вытирает кровь с его оцарапанного лица. Не помогает и это, и она вместе с матерью волокут его в ванную, раздевают, обливают холодной водой, приводящей в чувство, но не смывающей с него запах алкоголя, который, кстати, она любит. Потому у нее в комнате есть бутылка, и в холодильнике, тоже стоящем в комнате, которая одновременно и кухня, и спальня, и рабочее место, ну и что, и кого это колышет, кого? Даже когда госпожа Мириам Панцовски стучит в дверь, что-то ей нужно, но говорит она: «Нет, нет, вы не мешаете, продолжайте петь, детки», хотя мы вовсе не поем, а лишь танцуем голышом, но я просто ничего не могу скрыть, ибо одной рукой крепко держу Мэри, а другой должен был почесывать ухо, которое болит, словно бы и не слыхало того, что сказал врач. И почему бы хозяйке не видеть меня голым, любящим ее улицу Раши, пыльные дворы, узкие потрескавшиеся тротуары, ненарушаемый покой, высокие фикусы, разрывающие асфальт, кожуру банана или апельсина под ногами, предобеденную тишину в будний день. К тому же полумрак в комнате не дает возможности что-либо в ней увидеть. По сути, ничего. Именно об этом я с ней препирался, требуя, чтобы комната была хотя бы немного освещена, чтобы лицо ее немного проступало из желтого моха обрамляющих его волос, чтобы книги, набитые строками букв, заполняющие до отказа полки, начали что-то мне говорить, хоть что-нибудь, даже непонятные мне выражения, но не представляли бы просто пятна, лишенные смысла в этом тяжелом полумраке комнаты. Так, танцуя, я препирался с ней, требуя немного приоткрыть окно, даже если это может позволить любому технику, чинящему кондиционер, любому прохожему по тротуару, в двух метрах от нас, не только видеть нас голышом, но даже просунуть голову в окно. «Немного света», – говорю, – я хочу видеть то, что я делаю, как можно весь день сидеть под слабым светом настольной лампы и писать на этих твоих листах?» Я ведь даже не знал, на каком языке она пишет. «Так здорово было снаружи, всю дорогу к тебе, весь Тель-Авив стоит вокруг твоего дома, утром и вечером, весь Тель-Авив у порога твоей комнаты. Тут, на этом месте, изобрели вечность в этом песчаном городе. Все снаружи стоит на своем месте, ясно, в свете дня. А у тебя полутьма. Даже кот, который был у тебя там, не согласился бы здесь жить в этом сумраке, предпочел был сумерки мусорного бака во дворе или пошел бы к морю, к волнам, после пребывания в полутьме этой комнаты. Да, верно, коты не умеют плавать, боятся до смерти воды, но твой кот точно бы сошел с ума от этого сумрачного мира, в котором ему предстояло жить день за днем, метр от кровати к этажерке с книгами, метр от этажерки с книгами до стены, обклеенной рисунками роскошных женщин Августа Климета, этаких искусственных женщин с опущенным книзу взглядом, из-под шляп, над узкими, обтягивающими ноги юбками черного, коричневого, яично-оранжевого цвета, вроде бы поглядывающих на тебя и в то же время отрешенных, скрыто обнаженных в своей прелести роскошными белыми холмами, розовые соски которых дышат радостью, но не дерзки в своей затаенной открытости твоему взгляду». До того я разошелся в красочности описания этого на иврите, забыв на миг, что она-то языком этим не очень владеет. Но она поняла, ибо тут же мне ответила. Нет, сказала она, кот не здесь. Он остался далеко. Ибо нет у нее сил здесь растить животных. Только черепаху она может здесь растить. Черепаха многого не требует, ее можно оставлять надолго, и она ни на что жалуется. Вот она, маленькая черепаха в коробке на подоконнике. Коробка на краешке занавески, она для черепахи жилье, а для занавески тяжесть, не дающая ей взлететь от неожиданного порыва ветра. Не понимаю, о чем она говорит. Ведь окно в комнату всегда закрыто, и никаких порывов ветра здесь быть не может. Даже когда мы бьемся своими телами о стену и доски кровати, даже когда я скачу на ней, не обращая внимания на ее крики подо мной «сумасшедший, сумасшедший», даже тогда мы не создаем никакого ветра, не сдвигаем занавеску ни на йоту своим движением и прерывистым диким дыханием. Занавеска эта неподвижна и коробка прижимает ее края к подоконнику, коробка, в которой выросла черепаха под листьями салата. «Она мало ест, – говорит Мэри, – она должна расти. Она вырастет. Я даю ей много еды. И темнота в комнате ей не мешает. Она со мной с первого дня, как я сюда приехала, и ей со мной хорошо». Она говорит, а я чувствую песок в постели, песок, принесенный сюда мною, и простыня на постели натянута до отказа, а с картины на стене улыбается Юдифь и держит в руках отсеченную голову Олоферна, и длинные курчавые ее волосы смешиваются с курчавыми волосами отсеченной головы, скользят потоком, заполняют комнату, так, что нет уже мне в ней места, даже в ушах моих колотятся ее волосы вместе со словами, которые шепчет мне на ухо Мэри, и все заполняется словами. Только часы на моем запястье показывают, что пора уходить. Только сдвину листья салата, чтобы посмотреть на черепаху, перед тем, как поднимусь над ее попой, раскрытой подо мной двумя половинками своими, как нарисованное сердце на открытках с голубками, и соскользну в брюки, в ботинки, чтобы двинуться отсюда. Только взгляну, что там делает черепаха, всегда на дне коробки, никогда никуда не выходя, как она странствует всю свою жизнь в этой черной коробке из-под обуви, и как она существует там, под пусть воздушно-легкими листьями салата, почти лишенными веса, в тьме. И я подкладываю ей свежие листья салата, слой за слоем и вдруг обнаруживаю, что лежат они на мертвой черепахе, на пустом панцире на дне коробки из-под обуви. И в слабом свете, просачивающемся из-за занавески, можно еще видеть остаточные знаки ее головы и передних маленьких лап, малый ее скелет. Панцирь лежит наискось коробки, чтобы глазами своими, которых нет, она обращена была к окну. Панцирь умершей черепахи. Давно умершей. А снаружи – свет. И я выхожу. Улицы прямы. Тротуары ведут от дома к дома, от двора ко двору, по Тель-Авиву проветриваемых перин, в зимний ясный полдень, и удары соседки по выставленным на балкон подушкам мягко сливаются с жестким стуком молотка сапожника. Еще один ботинок исправлен. Ясный зимний день снаружи, и я иду вдоль дворов, к машине, ожидающей меня на улице Кинг Джордж, мимо старика, возвращающегося из синагоги, бормочущего себе что-то под нос. И дорога к машине становится длинной. Я иду, несу сердце свое плачущее от двора до двора. Мимо перин, выставленных для просушки. Мимо листьев, слетевших с фикусов. И хотя ухо все еще болит, легка поступь ноги моей по тротуару вдоль набирающего темп времени, вдоль потока полдня, который пока еще старается сдержать свой стремительный бег.
Ребенок
Когда проходишь перед фронтоном этого дома, кажется тебе, что построен он явно по произволу – то ли архитектора, то ли подрядчика, то ли комиссии по городскому планированию. Дом воплотил в себе обычную небрежность в проектировании окружавших его строений. Казалось, он был сооружен, чтобы заполнить собой пустое пространство между ними в пустом интервале между ними. Дом украшал балкон, неестественно длинный с одной стороны, а с другой невероятно уменьшен, почти кубик. Четыре окна на фронтоне первого этажа буквально втиснулись впритык одно к другому, а на четвертом последнем этаже, как бы освобожденном от угрозы со стороны граничащих с ним двух домов и вырвавшемся на простор, кто-то позволил себе добавить окно, пятое, на котором жильцы натянули веревки. Каскады стираного тряпья стекали из глубины дома, и снизу невозможно было понять, то ли оно выцвело от солнца, то ли пыль, покрывающая все вокруг, размыла их цвета в это предсумеречное время, упавшее на улицу в центре города. Улицу, которая несмотря на гомон и столпотворение, или благодаря ним, никогда не выглядела центральной, а скорее как дитя без родителей, без возраста, как и машины, те, что проносятся по ней и те, которые никогда не паркуются нормально у края тротуара, а поднимаются двумя колесами на бровку, упираясь бамперами одна в другую. Дитя без возраста, точно как продавцы в киоске, расположенном между зеленщиком, товар которого в ящиках разложен столбами, поддерживающими дом, вдоль тротуара, и полуголыми женщинами-манекенами в витрине магазина одежды. Непонятно, какое чувство они должны вызывать – вожделение или жалость. Эти трое, быть может, отец, мать и сын, стоят в глубине киоска, у прилавка, низенькие, согнутые спинами и тяжелые лицами, и головы их всажены в спины как бы без шеи, так, что похожи все трое друг на друга как близнецы, и никогда никуда они не торопятся, вкладывают, к примеру, баночку колы в явно использованный потертый пластиковый мешочек, и, шевеля губами, высчитывают цену, включая пачку сигарет, тоже впихнутую в мешочек, и один терпеливо поправляет другого, пересчитывая опять, и когда, кажется, двое сошлись в счете, третья, мать, качает отрицательно головой, и опять начинают считать сначала. Сразу же, миновав их, поворачиваешь налево, к входу, ибо ты уже знаешь, что здесь вход, что это именно вход, несмотря на то, что с улицы это выглядит как узкая тропинка, ведущая к мусорным бакам во дворе, и ты проходишь в дверь, которую прорубили неожиданно справа от этой тропы, и становится понятным, что и внутри это здание планировали по тем же особым правилам, что и снаружи, так, что лестничная площадка вовсе не выглядит как лестничная площадка, а как три словно бы пробитых прохода, ведущие один сквозь другой в разные направления, и всегда в них темень, ибо окон здесь нет, а лестничный выключатель, как обычно, не работает, или кто-то решил сэкономить и слегка выкрутил покрытые пылью лампочки, и ты оказываешься в темноте еще до того, как поднялся на первый этаж. Долог путь до четвертого этажа, ты проходишь из дыры в дыру, чуть не споткнешься о девочку, сидящую у закрытой двери, и соседку, что-то кому-то объясняющую в темноте, пока не доберешься до дверей шкафа с электропроводкой всего дома, под самой крышей, а на дверях эти старые полуоборванные призывы голосовать за Бегина, наклеенные друг на друга, у самой железной лесенки, ведущей к рваному отверстию в потолке и к простой деревянной двери, покрытой старой стершейся краской, к которой прикреплен обрывок бумаги, а на нем нацарапано рукой, не привыкшей к ивриту, что здесь живут Анна, которой сейчас дома нет, и Алла, сидящая в своей комнате, которую от входа отделяет лишь дверь на шарнирах, и сидит она на пластиковом стуле у деревянного стола, который обслужил не одно поколение школьников в квартале, пока не оказался здесь, в съемной квартире. На стены комнаты наклеены цветные афиши спектаклей Камерного театра, в котором она работала во время летних каникул секретаршей, выполняя любую подвернувшуюся под руку работу, и оставила место, быть может, в связи с началом занятий, или по другой какой-нибудь причине. На железной койке навалены летние и зимние одеяла, и вентилятор около настольной лампы, слабый свет которой освещает грязный стакан с остатками какого-то высохшего напитка, все же работает на третьей скорости, только скрежещет при наклоне то ли вправо, то ли влево, но эти наклоны никому не нужны, и следует ему придать направление, чтобы дул лишь в сторону хозяйки, ибо через несколько секунд она сбросит одежду и голой присядет на краешек постели, и зад ее, по молодому упругий, погрузится в хлопчатобумажное одеяло, и большие ее груди покажутся еще больше на фоне ее худобы и узких плеч, которые можно прикрыть одной рукой, и она сжимает их так, что груди еще более выделяются. Лицу она пытается придать выражение соблазна, но нос ее еврейский, слишком большой, портит это выражение, и не ясно, печаль в ее серо-голубых столь чуждых глазах истинна, холодна, несмотря на жаркие сумерки хамсина, или это какая-то придуманная ею игра. И пока ты стоишь, смущенный и соображающий, что к чему, она встает и облачается в розовый цветистый халат, снятый ею с гвоздя на стене, халат гимназистки, проходящей по коридору дома из комнаты в туалет, и не ясно, собирается ли она действительно в общий для обитателей этой съемной квартиры туалет, или это просто повод облачиться во что-то, ибо голый вид ее, отраженный в зеркале, подаренном ей в день рождения и тоже висящем на гвозде, смущает ее и заставляет ее делать нечто противоположное тому, что она собиралась сделать. И, быть может, именно эта смущенность и неловкость заставляет ее танцевать перед тобою голышом после того, как она сбросит халат, подтянув зад, чтобы выделить то, что не очень у нее выделено, и без предупреждения склонится и надолго погрузит голову между твоих ног, и ты явно не знаешь, что она там вынюхивает и что пробует. В это время госпожа Тененбаум, глубоко верующая соседка, достаточно бедная, чтобы жить в соседней квартире в полторы комнаты с мужем и двумя дочерьми на пороге зрелости, стучит в дверь и будет это делать долго. И еще через полчаса вернется, и снова будет постукивать время от времени. Алла дверь не откроет, несмотря на то, что утром пила у соседки кофе и одолжила у нее рулон туалетной бумаги перед тем, как ты пришел, ибо время, которое она проводит с тобой в постели, священно, и только оно существует для нее. Достаточно ей железным кривым стержнем закрыть дверь на шарнирах, и комната ее отделяется от остальной части квартиры, куда время от времени приходит вторая квартирантка и ее гости, и никто не будет ей мешать, и сейчас в предсумеречное время это небольшое пространство принадлежит только ей и тебе, и соседская квартира вовсе не связана с тем, что здесь происходит. Два небольших окошка, темных и запертых, видны в стене соседнего дома под пыльной черепичной крышей, с которой так никто и снимает сломанную во время бури антенну. Вероятно, эти окошки в туалет, которые вообще не знают света, но ей, да и ему абсолютно все равно, подсматривает ли там кто-то за ними в постели, и ей все равно, ночь сейчас или утро, ибо никто снаружи не может войти к ней сюда, внутрь. Алла своими руками режет, пилит и склеивает – кровать, ящик, вынутый из стола и стоящий на полу, полный свернутых полотенец и гигиенических пакетов. Точно так же она сотворяет себя, приноравливая глаза к губам, шею – к запаху, идущему от волос, и все это соединяет в одно. Алла женщина сильная. Приехала сюда налегке, почти без ничего, и не нуждается во многом, чтобы остаться. Когда ты, сделав свое дело и отдышавшись, встаешь, закрываешь за собой дверь, чтобы возвратиться к своей жене и дочери, Алла спрашивает, вернешься ли, и знает, что вернешься, ибо она герметизирует все до твоего возвращения, заворачивает твой запах в одеяла, и сверток этот остается на постели до твоего возвращения. Алла режет и хранит, нуждается в минимуме и хранит порядок во всем. Ложечку из пластика хранит вместе с двумя старыми серебряными из разных наборов, ибо все это, в общем-то, ложечки, и у каждой свое назначение, и каждая ждет в ящике своей очереди, точно так же, как и Алла ждет тебя. И когда ты выходишь, она замыкает твой приход, как сразу замкнула дверь за тобой, не проверив, что там, в прихожей, тем более, там темень, и два следующих раза ты поражаешься, выходя от нее, вниз по ступеням, как мгновенно гаснет свет, и ты, словно получив удар в лицо, хотя ведь ты ожидаешь этого, как слепой, шаришь по стенам, и пока ты выходишь наружу, испуганно прыгая со ступеньки на ступеньку, Алла уже омыла все свое тело, и теперь сидит в ночной рубахе, читает на французском книгу и делает отметки на полях, кладет ее на тахту, покрытую колючим войлочным пледом, включает свой старенький компьютер. Она сидит до полуночи перед мерцающим экраном, время от времени берет что-то пожевать из холодильника, ибо жаль ей тратить время на то, чтоб зажечь газ и что-то сварить или подогреть, и в три ночи, не обращая внимания на шум, долетающий с улицы, она гасит настольную лампу, привезенную отцом из другой страны. Завтра она пойдет на работу в школу, и послезавтра, и в последующие дни, и будет продолжать читать книги. Через год или два забеременеет от тебя, уже дважды она пыталась упрашивать об этом. А сейчас ты выходишь наружу, не зная всего этого, и замечаешь, что умеренный свет сумерек, сопровождавший тебя к ней, сменился первым наплывом ночной тьмы, которая еще не совсем сгустилась на крыше киоска «Лото», стоящего в середине тротуара, и в окнах банка все еще преломлено розовое отражение ушедшего дневного света, но женщина в киоске уже зажгла свет, падающий на ее руки и билеты, на губы, что-то считающие, и на лицо молодого человека, стоящего перед ней, первого в очереди за своим счастьем. И переломанный железный столб на твоем пути не мешает добраться до машины в боковой улочке, завести ее и поехать, и в эти мгновения ты так похож на всех окружающих, несмотря на то, что ты это – ты, и нет у тебя сомнения в этом, и на этом ты будешь стоять. И так это происходит день за днем, полдень за полднем. Ты уже потерял им счет. И когда однажды утром ты раскрываешь газету и читаешь, что нашли ка-кую-то девушку на первых месяцах беременности мертвой в районе ее проживания, кто-то, вероятно, сбил ее, ты кладешь газету спокойно на место, где она лежит каждое утро, и к вечеру едешь к ней, как обычно, полицейский, сидящий в ее комнате, приглашает тебя следовать за ним, и даже тогда ты вовсе не пугаешься, ты и вправду не помнишь, вела ли она себя в последнюю вашу встречу не так, как обычно. Ребенок? Тебе нечего сказать по этому поводу. Ты устал, сидя вот так перед следователями в полицейском участке. Желтый свет настольной лампы бьет тебе в лицо, изматывает. Время-то позднее, пора возвращаться домой, в постель.
Роды
«На кой ляд существует твой муж?» – спросила Ирлэ Беллу Бек, завершив этим вопросом традиционный обмен последними новостями.
Женщины стояли у калитки, ведущей во двор дома, в котором жили наши семьи.
Две гордые собой особы, и я, где-то там копошащийся внизу. Огромный живот Беллы подобен косо сползающей горе, но и Ирлэ, маленькая и худая смотрит свысока, на меня – мальчика, растянувшегося на пяти ступенях, ведущих в наш двор и очищающего лезвие перочинного ножичка от грязи. Закончив обмен мнениями, они сближают головы, словно бы хотят втянуть их в плечи. Кажется мне, они хихикают про себя и, пряча головы, хотят сдержать этот рвущийся наружу смех и не могут. Не знаю почему, но я чувствовал, что они что-то задумали. Во всяком случае, с моей позиции подле их ног это совместное стояние явно казалось заговором. Знали они нечто такое, чего я не знал. Проблемой была не Ирлэ и ее семья, живущие напротив нас, к ним я иногда даже заходил одолжить денег, чтобы купить мороженое, когда моих родителей не было дома. Вообще на нашем этаже никаких проблем не было, но на этаже над нами жила семья Бек, и я ни разу не видел, чтоб кто-нибудь остановился у их дверей или кто-либо был приглашен к ним в дом. Поэтому, взбегая на крышу, чтобы осматривать местность, я никогда не останавливался на лестничной площадке их этажа. Да и Шауль, Давид, Бени, Менахем и Иче, пятеро их сыновей, никогда не приглашали друзей к себе в дом. Во дворе мы играли подолгу все вместе, день за днем, но разговоры наши никогда не пересекали порог лестничной площадки, в темноту, тем более не достигали их двери. Это был некий постоянный закон: к Шаулю, Давиду, Бени, Менахему и Иче приятели не приходят.
Но в те послеполуденные часы я думал не об этом. Солнце склонялось к закату. Я уже довольно наигрался. Хватит. Лежал себе во дворе, как одна из наших кошек, Мици, как каждый день, после обеда, весь в пятнах земли, размышляя о ванной, которая ждет меня дома. Игры на улице я уже закончил, а играли мы в «ножичек», втыкая его в землю. У каждого была своя территория, и побеждал тот, кто сумел отвоевать ее у противника, так, что у того не оставалось места даже стоять на одной ноге. В начале игры у каждого было достаточно территории, чтоб лежать на ней. К концу же не было даже клочка для ступни. Не помню, победил ли я или проиграл в тот день. Ведь, по сути, это была как бы цепь игр, когда одна перетекает в другую: стираются все границы и снова ножичком намечаются два прямоугольника, и победитель отсекает у соперника его участок. Конец дня я помню. Небо готовилось к закату. Надвигающийся с запада, розовый небесный свет, открытый во весь простор нашей улицы, слабел. Его отблески упали на меловые камни забора, окружающего наш двор, и на иерусалимский камень ступеней, ведущих с улицы, ступеней, на которых я возлежал у ног Ирлэ и Беллы Бек и отдыхал, готовясь к вечеру.
А они стоят и хихикают, и секретничают, как в женской вечерней молитве. Я прислушиваюсь к ним в вполуха, потому наконец-то сумел уговорить девчонку с последнего, третьего этажа, Ади Миллер, отец которой упал с крыши в прошлую зиму, пытаясь в темноте починить какую-то проводку. Отец рассказал мне об этом, объясняя, что у нас на крыше сильный ветер, ибо дом наш стоит на вершине холма, вот он и сбил отца Ади и потому я должен к ней относиться хорошо.
Отец мой просто не знал, что я хочу к Адн относиться очень хорошо. Когда родители мои уходят, я приглашаю в дом всех ребят из нашего двора, и показываю им альбомы отца. В них – фотографии разных людей со всего мира, одетых в различные одежды, а то почти и неодетых. Я стараюсь объяснить про фотографии каждому, и поэтому впускаю их по одному. И каждый раз я уговариваю Ади быть последней в очереди, чтоб ей объяснить все подольше и получше. В тот день мне удалось убедить ее подняться со мной на крышу после ужина, найти какую-то уловку, хитро отвертеться от мамы и подняться. Мы пробудем там немного времени перед сном, сказал я ей, будет кейф. Оттуда можно подсматривать в окна соседей, можно присесть под бортиком крыши и никто нас не увидит. Можно даже жить в коморке для вывешивания белья и это будет наш маленький дом. Много чего можно там сделать. Так сказал я ей в полдень, когда мы возвращались из школы. Мог ли я знать, возлегая на ступенях в уходящем свете дня и предвкушая вечер, мог ли я знать, что никогда по сей день не встречу Ади Миллер на крыше?
Даже позднее, когда солнце зашло, и тьма легла на землю, и я уже вышел после ужина, умытый и готовый к встрече, чтобы подняться на крышу, не знал я, что встреча эта не состоится никогда. Погруженный в свои мысли и чувства в предвкушении свидания, я медленно поднимался, чтобы ступить на асфальт крыши. Задерживал дыхание от приближающейся радости. Ступенька за ступенькой. Представляя, как мы сидим под бортиком крыши, во мгле, освещенной лишь звездным воинством, и я вглядываюсь в чудное темное место между ее ног, если только сумею убедить ее показать мне… Даже фонарик я захватил с собой. И я сижу, и вглядываюсь, и показываю ей, и парю в мечтах, которые сжимают дыхание. Когда мы устаем, мы через бортик подсматриваем сверху за всеми соседями, которые стоят или ходят за желтыми окнами и кажутся висящими в кругах света как куклы на веревочках. Я вижу их, и Ади видит их, а они нас не видят. Так я размышлял, поднимаясь ступенька за ступенькой, но на втором этаже вынужден был неожиданно поднять голову напротив двери семьи Бек и посмотреть на дверь именно в тот момент, когда особенно торопился на крышу, ибо просто невозможно было пройти мимо, чтобы не кинуть на нее взгляд. Ведь дверь как бы смотрела на меня, и я должен был ей вернуть взгляд. Дверь-то не была закрыта, ну, положим, на треть, но так и тянула заглянуть. Никогда раньше я не видел ее открытой, до того открытой передо мной, что невозможно было не зайти. И я зашел.
Родители учили меня, что, входя, не оставляют дверь открытой, я и закрыл и очутился в узком коридоре, оголенном и освещенном слабой лампочкой, висящей над мой головой, разделенном двумя как бы барьерами, ибо на метр от входа была стена поперек коридора и в ней две ниши, в которых висело много одежды. Показалось мне, что одна из ниш покрашена свежей краской, ибо блестела, несмотря на слабый свет. Но глаза мои были устремлены на поперечную стену, отделяющую прихожую от остальной части квартиры.
Приблизившись к стене-перегородке, я приподнялся и заглянул за нее. Эта стена удерживала внутри дома воду, чтобы она не вырвалась на лестничную площадку.
Все внутри было залито водой от стены до стены. Вода доходила до моих плеч. Я взобрался на перегородку, спрыгнул и вошел в воды салона, точно такого, как у нас, но стол, стулья и газетный столик стояли под водой. Только радиоприемник на этажерке возвышался над водами. Туфли мои наполнились водой и я старался осторожно ступать, чтобы они не соскользнули с ног, штаны и рубашка насквозь промокли, только плечи были сверху. Пол был выстлан плитками, точно так же, как наш, но они были размыты, а углы комнаты были покрыты смолой. На полу были разбросаны камни, в углах комнат стояли вазоны с растениями и были они подобны водным растениям в аквариуме, который, кстати, родители купили мне, ведь, говорили они, рыбы не наносят столько грязи, как собаки и кошки. Я уже стоял посреди этого водного пространства, когда заметил, что в комнатах нет дверей, и там плавали мои приятели, дети семьи Бек, и плавали весьма быстро. Я вовсе не испугался, увидев их, несмотря на то, что не сразу понял, что это за длинные тени, скользят подо мной и вокруг меня. В воде они выглядели гораздо более длинными, хотя не были выше меня, даже Иче и Менахем, которые учились на два класса старше меня, и я немного их побаивался, когда во время наших дворовых игр мы начинали ссориться. Они даже не напрягались, а как бы скользили в каком-то удивительном стиле, как в танце или в мелодии, голова вперед, руки вдоль тела, ноги прижаты одна к другой, и только легкое покачивание боками держало их в воде на весу. Длинные, более темные в воде, проворные, даже жирный Иче скользил в воде рядом со мной, голова вперед, руки вдоль тела, бока извиваются, как равнодушные черви, из комнаты в комнату, от угла до угла. Я заметил, что они не обращают на меня внимания. Очень хотелось присоединиться к ним, плыть, качаться как поплавок, летать в водах. Одежда у меня и так вся была пропитана водой, и штаны, и рубашка, и обувь, оставалось наклонить голову. Но я не знал, как это делают, как в единый миг становятся такими, как они. Не было выхода, и двинулся по полу за ними. Медленно. С трудом поднимая ноги, осторожно волоча их, чтобы туфли не соскользнули с ног. Решил вернуться в кухню, которая была близка к прихожей. В домах моих друзей кухня была самым интересным местом. Но тут, в кухне, я не нашел ничего интересного и, видя, что мною не интересуются, я пошел к ним, если можно назвать движения в воде ходьбой. Я тянул ноги, прижимал их к полу, боролся с сопротивлением вод и так добрался из кухни до детской, и тут я увидел нечто, отличное от нашего дома. В воде, их квартира не казалось больше нашей, те же комнаты, то же расположение, но у них вместо одной большой комнаты, были под поверхностью воды три или четыре небольшие каморки. Они просто обманывали меня, когда говорили, что живут по двое в комнате. Но дружки мои не плыли в их каморки. Все то время, что я пытался достичь их, двигаясь из угла в угол, они скользили между перегородками, не ударяясь ни в притолоки дверей, ни в углы комнат, и несли с собой вещи, не понятные мне, из угла в угол их квартиры. Ныряли, взмывали и опускались в углах комнат между листьями водяных растений. Что они там делали, я не знал, но это было то, о чем я всегда мечтал – быть независимым от ног в этом передвижении с места на место, скользить без всякого усилия. Именно сейчас, когда я должен был быть быстрым и проворным, чтобы успевать за ними, я с трудом волочился с того места, где задерживала меня вода. Так, с трудом я передвигался в теплых этих водах, но не мог добраться до края квартиры, когда они скользили мимо меня, возвращались, напряженно занятые чем-то, что я очень хотел увидеть, несмотря на страх. А еще я хотел увидеть, что происходит с водой на трех балконах, таких же, как в нашей квартире. Ведь на балконах вода должна была открыта, быть может, замаскирована или уменьшена. Но в квартире было множество перегородок, и я с трудом протискивался мимо них, цепляясь за мокрой одеждой, и не мог добраться ни до одного балкона. Обескураженный, я вернулся к стене и направился к входу в другую комнату, но снова остановился. Так и двигался взад-вперед, не в состоянии нигде остановиться. Я уже был готов, не смотря на занятость обитателей квартиры, спросить у них, что, собственно, происходит. Только сейчас я обратил внимание на то, что мы вообще не разговаривали, что все это время не было слышно ни одного голоса. Все это время они плавали под водой, быть может, и пели, когда высовывали головы, чтобы набрать воздуха, но вновь торопливо погружались в воду. Я не слышал ни звука.
Только остановившись после этого бестолкового передвижения в воде, я обратил внимание на то, что они не только не говорят со мной, а даже не следят за мной и не сопровождают меня, вообще не плавают вокруг меня. По сути, они плавали туда и обратно около южной стены их квартиры, граничащей с высокими тополями во дворе нашего дома. К ветвям этих тополей они привязывали всякие коробки, склоняясь с балкона. Так они привязали однажды найденных во дворе кота и черепаху. Животные упали, так как были намеренно небрежно привязаны к дереву. А я, видя это, стоял внизу, ожидая, что они упадут, горя желанием их спасти, но не было у меня мужества взобраться на тополь и прекратить издевательство над животными.
Когда я добрался до входа на балкон, я замер, ибо там, в углу, около окна, в котором видны были темные, как бывает ночью, тополя, на огромном кресле возлежала госпожа Бек, все тело которой было погружено в воду, только плечи и голова снаружи. Она улыбалась, вероятно, мне, обнажая все свои зубы, широкой такой круглой улыбкой. Она улыбалась мне, я уверен, а не мужу ее Реувену, который медленно скользил вокруг нее. Я подумал, что он очищает ее, как очищают рыбу от чешуи. Или сам, как рыба, прыгает на нее, что-то очищая или потроша, она же неподвижна, только улыбается розовым лицом именно мне. А сыновья тоже вертятся рыбами вокруг них, и все что-то приносят, например, простыни, которые тянутся за ними по воде, как огромный веер золотых рыбок, маленькие пеленки и большие подушки, ножницы, клещи, мотки проводов, обвивающие их. «Здравствуй», – сказала она, вероятно, мне, ибо не было в доме другого гостя кроме меня, и только двое, я и она, держали головы над водой. «Здравствуй», – сказала она снова, и это был первый звук голоса, который я услышал в этом доме.
И не знал я, почему будет у меня новый дружок и что за дружок, но в этот миг Реувен высунул голову из воды. Он пел. Быть может потому, что услышал ее говорящей, но как он мог с головой в воде петь? И он вовсе не удивился, увидев меня. Вероятно, видел меня раньше из-под воды. Но, вынув голову из воды, он петь перестал, только так посматривал и то недолго, ибо был чем-то весьма занят и тут же исчез. После вернулся, неся над водой странный на вид поднос, на котором не было пирогов, а были мотки провода и клещи. И тогда, когда они уже все собрались вокруг госпожи Бек, повернув к ней головы в ожидании, как рыбы в моем аквариуме поднимаются стаей к поверхности вод, когда я даю им корм, я не мог больше ее видеть, скрываемой мужем и детьми глубоко в воде и решил, уходить, постепенно пятясь. Не они меня задерживали, а вода стесняла мое движение. И я пятился, не сводя с них глаз и только рукой щупая сзади, чтобы не наткнуться на что-либо спиной, пока не уперся в ту перегородку, которая отделяла квартиру от передней. Я преодолел ее все также, лицом к ним, к югу, к детям, которых уже отсюда не видел, стараясь по возможности отжать воду из одежды и обуви, слить ее обратно, в их комнату, отделиться от них у входа в сухую переднюю. Мокрый, я не остановился, а продолжал пятиться, рукой пытаясь нащупать дверь.
Несмотря на испуг, или, точнее сказать, несмотря на потрясение, охватившее меня, я не забыл правил вежливости и не бросился со всех ног. Вода вытекала из туфель, стекала со штанов, которые, промокнув, до боли сжимали кожу. Пришлось мне оставить мокрые следы у выхода из чужой квартиры. Я открыл дверь, которая теперь была закрыта, и захлопнул ее за спиной. Что я скажу маме о мокрых штанах? Что скажу о туфлях, рубашке? Ведь я не смогу рассказать ей о том, что видел. Я спустился по ступенькам к нашей квартире. Эту дорогу с верхнего этажа до нашей двери я запомнил хорошо. Так же, как я помнил о правилах вежливости. Шел медленно, борясь с мокрой одеждой и обувью. Я все помнил. Только крышу забыл. Начисто. И Ади Миллер, которая, быть может, ждала меня. Я даже забыл взглянуть на часы, которые разбил, поскользнувшись на мокрых ступенях, как ни старался двигаться осторожно. Так, что не знал, который час, сколько времени я пробыл в семье Бек. Жаль, хорошие у меня были часы. Я получил их в подарок на день рождения. Часы «Докса». И тут была действительно возможность проверить, не пропускают ли они воду, как мне было сказано, и чем я гордился. Это также символизировало некое чудовище, выгравированное на задней стенке часов. А может, это вовсе и не было чудовище, а три русалки, взявшись за руки, танцевали, хоровод их был закрыт для посторонних, хвосты их извивались в танце, как волосы их – в воздухе.
Один зарезанный гусь
Ицик заболел именно в тот день, когда ему исполнилось два с половиной года, и в этом можно было увидеть еще один пример бескомпромиссности ангелов. Истинным их намерением было забрать его. Изначально он не должен был тут быть. Он просто не подходил к земной жизни. И дело не только в его носе, кривом мизинце на правой руке; в том, как он при ходьбе волочит ноги, и сколько раз ему об этом говорили, объясняли, предупреждали. Нет, не это было главное, несмотря на то, что дальновидные, а таких всегда хватает, уже по этим признакам могли видеть, что он не жилец. Еще в те годы, близкие Ицика даже вслух выражали подобные мысли, когда надо и не надо, вежливо и невежливо. Короче, всем своим видом Ицик говорил: это не то, я не должен здесь обретаться. Никогда. Ни раньше и ни теперь. Но никто не был готов исправить эти недостатки и взять его таким, какой он есть. Он остался, ибо никто из ангелов не хотел прибрать его. Точка. Если можно было именно здесь в рассказе поставить точку, одну из тех, которые еще будут.
Но я уже сейчас говорю в пользу тех, кто не верит: это и вправду предупреждение.
Болезнь в два с половиной года была очень тяжелой. Несколько раз он находился между жизнью и смертью. Было такое чувство, что кто-то просто не знает, что делать, быть может, пребывает в полном замешательстве, если можно так сказать. Начали и не завершили. Нанесли ему этакий незавершенный удар.
Он болел полгода. Не мог подняться с постели долгие месяцы, до того дня, когда ему исполнилось три года, когда он впервые встал на ноги. И это снова был пример неразберихи в планировании его жизни. Ибо в день, когда он мог уйти в то, что называется небесами, с особой праздничностью, в день, который легко запомнить, легко объяснить и найти в этом смысл, именно в тот день он встал с постели и продолжил свое существование здесь. В малом Тель-Авиве. Я знаю, невелика мудрость, сказать так, малый Тель-Авив, ибо, когда он не был малым или не будет малым. Но это точно так же в отношении Ицика: когда он не был маленьким и когда он больше им не будет, учитывая все, что на него свалилось? Поэтому если мы говорим о нем, как о малом, то это относится и к Тель-Авиву: таков он, есть, несмотря на то, что Ицик никогда о нем так не думал. Например, тогда, когда он направлялся на рынок Кармель, о котором здесь пойдет речь. Между тем, он несколько раз болел и выздоравливал, и всегда болел тяжелыми болезнями: брюшным тифом, дифтеритом, воспалением печени. Заболевал и выздоравливал. Заболевал не в наказание за грехи и выздоравливал не по знаку свыше. Нет, здесь, очевидно, была какая-то неисправность, какой-то недодел.
А он? Он страдал. О, как он страдал, но это потому, что он не должен был здесь быть. И это, я думаю, сказано в достаточно ясной форме. И так он появлялся то там, то здесь. Ну, вы знаете, городские парки, закаты, кинотеатр «Дворец Давида» на улице Дизенгоф, тот самый, у моря. Снова закаты и снова места прогулок. Короче, он совал свои руки с тем самым кривым пальцем то за пазуху, то в трусы какой-либо, которой хотел всунуть свои руки или которой не хотел, но они говорили ему, ну-ка отцепись, брось эти штучки, но он ни за что на это не соглашался. Такой вот типчик, который чувствует, что он как будто в каком-то бою, и должен отличиться и ни в коем случае не отступать с завоеванных позиций, ибо кто знает, когда будет следующая атака и чем она завершится.
И он продолжал так себя вести и тогда, когда чувствовал, что это не то, и нет смысла это делать, и он просто тратит впустую свою жизнь. Но так как он не знал, что и вправду надо делать, он и делал то, что не надо. Такой вот типчик, явно не подходящий этому месту. И тогда было сказано, что, не подходя в одной форме, он не подходит и в другой. А так как он не подходил, то любой его поступок не помогал.
Ночные прогулки. Бесконечный треп с товарищами. Счета, почему и сколько. Все это вообще не помогало никак. Он продолжал останавливаться на улице Дизенгоф, и на улице Арлозоров, Соколов, и улице Четырех сторон света, и Леви Ицхака, и Магарала, и в узких переулочках у моря. Ну, вы знаете, весь этот район к западу от улицы Арлозорова. Место, куда он был выброшен вначале, когда ангелы ошиблись и дали ему возможность быть здесь, но это была лишь их первая ошибка по отношению к Ицику.
А Ицик? Он продолжал останавливаться около домов и, чувствуя приступ дурноты, выворачивать из себя содержимое. Делая это во дворах, если ему удавалось себя немного сдержать, или прямо на тротуар, когда не было сил сдержаться. Да продолжал время от времени падать в обморок, так, просто. Но это не было просто так. Это случалось, когда он вспоминал, откуда явился и чему принадлежит, и это было слишком грозно и велико для него. Ну, а ангелы, спрашиваете вы? Лучше бы вы не спрашивали, ибо я уже вижу неприятную гримасу на своем лице, собираясь ответить вам: когда вы в последний раз полагались на ангелов? И вообще, что собирается сообщить вам мой рассказ, как вы думаете? Быть может, именно это: не стоит полагаться на ангелов. Но, по правде говоря, это неверный ответ. Кто вообще, знает, каково истинное планирование там, что ангелы взаправду делают и куда это все ведет? Может быть, все же, это часть плана, иными словами, все его болезни, все эти приступы тошноты на улицах, пыль, сводки последних известий, террористы, и наши силы и их силы, все-все это часть плана и мы это не понимаем, не видим истинной цели? И Ицик не понимал это, но он чувствовал. Я знаю, не стоит бояться в этой жизни ничего, даже патетической речи. Потому я выпрямляюсь гордо и говорю: Ицик слышал шум ангельских крыльев. Понимаете, без того, чтоб видеть, куда они летят, и потому было ему особенно тяжко. Быть может, именно потому он выворачивал себя на улицах. Ну, иногда, не всегда, конечно.
Я говорю, выворачивал. И это верно, ибо выглядел он сморчком, маленьким и убогим. Он и вправду волочил свои ноги по тротуару, но все же приподнимал высоко голову время от времени. Вот, например, прожигал время с кем-либо или с двумя в прекрасные летние ночи на крыше дома, в котором проживал с родителями, потом спускался домой спать, весь вымазанный крошками извести, покрывавшей крышу. Да, верно, он волочил ноги, вглядывался в иную жизнь, и это верно, но вот ел он вовсе неплохо. До фильма съедал стейк. После фильма – стейк. С множеством острых приправ и жиром, текущим из мяса. Ну и шашлыки на шампурах в Яффо, печень, почки, селезенка, жареный гусь. А улицы всегда полны возможностей. Романтика была именно в этой обжираловке на улице. Разве это не романтика? Потому он и любил «кумзицы», ну, посиделки с дружками на Ярконе, в «Доме ведьмы», или на берегу моря, и в Глилот, и на дюнах в Ришоне. Короче, кумзиц в любом возможном месте. Вблизи от дома, на Ярконе и на берегу моря в Тель-Авиве это можно было делать чаще. В отношении же мяса можно попросить кого-нибудь, Деди или Йонатана, или Ури, желательно того, кто в этом разбирается, принести мясо. Нарезанное эллиптическими ломтями, на которых видны тонкие полосы как на древесном срезе, или на кубики, или свертки молотого мяса, бело-красные, подобно мозаике, где белое это жир. Все это завернуто в плотную, матово-белую бумагу, восковую, которую прокладывают между ломтями и она не впитывает кровь, и затем все следует хорошо-хорошо завернуть в бумагу, все впитывающую, чтобы кровь не пролилась в сумку и не оставила на ней пятна. Каждый сорт мяса на шампурах необходимо завернуть отдельно. И вообще работа с мясом весьма разнообразна и требует знаний. Стейки, к примеру, следует привезти на кумзиц еще слегка замороженными, а вот мясо к шашлыкам следует заранее разморозить, чтобы мясо было мягким и готовым к огню. Ребята делают это, в общем-то, на уровне, когда мы открываем пакеты с мясом у мангала, и нет особых претензий, а если и есть, так это чтобы произвести впечатление на девушек. Эфрат Бенгель, к примеру, любит всякие грубые замечания о том, что все замерзшее должно быть мягким, а все мягкое твердым, и о том, что здесь много крови. Так это длится в течение года, но когда наступает настоящий праздник, Ицик сам покупает мясо. Например, к кумзицу в день Независимости или если он полагает привести на вечеринку особу женского пола, ради которой следует постараться. Такую, что произведет на всех впечатление, и даже звезды будут смотреть на них с раскрытого над костром неба. Но теперь, в этой части рассказа, они глядят на них как на некие образы. Истинное его отношение к ночи я уже упоминал. Это ночи, когда он не может уснуть, ибо много раньше того, как выходишь к звездам, когда еще находишься в закрытой комнате, за каждым пятном в комнате скрывается кто-то. И он знает, что и вправду там стоит кто-то, и это вовсе не детские глупости. И он ничего сделать не может, не позвать этого кого-то, ибо есть у него знание, как того, скрытого, ощутить, но нет знания того, как обратиться к нему. Когда ты знаешь об этом ком-то, ты пришиблен до такой степени, что все слова исчезают у тебя с языка, а приветливое выражение стирается с лица. И это ничем не отличается от болезни. Той, о которой я уже писал.
И когда он хочет, чтобы праздник был настоящим, он сам идет на рынок Кармель с его прилавками, с зеленью, соленьями, и призывами продавцов: подходи, госпожа, и все такое прочее. Ему приятно разгуливать между прилавками. Ицик любит быть здесь. Может, потому, что на рынке Кармель все планы ангелов в отношении Ицика не так уж слышны, ибо уши его полны иным шумом, да и благодаря деловитости, с которой все ведут себя здесь. Все, и торговцы, и женщины, кружащиеся здесь с корзинками, пришли сюда не в игрушки играть, а заниматься делом. Так он идет от прилавка к прилавку, углубляется в узкие переулки, спускающиеся в квартал Керен Атейманим, который мало знаком ему, ибо еще мама говорила ему, что не стоит туда ходить, по спуску переулков, с потоками мусорных вод и крови битых птиц. Так она сказала ему, когда он был еще маленьким. И он иногда слышит ее голос.
На этот раз, решив принести нечто хорошее к костру в день Независимости, он не пошел в мясную лавку на углу улицы Раши рынка Кармель, где обычно покупает мясо. А пошел вглубь переулка, туда, где была бойня, откуда брали мясо все мясники, стоящие вдоль длинного прилавка, у которых он обычно покупал. Конечно, то была не единственная бойня на базаре, где мясники брали товар. В любом случае, зачем покупать у них, когда можно, как говорится, покупать товар у производителя. Там он свежее и там можно выбрать. Бойня недалеко, всего несколько шагов по спуску в переулок, небольшой одноэтажный дом, как и все дома в Керем Атей-маним. Во дворе горы решетчатых ящиков, клеток, одна на другой, ряд над рядом, возвышаются по обе стороны прохода к дому, почти на высоту самого дома, вернее, два ряда, высоких, шириной в один ящик, оставляют лишь узкий проход к бойне, и между ящиками попадаются и металлические, забранные изогнутыми прутьями. В большинстве они пусты и ждут, чтобы их отвезли в птичники наполнить снова. Только в некоторых из них сидят гуси и утки, измазанные грязью, и ждут своей очереди. Сидят, не двигаются, уличный шум не касается их. Быть может, от невероятной усталости и голода, ибо не кормят и не поят их перед убоем несколько дней, чтобы не пачкали дерьмом клетки и грузовики, привозящие их сюда, да и саму бойню, и вообще, чтобы было легче потом чистить их. Из-за усталости они молчаливы, сидят или стоят, понять трудно, один на другом, в невероятной скученности, до того, что невозможно повернуть шею, двинуть головой. Часть из них раньше разгуливала в больших ограждениях, под растянутыми пологами, делающими небо невероятно низким. Но часть просто родилась в клетках, прожила в них всю свою короткую жизнь и прибыла сюда. В клетках они росли сызмальства и теперь, став большими, теснят друг друга в том же узком пространстве между прутьями, и их везут на бойню, чтобы скорее освободить клетки для нового поколения. Ицик испытывает волнение от этого их покорного молчания и терпения. Потому пугает его шум бойни в первый момент, когда он переступает ее порог у входа в первое помещение. Это, по сути, для него и есть бойня, ибо в следующее помещение он не войдет. Ему просто не дадут войти туда. Он и в первое помещение ступил без разрешения. Помещение это, по сути, одна лента конвейера, по которому движутся гуси, по паре в корзине, одна за другой, приближаются к резиновой завесе, чтобы исчезнуть за ней во втором помещении, где их режут. А шум производят двое работников, вынимающих гусей из клеток и пересаживающих их в корзины в последний путь. Пустые клетки они выносят, внося новые, раскрывая их и снова загружая корзины. Шум добавляет машина, ржаво и неприятно скрежеща. Этого достаточно, чтобы напомнить Ицику помещение, примыкающее к кухне в кибуце его дяди, где так же скрежещет конвейер к посудомоечной машине, только вместо тарелок, ложек, ножей и вилок, здесь движутся корзины с гусями.
И тут охватывает его странное желание вырастить гуся. Он вдруг вспомнил голубятню на крыше их дома, которая давно пустует. Взять отсюда одного гуся домой, одного живого гуся, забрать его с этого неумолимого конвейера – вот, оказывается, та цель, которая подсознательно привела его сюда. Это видится ему самым главный в данный миг. И опять, точка. И к чертям кумзиц. Он забыл, зачем пришел сюда. Да и мясо ко всем чертям. Он смотрит на одного из гусей, белого, в пятнах грязи. Выглядит гусь немного больным. Ицик обращается к одному из работников. Я хочу этого гуся, говорит он, да, да, именно этого. Его он спасет, его он снимет с конвейера. Я хочу этого гуся, повторяет он, ибо работник не отвечает, а конвейер продолжает двигаться с гусем. Один из работников спрашивает его: почему именно этого? Этого будет трудно. И вообще трудно их различить после того, как их общиплют и обрежут им голову. Нет, говорит Ицик, я хочу его таким. Таким невозможно, отвечает работник, просто запрещено отдавать гуся необщипаным. И корзина с гусем уже исчезает за резиновой завесой. Я хочу этого гуся не общипанным, я хочу его живым, говорит Ицик. Он уже не настаивает именно на этом гусе, он просто хочет одного живого гуся. Невозможно вынести отсюда живого гуся, говорит второй работник, присоединившийся к беседе, хотя его не спрашивают, но Ицик повторяет и ему, что он хочет одного живого гуся, он пришел сюда купить живого гуся и вырастить его, да, он должен вырастить живого гуся, ему сказали, что здесь единственное место, где можно достать живого гуся, во всяком случае, в этом городе. Достать здесь гуся можно, но живого запрещено, говорят ему оба работника, а Ицик снова слышит шум ангельских крыльев, рядом с ним. Гусь за гусем, парами, сидят упорядоченно, головой в одном направлении, чтобы легче было их резать, они движутся мимо него, пара за парой, как при входе в Ковчег, и жалко Ицику рабочих, гнущих спину с утра до вечера, это же нелегко все время сгибаться и распрямляться, проклиная на чем свет стоит весь мир. И никто о них не заботится. Мерзейшая работа. Прямой путь к ортопеду, к болезненной старости, неуважительной и некрасивой. А затем ходить по улице с горбом, наклоняясь всем телом вперед, как будто торопятся куда-то, как будто есть некая цель впереди. Ну, точно, как сам Ицик ходит. Ходит? Да, как можно это назвать иначе? Он уже вышел из бойни. Нет у него живого гуся. Ничего он не вынес оттуда. И все голоса, что звучали в нем, а они и вправду звучали, опять привели к рвоте и даже головокружению. Вполне возможно, он даже потерял сознание. То, что он этого не помнит, ничего не меняет. Факт, что он встал, и факт, что опять не был реализован изначальный план его существования. Опять не взяли его отсюда. Ни один ангел не согласился взвалить на себя это дело.