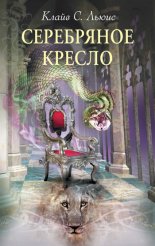Ночь в Лиссабоне Ремарк Эрих Мария

Огонь медленно угас. Она уснула, укрытая пестрыми костюмами. То была странная ночь. Позже я услышал гудение самолетов, от которого тихо дребезжали зеркала в рамах рококо.
Четыре дня мы были одни. Потом мне пришлось отправиться в ближайшую деревню за покупками. Там я услышал, будто из Бордо должны отплыть два корабля.
— Разве немцы еще не там? — спросил я.
— Они там, и они еще не там, — ответили мне. — Все дело в том, кто вы.
Я обсудил это известие с Элен. Она, к моему удивлению, отнеслась к нему довольно равнодушно.
— Корабли, Элен! — восклицал я возбужденно. — Прочь отсюда! В Америку. В Лиссабон. Куда угодно. Оттуда можно плыть дальше.
— Почему нам не остаться здесь? — возразила она. — В саду есть фрукты и овощи. Я смогу из них что-нибудь готовить, пока есть дрова. Хлеб мы купим в деревне. У нас еще есть деньги?
— Кое-что есть. У меня есть еще один рисунок. Я могу его продать в Бордо, чтобы иметь деньги на проезд.
— Кто теперь покупает рисунки?
— Люди, которые хотят сохранить свои деньги.
Она засмеялась.
— Ну так продай его, и останемся здесь. Я так хочу.
Она влюбилась в дом. С одной стороны там лежал парк, а дальше — огород и фруктовый сад. Там был даже пруд и солнечные часы. Елена любила дом, и дом, кажется, любил ее. Это была оправа, которая очень шла ей, и мы в первый раз были не в гостинице или бараке. Жизнь в маскарадных костюмах и атмосфера лукавого прошлого таили в себе колдовское очарование, рождали надежду — иногда почти уверенность — в жизнь после смерти, словно первая сценическая проба для этого была уже нами пережита. Я тоже был бы не прочь пожить так несколько сотен лет.
И все-таки я продолжал думать о кораблях в Бордо. Мне казалось невероятным, что они могут выйти в море, если город уже частично занят. Но тогда война вступила уже в сумеречную стадию. Франция получила перемирие, но не мир. Была так называемая оккупационная зона и свободная зона, но не было власти, способной защитить эти соглашения. Зато были немецкая армия и гестапо, и они не всегда работали рука об руку.
— Надо выяснить все, — сказал я. — Ты останешься здесь, а я попытаюсь пробраться в Бордо.
Элен покачала головой:
— Я здесь одна не останусь. Я поеду с тобой.
Я понимал ее. Безопасных и опасных областей, отделенных друг от друга, больше не существовало. Можно было ускользнуть целым и невредимым из вражеского штаба и лопасть в лапы гестаповским агентам на уединенном островке. Все прежние масштабы сдвинулись.
— Пробрались мы совершенно случайным образом, — сказал Шварц, — что вам, конечно, хорошо известно. Когда оглядываешься назад и начинаешь раздумывать, то вообще не понимаешь, как все это оказалось возможным. Пешком, в грузовике, часть пути мы однажды даже проехали верхом на двух огромных, добродушных крестьянских лошадях, которых батрак гнал на продажу.
В Бордо уже находились войска. Город не был еще оккупирован, но немецкие части уже прибыли. Это был тяжелый удар. Каждую минуту можно было ждать ареста. Костюм Элен не бросался в глаза. Кроме вечернего платья у нее были еще два свитера и пара брюк — все, что ей удалось сохранить. У меня был рабочий комбинезон. Запасной костюм лежал в рюкзаке.
Мы оставили свои вещи в кабачке, чтобы не привлекать внимания, хотя в то время многие французы перебирались с чемоданами с места на место.
— Наведаемся в бюро путешествий и справимся насчет пароходов, — сказал я.
У нас не было знакомых в городе. Бюро путешествий мы нашли довольно быстро. Оно еще существовало. В окнах висели рекламные плакаты: «Проведите осень в Лиссабоне», «Алжир — жемчужина Африки», «Отпуск во Флориде», «Солнечная Гранада». Большинство из них выцвело и поблекло, и только объявления, призывающие в Лиссабон и Гранаду, сверкали своими радужными красками.
Нам не пришлось, однако, дождаться, пока мы продвинемся к окошечку. Четырнадцатилетний паренек информировал нас обо всем самым исчерпывающим образом. Никаких пароходов нет. Об этом болтают уже несколько недель. На самом же деле, еще до прихода немцев, здесь был английский пароход, чтобы взять поляков и тех эмигрантов, которые записались в польский легион — добровольческую часть, которая формируется в Англии. Теперь же в море не выходит ни один корабль.
Я спросил, чего в таком случае ждут люди, которые томятся в бюро.
— Большинство ждут того же, что и вы, — ответил юный эксперт.
— А вы?
— Я уже не надеюсь выбраться отсюда, — ответил он. — Здесь я зарабатываю себе на хлеб. Выступаю в роли переводчика, специалиста по вопросу получения виз, даю советы, сообщаю адреса гостиниц и пансионов…
В этом не было ничего удивительного: голод не тетка. А взгляд юности на жизнь к тому же не затуманен предрассудками и сантиментами.
Мы зашли в кафе, и там четырнадцатилетний эксперт сделал для меня обзор положения. Возможно, немецкие войска уйдут из города. Тем не менее, получить в Бордо вид на жительство трудно. С визами еще тяжелее. В смысле получения испанской визы неплоха сейчас Байонна, но она переполнена. Лучше всего, кажется, Марсель, но это долгий путь.
— Мы его все равно проделали, — сказал Шварц. — Только позже. Вы тоже?
— Да, — сказал я. — Крестный путь.
Шварц кивнул.
— По пути я, конечно, попробовал обратиться в американское консульство. Но у Элен был вполне действительный немецкий нацистский паспорт. Как мы могли доказать, что нам угрожает смертельная опасность? Беженцы евреи, которые в страхе, без всяких документов, валялись у дверей консульства, казалось, действительно, нуждались в спасении. Наши же паспорта свидетельствовали против нас и паспорт мертвого Шварца — тоже.
Мы решили в конце концов вернуться в наш маленький замок. Дважды нас задерживали жандармы, и оба раза я использовал господствующую в стране неразбериху: я орал на жандармов, совал им под нос наши паспорта и выдавал себя за австрийского немца из военной администрации. Элен смеялась. Она находила все это смешным.
Я сам впервые набрел на эту идею, когда мы в кабачке потребовали наши вещи. Хозяин заявил, что он никогда не получал от нас на хранение никаких вещей.
— Если хотите, можете позвать полицию, — добавил он и посмотрел на меня, улыбаясь. — Но вы, конечно, этого не захотите!
— Мне этого не нужно делать, — сказал я. — Отдайте вещи!
Хозяин мигнул слуге: — Анри, покажи господину дверь!
Анри приблизился, скрестив на груди руки.
— Подождите, Анри, не провожайте меня, — сказал я. — Неужели вы горите желанием познакомиться с тем, как выглядит немецкий концентрационный лагерь изнутри?
— Ты, рожа! — заорал Анри и замахнулся на меня.
— Стреляйте, сержант, — сказал я резко, бросая взгляд вперед и мимо него.
Анри попался на эту удочку. Он обернулся. В это мгновение я изо всей силы двинул его в низ живота. Он зарычал и упал на пол. Хозяин схватил бутылку и вышел из-за стойки.
Я взял с выставки бутылку «Дюбонне», ударил ее об угол и сжал в руке горлышко с острыми гранями изломов. Хозяин остановился. Позади меня разлетелась вдребезги еще одна бутылка. Я не оглянулся, мне нельзя было спускать глаз с хозяина.
— Это я, — сказала Элен и крикнула:
— Скотина! Отдай вещи, или у тебя сейчас не будет лица!..
Она обошла меня с обломком бутылки в руках и, согнувшись, двинулась на хозяина.
Я схватил ее свободной рукой. Она, видимо, разбила бутылку «Перно», потому что по комнате вдруг разлился запах аниса. На хозяина обрушился поток матросских ругательств. Елена рвалась, стремясь освободиться от моей хватки. Хозяин отступил за стойку.
— Что здесь происходит? — спросил кто-то по-немецки позади.
Хозяин принялся злорадно гримасничать. Элен обернулась. Немецкий унтер-офицер, которого я перед этим изобрел, чтобы обмануть Анри, теперь появился на самом деле.
— Он ранен? — спросил немец.
— Эта свинья? — Элен показала на Анри, который, подогнув колени и сунув руки между ног, все еще корчился на полу. — Нет, он не ранен. Это не кровь, а вино!
— Вы немцы? — спросил унтер-офицер.
— Да, — сказал я. — И нас обокрали.
— У вас есть документы?
Хозяин усмехнулся. Видно, он кое-что понимал по-немецки.
— Конечно, — сказала Элен. — И я прошу вас помочь нам защитить наши права! — Она вытащила паспорт. — Я сестра обер-штурмбаннфюрера Юргенса. Видите, — она показала отметку в паспорте, — мы живем в замке, — тут она назвала место, о котором я не имел понятия, — и поехали на день в Бордо. Наши вещи мы оставили здесь, у этого вора. Теперь он утверждает, что он никогда не получал их. Помогите нам, пожалуйста!
Она опять направилась к хозяину.
— Это правда? — спросил его унтер-офицер.
— Конечно, правда! Немецкая женщина не лжет! — процитировала Элен одно из идиотских изречений нацистского режима.
— А вы кто? — спросил меня унтер-офицер.
— Шофер, — ответил я, указывая на свою спецовку.
— Ну, пошевеливайся! — крикнул унтер-офицер хозяину.
Этот тип за стойкой перестал гримасничать.
— Нам, кажется, придется закрыть вашу лавочку, — сказал унтер-офицер.
Элен с великим удовольствием перевела это, прибавив еще несколько раз по-французски «скот» и «иностранное дерьмо». Последнее мне особенно понравилось. Обозвать француза в его собственной стране дерьмовым иностранцем! Весь смак этих выражений мог оценить, конечно, лишь тот, кому приходилось это слышать самому.
— Анри! — пролаял хозяин. — Где ты оставлял вещи? Я ничего не знаю, — заявил он унтер-офицеру. — Виноват этот парень.
— Он лжет, — перевела Элен. — Он все спихивает теперь на эту обезьяну. Подайте-ка вещи, — сказала она хозяину. — Немедленно! Или мы позовем гестапо!
Хозяин пнул Анри. Тот уполз.
— Простите, пожалуйста, — сказал хозяин унтер-офицеру. — Явное недоразумение. Разрешите стаканчик?
— Коньяка, — сказала Элен. — Самого лучшего.
Хозяин наполнил стакан. Элен злобно взглянула на него. Он тут же подал еще два стакана.
— Вы храбрая женщина, — заметил унтер-офицер.
— Немецкая женщина не боится ничего, — выдала Элен еще одно нацистское изречение и отложила в сторону горлышко бутылки «Перно».
— Какая у вас машина? — спросил меня унтер-офицер.
Я твердо взглянул в его серые бараньи глаза:
— Конечно, мерседес, машина, которую любит фюрер!
Он кивнул:
— А здесь довольно хорошо, правда? Конечно, не так, как дома, но все же неплохо. Как вы думаете?
— Да, да, неплохо! Хотя, ясно, не так, как дома.
Мы выпили. Коньяк был великолепный. Анри вернулся с нашими вещами и положил их на стул. Я проверил рюкзак. Все было на месте.
— Порядок, — сказал я унтер-офицеру.
— Виноват только он, — заявил хозяин. — Ты уволен, Анри! Убирайся вон!
— Спасибо, унтер-офицер, — сказала Элен. — Вы настоящий немец и кавалер.
Он отдал честь. Ему было не больше двадцати пяти лет.
— Теперь только нужно рассчитаться, за «Дюбонне» и бутылку «Перно», которые были разбиты, — сказал хозяин, приободрившись.
Элен перевела его слова и добавила:
— Нет, любезный. Это была самозащита.
Унтер-офицер взял со стойки ближайшую бутылку.
— Разрешите, — сказал он галантно. — В конце концов, не зря же мы победители!
— Мадам не пьет «Куантро», — сказал я. — Преподнесите лучше коньяк, унтер-офицер, даже если бутылка уже откупорена.
Он вручил Элен начатую бутылку коньяка. Я сунул ее в рюкзак. У двери мы с ним попрощались. Я боялся, что солдат пожелает проводить нас до нашей машины, но Элен прекрасно избавилась от него.
— Ничего подобного у нас случиться бы не могло, — с гордостью заявил бравый служака, расставаясь с нами. — У нас господствует порядок.
Я посмотрел ему вслед. «Порядок, — сказал я про себя. — С пытками, выстрелами в затылок, массовыми убийствами! Уж лучше иметь дело со ста тысячами мелких мошенников, как этот хозяин!»
— Ну, как ты себя чувствуешь? — спросила Элен.
— Ничего. Я не знал, что ты умеешь так ругаться.
Она засмеялась:
— Я выучилась этому в лагере. Как это облегчает! Целый год заточения словно спал с моих плеч! Однако где ты научился драться разбитой бутылкой и одним ударом превращать людей в евнухов?
— В борьбе за право человека, — ответил я.
— Мы живем в эпоху парадоксов. Ради сохранения мира вынуждены вести войну.
Это почти так и было. Человека заставляли лгать и обманывать, чтобы защитить себя и сохранить жизнь.
В ближайшие недели мне пришлось заняться еще и другим. Я крал у крестьян фрукты с деревьев и молоко из подвалов. То было счастливое время: опасное, жалкое, иногда безрадостное, часто смешное. Но в нем никогда не было горечи. Я только что рассказал вам случай с хозяином кабачка. Вскоре мы пережили еще несколько таких историй. Наверно, они вам тоже знакомы?
Я кивнул:
— Их можно рассматривать и с комической стороны.
— Я научился этому, — подтвердил Шварц. — Благодаря Элен. Она была человеком, в котором совершенно не откладывалось прошлое. То, что я ощущал лишь изредка, превращалось в ней в сверкающую явь. Прошлое каждый день обламывалось в ней напрочь, как лед под всадником на озере. Зато все стремилось в настоящее. То, что у других растягивается на всю жизнь, сгущалось у нее в одно мгновение. Но это не была слепая напряженность. В ней все было свободно и расковано. Она была шаловлива, как юный Моцарт, и неумолима, как смерть.
Понятия морали и ответственности в их застывшем виде больше не существовали. Вступали в действие какие-то высшие, почти эфирные законы. У нее уже не было времени для чего-нибудь другого. Она взлетала, как фейерверк, сгорая вся, без капельки пепла. Ей не нужно было спасение, но я тогда этого еще не знал. Она знала, что ее не спасти. Однако я на этом настаивал, и она молча согласилась. И я, дурак, влек ее за собой по крестному пути, через все двенадцать этапов, от Бордо в Байонну, потом в Марсель, а из Марселя сюда, в Лиссабон.
Когда мы вернулись к нашему замку, он уже был занят. Мы увидели мундиры, пару офицеров и солдат, которые тащили деревянные козлы.
Офицеры горделиво расхаживали вокруг в летных бриджах, высоких блестящих сапогах, как надменные павлины.
Мы наблюдали за ними из парка, спрятавшись за буковым деревом и за мраморной статуей богини. Был мягкий, будто из шелка сотканный вечер.
— Что же у нас еще осталось? — спросил я.
— Яблоки на деревьях, воздух, золотой октябрь и наши мечты, — ответила Элен.
— Это мы оставляем повсюду, — согласился я, — как летающая осенняя паутина.
На террасе офицер громко пролаял какую-то команду.
— Голос двадцатого столетия, — сказала Элен. — Уйдем отсюда. Где мы будем спать этой ночью?
— Где-нибудь в сене, — ответил я.
— Может быть, даже в кровати. И во всяком случае — вместе.
16
— Вспоминается ли вам площадь перед консульством в Байонне? — спросил Шварц. — Колонна беженцев по четыре человека в ряд, которые затем разбегаются и в панике блокируют вход, отчаянно кричат, плачут, дерутся из-за места?
— Да, — сказал я. — Я еще помню, что там были разрешения для стояния, которые давали человеку право находиться вблизи от консульства. Но ничего не помогало, толпа теснилась у входа; когда открывались окна, стоны и жалобы превращались в оглушительные крики и вопли. Паспорта выбрасывались в окно. О, этот лес протянутых рук!
Более миловидная из двух женщин, которые еще оставались в кабачке, подошла к нам и зевнула:
— Смешно! — сказала она. — Вы все говорите и говорите. Нам, впрочем, пора спать. Если хотите еще где-нибудь посидеть, поищите в городе другой кабачок — они снова открыты.
Она распахнула дверь. Там уже было ясное утро в полном шуме и гаме. Сияло солнце. Она опять притворила дверь. Я взглянул на часы.
— Пароход отплывает не сегодня в полдень, — заявил вдруг Шварц, — а только завтра вечером.
Я ему не поверил. Он заметил это.
— Пойдемте, — сказал он.
Дневной шум снаружи, после тишины кабачка, показался сначала почти невыносимым. Шварц остановился.
— А тут по-прежнему бегут, кричат, — сказал он, уставившись на толпу детей, которые тащили в корзинах рыбу. — Все так же, вперед и вперед, словно никто не умирал!
Мы пошли вниз, к гавани. По реке ходили волны. Дул сильный холодный ветер. Солнечный свет был резким и каким-то стеклянным, тепла в нем не чувствовалось. Хлопали паруса. Здесь каждый по горло был занят утром, работой, самим собой. Мы скользили сквозь эту деловую сутолоку, как пара увядших листьев.
— Вы все еще мне не верите, что корабль отправляется только завтра? — спросил Шварц. В безжалостном, ярком свете он выглядел очень усталым и осунувшимся.
— Я не могу верить, — ответил я. — Раньше вы мне говорили, что он отправится сегодня. Давайте спросим. Это для меня слишком важно.
— Так же важно было это и для меня. А потом вдруг сразу потеряло всякое значение.
Я ничего не ответил. Мы пошли дальше. Меня вдруг охватило бешеное нетерпение. Безостановочная, трепещущая жизнь звала вперед. Ночь миновала. К чему теперь это заклинание теней?
Мы остановились перед какой-то конторой. Вход и стены были увешаны рекламными проспектами. В витрине красовалось объявление, которое гласило, что отплытие парохода откладывается на один день.
— Я скоро закончу, — сказал Шварц.
Я выиграл еще один день. Несмотря на объявление, я попробовал открыть дверь. Она была еще заперта. Человек десять со стороны наблюдали за мной, С разных сторон они шагнули раз, другой в мою сторону, когда я нажал ручку двери. Это были эмигранты. Когда они увидели, что дверь еще заперта, они отвернулись и снова принялись изучать витрины.
— Как видите, у вас еще есть время, — сказал Шварц и предложил выпить в гавани кофе.
Он с жадностью сделал несколько глотков горячего кофе и принялся растирать руки над чашкой, словно его охватил озноб.
— Который час? — спросил он.
— Половина восьмого.
— Через час, — пробормотал он. — Через час вы будете свободны. Я не хотел бы, чтобы то, что я вам рассказал, звучало Иеремиадой[21]. Похоже?
— Нет.
— Тогда что же это?
Я подумал:
— История одной любви.
Лицо его вдруг разгладилось.
— Спасибо, — сказал он, собираясь с мыслями. — В Биаррице началось самое страшное. Я услышал, что из городка Сен-Жан де Лю должен отправиться небольшой корабль. Это оказалось выдумкой. Когда я вернулся в пансион, я увидел Элен на полу с искаженным лицом.
— Судороги, — прошептала она. — Сейчас пройдет. Оставь меня.
— Я сейчас позову врача!
— Ни в коем случае, — выдавила она. — Не нужно. Сейчас пройдет. Уйди! Возвращайся через пять минут! Оставь меня одну! Делай, что я говорю! Не нужно никакого врача! Иди же! — закричала она. — Я знаю, что говорю! Приходи через десять минут опять. Тогда ты сможешь…
Она махнула рукой, чтобы я оставил ее. Она не могла больше говорить, но глаза ее были полны такой невысказанной, нечеловеческой мольбы, что я тут же вышел.
Я стоял в коридоре и смотрел на улицу. Потом я спросил врача. Мне сказали, что доктор Дюбуа живет недалеко. Здесь, через две улицы. Я побежал к нему: он оделся и пошел со мной.
Когда мы вошли, Элен лежала на кровати. Ее лицо было мокрым от пота, но она успокоилась.
— Ты все-таки привел врача, — сказала она с таким выражением, словно я был ее злейшим врагом.
Доктор Дюбуа, пританцовывая, подошел ближе.
— Я не больна, — сказала она.
— Мадам, — ответил Дюбуа, улыбаясь, — не позволите ли вы определить это врачу?
Он открыл свой чемоданчик и достал инструменты.
— Оставь нас, — сказала Элен.
В смятении я покинул комнату. Мне вспомнилось, что говорил врач в лагере. Я ходил по улице взад и вперед. Напротив был гараж. С вывески на меня смотрел толстенький рекламный человечек из резиновых шлангов. Эта эмблема резиновой фирмы Мишлен вдруг показалась мне мрачным олицетворением внутренностей, кишащих белыми червями. Из гаража доносились удары молотков, будто кто-то сбивал там жестяной гроб, и я внезапно понял, что опасность давно уже подстерегала нас — как блеклый фон, на котором жизнь обретала особенно резкие контуры, как облитый солнцем лес на встающей за ним грозовой туче.
Наконец, вышел Дюбуа. У него была маленькая остренькая бородка. Курортный врач, он, наверно, занимался главным образом тем, что прописывал безобидные средства от кашля и головной боли. Когда я увидел, как он, пританцовывая, приближается ко мне, меня охватило отчаяние. Я подумал, что во время этого затишья в Биаррице он был рад всякому пациенту.
— Ваша супруга… — сказал он.
Я уставился на него:
— Что? Говорите, черт возьми, правду, или не говорите ничего.
Тонкая, изящная усмешка на мгновение преобразила его лицо.
— Вот, — сказал он и, вытащив блокнот, написал что-то неразборчиво. — Возьмите и закажите это в аптеке. Попросите, чтобы рецепт вам вернули, потому что лекарство понадобится снова. Я сделал об этом пометку.
Я взял белый листочек.
— Что это? — спросил я.
— То, что вы не в состоянии изменить, — сказал он. — Не забывайте об этом. Изменить этого нельзя.
— Что это, я спрашиваю? Я хочу знать правду, не скрывайте от меня.
Он ничего не ответил.
— Если вам понадобится это, — повторил он, — обратитесь в аптеку. Вам отпустят.
— Что это?
— Сильное успокаивающее средство. Выдается только по рецепту врача.
Я спрятал рецепт.
— Сколько я вам должен?
— Ничего.
Пританцовывая, он пошел прочь, на углу обернулся:
— Принесите это и положите так, чтобы, ваша жена могла его найти! Не говорите с ней об этом. Она знает все. Она достойна преклонения.
— Элен, — сказал я. — Что все это значит? Ты больна. Почему ты не хочешь со мной об этом говорить?
— Не мучай меня, — сказала она мягко. — Позволь мне жить так, как я хочу.
— Ты не хочешь говорить со мной об этом?
Она покачала головой:
— Тут не о чем говорить.
— Я не могу тебе помочь?
— Нет, любимый, — ответила она. — На этот раз ты мне помочь не в силах. Если бы ты мог, я бы тебе сказала.
— У меня есть еще последний рисунок Дега. Я могу его здесь продать. В Биаррице есть богатые люди. Мы получим достаточно денег, чтобы поместить тебя в больницу.
— Чтобы меня арестовали? К тому же это не поможет. Поверь мне!
— Разве дело так плохо?
Она взглянула на меня с таким отчаянием, что я не смог больше спрашивать. Я решил позже пойти к Дюбуа и разузнать у него обо всем.
Шварц замолчал.
— У нее был рак? — спросил я.
Он кивнул.
— Я давно уже должен был догадаться об этом. Она была в Швейцарии, и там ей сказали, что можно еще раз сделать операцию, но это не поможет. Ее уже перед этим раз оперировали — это был шрам, который я видел. Тогда доктор сказал ей правду. Она могла выбирать: или еще пара бесполезных операций, или небольшой кусок жизни вне больницы, на свободе. Он пояснил ей также, что нельзя с уверенностью надеяться на то, что пребывание в клинике способно продлить ее жизнь. И она сказала, что не хочет больше операций.
— Она не хотела вам сказать об этом?
— Нет. Она ненавидела болезнь. Она пыталась игнорировать ее. Она ощущала ее как нечто нечистое, словно в ней копошились черви. Ей казалось, что болезнь — это животное, которое живет в ней, грызет ее и растет. Она думала, что я буду испытывать к ней отвращение, если я это узнаю. Быть может, она, кроме того, еще надеялась задушить болезнь тем, что не хотела ничего о ней знать.
— Вы никогда не говорили с ней об этом?
— Почти никогда, — сказал Шварц. — Она разговаривала с Дюбуа, и я позже заставил его рассказать мне все. От него я получил лекарство. Он сказал, что боли будут нарастать. Однако может случиться и так, что все закончится быстро и без страданий. С Еленой я ни о чем не говорил. Она не хотела. Она грозилась, что убьет себя, если я не оставлю ее в покое. И тогда я притворился, будто верю ей, что это были всего лишь судороги.
Мы должны были уехать из Биаррица. Мы взаимно обманывали друг друга. Она наблюдала за мной, а я следил за ней. Притворство обладало какой-то странной силой. Оно прежде всего уничтожало то, чего я боялся больше всего: ощущение времени. Деление на недели и месяцы распалось, и боязнь перед краткостью срока, еще отпущенного нам, стала благодаря этому прозрачной, как стекло. Страх ничего больше не скрывал — он скорее защищал наши дни. И все, что мешало, отскакивало обратно, не попадая внутрь. Припадки отчаяния овладевали мной, когда Елена спала. Она тихо дышала во сне. Я смотрел на ее лицо и на свои здоровые руки и понимал ужасную отъединенность, которую накладывает на нас наша оболочка, — пропасть, которую не преодолеешь никогда. Ничто из моей здоровой крови не могло спасти дорогую больную кровь. Этого нельзя понять, как нельзя понять и смерть.
Мгновение становилось всем. Утро лежало в невообразимой дали. Когда Элен просыпалась, начинался день. Когда же она спала и я чувствовал ее подле себя, начинались метания между надеждой и отчаянием, между планами, которые возводились на зыбких фундаментах мечты, верой в чудо и — философией «хоть миг, да мой», которая гасла с рассветом и бессильно тонула в тумане.