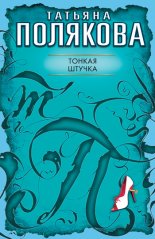Крейсера Пикуль Валентин

- Как слаба эскадра русских,
- Как ничтожны форты Порт-Артура…
- Гордо режет прозрачные воды
- Флот могучий – гордость Ниппона!
- Под лучом восходящего солнца
- Ледяная эскадра России растает.
- На высотах седого Урала
- Водрузим мы японское знамя!
Рожденная в департаменте печати военного министерства, эта песня не имела автора. Она являлась образцом коллективного творчества японских милитаристов. Из этого видно, что в Японии все было готово к войне заранее – даже песня! Не как у нас, грешных, которые в «табельные дни» уныло затягивали по приказу начальства: «Царствуй на страх врагам…»
***
Наступили «февральские репетиции» в Восточном институте, и директор Недошивин мимоходом спросил Панафидина:
– Надеюсь, теперь-то вы хорошо подготовились?
Пришлось краснеть. Покраснев, пришлось и соврать:
– Старался. Насколько возможно в моих условиях…
На экзамене засыпался не он, а пострадал рюриковский священник Алексей Конечников, который неудачно передал Панафидину шпаргалку. Профессор Шмидт учинил ему выговор:
– От вас не ожидал. Ну ладно – мичман, у него своя стезя. А вы-то… вы! В духовном чине иеромонаха, образец праведной жизни, а даже шпаргалку не сумели передать как следует. Я прощаю мичману его слабость в суффиксах, а вас прошу разъяснить: показателем какого падежа будет управляемый член «токоро» в сочетании «токоро-о-кэмбуцугао»? Отвечайте…
Панафидин в страхе господнем поспешил откланяться, оставив своего приятеля на съедение зверю-профессору, и он терпеливо дождался Конечникова в коридоре:
– Ну что там было с этим «токоро»?
– Нельзя же так! – обиделся священник. – Уж если вам суют шпаргалку, так умейте же принять ее как дар божий…
В воскресенье с коробкою шоколадных конфет «от Жоржа Бормана» (но проданных под вывескою «Кондитерская Унжакова» в доме № 35 по Светланской улице) мичман Панафидин снова навестил Алеутскую. Двери квартиры Парчевских открыла ему прислуга в чистеньком фартучке. В гостиной же мадам Парчевская раскладывала пасьянс, сообщив гостю, что ее Виечка вот-вот должна бы вернуться из сада Невельского:
– Вы знаете, сейчас среди молодежи пошла мода – крутить на коньках всякие пируэты. Причем порядочная девушка вынуждена дозволить партнеру держать себя за талию… вот так! – Панафидину было наглядно показано, как следует держать девицу, чтобы она не треснулась затылком об лед. – Игорь Петрович, – продолжала хозяйка дома, – оказался превосходным партнером, и сегодня они снова катаются на катке…
Панафидин с огорчением отметил, что Игорь Житецкий если не сделает карьеру на морях, то скоро обретет неземное счастье в этом состоятельном доме. Но тут, покрыв даму пик валетом, дама заметила коробку с шоколадом:
– О, как это мило с вашей стороны, господин мичман! Я как раз обожаю шоколад «от Жоржа Бормана»…
Но конфета, проделавшая долгий путь вдоль трассы Великого сибирского пути, пока не достигла лавки Унжакова, обрела такую же несокрушимую твердость, как и крупповская броня, в результате чего сильно пострадал передний зуб госпожи Парчевской… Бедному мичману пришлось еще извиняться:
– Простите, что я, volens-nolens, оказался невольным виновником этой чудовищной аварии…
От дальнейших неловких сочувствий его избавило появление с катка Вии Францевны – румяной с мороза, очаровательной.
– А-а, как я рада… Николай Сергеевич?
– Сергей Николаевич, – поправил ее Панафидин.
– Я все забываю, – капризно сказала девушка. – С этим папенькиным квартетом у нас бывает так много господ офицеров, что мне позволительно иногда и ошибаться.
Панафидин подумал, что в имени-отчестве Житецкого вряд ли она когда ошибалась. («Не везет! Да, не везет…»)
– С вашего соизволения, я вас покину, – сказал он.
– Ну куда же вы? – с пафосом воскликнула мадам Парчевская. – Вы как раз попали к обеду. Останьтесь.
– Конечно… останьтесь, – добавила Виечка.
Наверное, приглашение было лишь выражением общепринятой вежливости, но Панафидин по наивности принял его за чистую монету и, смущаясь, последовал к столу. Прислуга обогатила его обеденный прибор вилкою, которой и нанесла дополнительную сердечную рану, сказав с немалым значением:
– Вот вам… это любимая вилка Игоря Петровича!
(«О боже, куда деваться от успехов Житецкого?..»)
– Наверное, – произнес Панафидин, обуреваемый ревностью, – наверное, этого мичмана Житецкого скоро передвинут куда-нибудь подальше… вместе с его Рейценштейном!
Фраза была опасной. Виечка не донесла до своего нежного ротика тартинку, а мадам Парчевская, вооруженная ножом, временно отложила хирургическое вскрытие горячей кулебяки:
– Вместе с адмиралом? Почему вы так думаете?
Над кулебякой нависало облако пара, словно туман над Сангарским проливом, чреватым опасностями. Но Панафидин уже отчаялся в надеждах на счастье и сказал честно:
– Я держусь за флот, а мичман Житецкий держится за своего начальника. Флот России бессмертен, как и сама Россия, а вот о бессмертии начальства нам еще стоит подумать…
«Хорошо ли я делаю?» – успел сообразить мичман, но тут послышался странный завывающий звук, словно в небе какой-то ангел заработал пневматическим сверлом. Затем раздался тупой удар, дом на Алеутской дрогнул, а в кабинете доктора Парчевского само по себе спедалировало гинекологическое кресло. Брови мадам Парчевской вскинулись в удивлении.
– Кес-кесе? – сказала она, и тут же, как опытный анатом, вскрыла ножом теплую брюшину ароматной кулебяки.
Вия, как и ее мать, тоже ничего не поняла в происхождении этого шума над городом, и шутливо рассказывала Панафидину, что вопросительное «кес-кесе» памятно ей с гимназии:
– Что такое «кес-кесе»? Кошка кошку укусе. Кошка лапкой потрясе. Вот что значит «кес-кесе»… Смешно, не правда ли?
– Очень, – ответил Панафидин, весь в напряжении.
Снова этот сверлящий гул и… в з р ы в!
– Не понимаю, куда смотрит начальство? – возмутилась мадам Парчевская. – Объясните хоть вы, что происходит?
– Крейсера! Японские крейсера… здесь, в городе!
Схватив в охапку шинель, он кинулся бежать в гавань.
***
Этот день выдался ясным, солнечным, высокие сугробы подтаяли, с крыш нависали серые глыбы снега, готовые рухнуть на панели, тротуары заполняла публика, приодетая ради воскресенья; все лавки, шалманы и закусочные были переполнены людьми, которые не могли знать, что с океана уже подкралась угроза их городу, их жилищам, их жизням… С острова Аскольд японские корабли заметили еще утром, но определить их классификацию мешала дистанция. Оборона города не была оформлена до конца: форты Линевича и Суворова могли огрызнуться на противника лишь редкими пушками и пулеметами. К полудню четко выявился враждебный кильватер, во главе которого – под флагом Камимуры – двигался «Идзумо», за флагманом равнялись шесть броненосных крейсеров: «Адзумо», «Иосино», «Асамо», «Иватэ», «Касуги», «Яшимо». Огонь был открыт с двух бортов – японцы холостыми залпами сначала прогрели свои орудия.
С рейдовых «бочек» телефонные провода струились до помещения штаба бригады, но Рейценштейна на месте не было, на запросы с крейсеров отвечал Житецкий:
– Все понимаю, все доложу, все исполню…
Командиры крейсеров облаивали Рейценштейна:
– Наверняка при пожаре в публичном доме во время наводнения порядка все-таки больше, чем у нас на бригаде…
Рейценштейн получил информацию с моря лишь около 10 часов. Он велел поднимать давление в котлах крейсеров, вокруг которых «Надежный» уже с треском разрушал льдины. Услышав гулы с моря, гуляющая публика кинулась к берегу, а жители городских окраин спешили подняться в горы, чтобы с их вершин видеть подробности. Камимура вел крейсера Уссурийским заливом, оптика его дальномеров отражала сияние заснеженных гор – без признаков обороны. Японцы лупили по сопкам наугад, желая вызвать ответный огонь, чтобы засечь координаты батарей, чтобы разгадать схему обороны Владивостока. Но русские молчали (еще и потому, что многие батареи находились в проекте, а пушки других хранились в арсеналах порта).
В половине второго Камимура перенацелил огонь на город. Снаряды летели вдоль Светланской – в пустоши Гнилого Угла, терзали долину реки Объяснений, множество снарядов даже не взрывалось. Когда Панафидин, запыхавшийся, появился на «Богатыре», вся бригада крейсеров уже жила одним общим порывом: идти в бой, прямо здесь погибать на глазах жителей…
– В чем дело? Почему не выходим?
– «Рюрик» держит: у него котлы, как в городской бане, два часа не могут набрать нужного давления…
Но «Рюрик» был готов сражаться даже с малым запасом пара. А приказа о выходе в бой не поступало. Александр Федорович Стемман то натягивал, то сбрасывал с рук перчатки:
– Николай Карлыч ведет себя странно. Наверняка в этот момент силы небесные пачкают ему служебный формуляр отметками о непригодности… я еще мягко выражаюсь!
– Почему стоим? – орали от пушек матросы. – Тоже мне начальнички, называется. Хотим боя! Ведите…
Обстрел города продолжался. Один из снарядов врезался в дом полковника Жукова, пробил спальню его жены, развалил горячую печку, опрокинул всю мебель и, проткнув стенку, взорвал денежную кассу, выбросив на улицу часового, стоявшего возле знамени. Вопреки всем уставам (даже в нарушение их) знамя 30-го стрелкового полка вынесла из руин и пламени Мария Константиновна Жукова – супруга полковника.
Камимура явился с эскадрою ради устрашения Владивостока, но горожане на все перелеты и недолеты отвечали смехом и шутками, тут же раскупая у мальчишек еще неостывшие осколки – в качестве сувениров. (Так же, как всегда, ходили пешеходы по улицам, ездили извозчики.) Только два японских снаряда оказались роковыми. При обстреле Гнилого Угла одна граната врезалась в здание морского госпиталя, перебив пять больных матросов на кроватях. Другой снаряд с «Идзумо» рассек пополам беременную женщину Арину Кондакову. Всего же японцами было выпущено по Владивостоку двести снарядов.
Офицеры ходили по мостикам крейсеров, ругаясь:
– Понос у нашего Николая Карлыча… великолепный понос! На кой черт тогда адмиральские орлы цеплять на погоны, если пора в клинику Бехтерева – подлечить свои нервы…
45 минут обстрела закончились. Камимура уже отводил крейсера в море, когда Рейценштейн велел с «бочек» сниматься.
– Догоним… всыпем, – убежденно говорил он.
Но за островом Аскольд было уже пусто, и лишь далеко развевало из труб японской эскадры пласты перегретого дыма от сгоревших английских кардифов. Всем было стыдно, и все дружно обругивали Рейценштейна:
– Кому он хочет замазать глаза? Если говорить о погоне, то самый тихоходный «Адзумо» даст все двадцать узлов, а наш несчастный «Рюрик» едва вытянет восемнадцать… Стыдно перед жителями, которые так наивно и горячо надеялись на нас!
В 17.00 бригада крейсеров вернулась на рейд…
Комендант города названивал в штаб бригады, он сказал Рейценштейну, что у него теперь мало надежд на защиту обывателей от противника, а потому завтра же он переводит Владивосток на осадное положение.
– Предупреждаю: в своем докладе наместнику я не скрою от него горькой правды, что ваши крейсера были выведены в море лишь через час после обстрела города японцами…
Николай Карлович велел подавать в кабинет ужин, усадив Житецкого писать донесение. Игорь Петрович, владея пером, составил хвастливую фальшивку, и адмиралу он угодил:
– Пожалуй, все верно. Но хорошо бы усилить этот жуткий момент, когда мы гнались за Камимурой…
В новой редакции фраза о преследовании японцев дополнилась словами «я гнался за ним», и за эту героическую приписку, очевидно, следовало ожидать повышения по службе. Впрочем, адмирал Камимура тоже не был честен в своем рапорте, оправдывая свой отход закатом солнца. «Неприятель так и не вышел», – сообщал он Того (и был почти прав).
На «Богатыре» воцарилось нервное уныние:
– Макаров вот-вот появится в Порт-Артуре, и, надо полагать, Рейценштейну от него достанется…
Вечером Панафидин позвонил на Алеутскую:
– Это вы, Игорь Петрович? – спросила Виечка.
– Нет, это его противоположность. Простите, я сегодня так спешил, что впопыхах оставил у вас свою фуражку.
– Ну, заходите… – ответила Виечка.
***
Командующий флотом Тихого океана вице-адмирал Макаров прибыл в Порт-Артур утром 24 февраля – поездом. Флаг Старка еще колыхался над «Петропавловском», а Макаров поднял свой на крейсере «Аскольд». Не будем думать, что все как один радовались его прибытию, ибо некоторых в Порт-Артуре вполне устраивал девиз наместника: «Не рисковать!» Но Старк сдал эскадру – Макаров принял ее от Старка.
Старк признался, что он предвидел катастрофу внезапного нападения и заранее предлагал наместнику меры предосторожности. Он показал Макарову свой рапорт, на котором зеленым карандашом была начертана резолюция: «ПРЕЖДЕВРЕМЕННО».
– А теперь из меня сделали столб, возле которого любая собака желает задрать ногу. Наместнику же очень удобно не опровергать клеветы, дабы сберечь чистоту своего мундира…
Макаров в первую очередь старался изгнать с эскадры «дух казармы», чтобы моряки ощутили себя мореходами, а не жильцами кораблей, отданных им для квартирования. Так же не терпел он вмешательства генералов в дела эскадры:
– Кавалерии флотом не командовать! Армию нельзя и близко подпускать к нашим делам. Если это, не дай бог, когда-либо случится, эскадра погибнет… Но и средь нас, людей флота, собралось немало таких, кто не знает Дальнего Востока и его условий, кто приехал сюда отбывать цензовые сроки ради повышения в чинах. Таких будем удалять… беспощадно!
Очевидец писал, что матросы, глядя на флаг Макарова, даже крестились. Требовалось расшевелить флагманов, чтобы командиры кораблей ощутили великое чувство самостоятельности.
– Я, – выступил перед ними Макаров, – требую от вас полной откровенности, а полного согласия со мною… не потерплю. Я прежде всего человек, потому могу ошибаться. Раз и навсегда условимся: лучше уж между нами разразится хороший скандал, только бы не ваше чинопочитательное согласие с моей персоной. Война – дело живое, она равнодушия и казенщины не терпит.
Степан Осипович уже знал о делах на бригаде крейсеров Владивостока, знал, что Камимура ушел от города безнаказанно, знал, что Рейценштейна в море и палкой не выгнать. Он, командующий флотом, принял важное решение…
– Если Иессен прибыл, – сказал он флаг-офицеру, – пусть явится ко мне сразу. Я должен его видеть.
На вызов Макарова явился контр-адмирал Карл Петрович Иессен[1], бывший командир крейсера «Громобой», выходец из семьи флотского врача. Макаров сказал, что назначает его командовать бригадою владивостокских крейсеров:
– Рейценштейн начал страдать водобоязнью, будто укушенный бешеной собакой. А водобоязнь адмиралов хорошо излечивается службою на берегу. Два его выхода на позиции оказались бесполезны, а во время обстрела Владивостока он попросту… ослабел! Надеюсь, подробности вам известны.
(У Макарова была готова для Иессена четкая инструкция, которую я, да простит мне читатель, привожу в диалоге.)
– Что там творится во Владивостоке? Город наводнен агентурой, население устраивает крейсерам почетные проводы, форты салютуют, а оркестры играют веселые марши…
В инструкции Иессену указывалось: «Имейте в виду, что неприятель попирает всякие международные законы, а потому будьте осторожны и недоверчивы… Примите все меры, чтобы о дне вашего выхода из Владивостока ни прямо, ни косвенно не было сообщено никому и, кроме шифрованной телеграммы на мое имя, никуда не было посылаемо известий».
– Заведите наконец придирчивых цензоров на телеграфе, чтобы вникали в каждую из телеграмм, идущих в Корею.
– Но как сделать, Степан Осипович, чтобы жены матросов и офицеров не могли устраивать проводов своим мужьям?
– Приучите все население Владивостока к тому, что ваши крейсера часто и неожиданно для всех покидают рейд ради боевых учений. Погода и ваш выход на серьезную операцию будет воспринят жителями как обычная тренировка. Желательно даже разболтать в городе, что рейд покидаете ненадолго. Не допускайте проводов, словно на вокзале… Гавань не вокзал, а отход крейсеров – это не отбытие пассажирского поезда.
Макаров внушал Иессену: «Неприятель чрезвычайно настойчив и весьма отважен, разбить его можно лишь умением и хладнокровием… Поговорите с командирами (крейсеров) о том, как вы будете действовать в случае открытой схватки».
– Избегать ли мне боя или самому влезать в схватку?
– Такую схватку, – поучал Макаров, – не ставьте для себя главной задачей, но считайте ее возможной. Я никак не стесняю вашу инициативу, милейший Карл Петрович, но любые ваши действия во вред неприятелю всегда будут уместны.