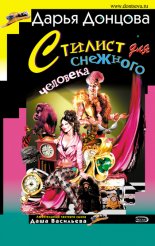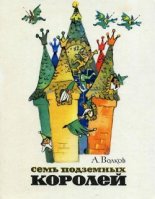Сонечка Улицкая Людмила

Ее вольное и бесцеремонное даже обращение со священным инструментарием природы обернулось для нее тем, что инстинкты ее немного заблудились и, деля со стройными мальчиками веселые телесные удовольствия, душой она тосковала по высокому общению, соединению, слиянию, взаимности, не имеющей ни границ, ни берегов. Ясю выбрала ее душа, и всеми усилиями разума стремилась она обосновать этот выбор, дать ему рациональное объяснение.
- Ах, мама, она кажется слабой, воздушной, а сильная - необычайно! - восхищалась Таня, рассказывая матери о своей новой подруге, о жестокой детдомовщине, побегах, побоях, победах. Яся в своих рассказах Тане из природной осторожности кое-что обошла: про ссылку матери, про детскую дешевую торговлю телом, про укоренившуюся привычку мелочного воровства.
Но Сонечке и сказанного было достаточно, чтобы заранее отозваться на детское страдание и догадаться о том, что от Тани оставалось сокрытым. "Бедная, бедная девочка, - думала про себя Соня. - И наша Танечка вот так же могла бы, ведь столько всего было…"
И она вспоминала все те многие случаи, когда бог уберег их от ранней смерти: как Роберта выбросили из вагона александровской электрички, как рухнула балка в помещении, где она работала, и половина комнаты, из которой она за минуту до этого вышла, оказалась заваленной темным старинным кирпичом, и как умирала она на больничном столе после гнойного аппендицита… "Бедная девочка", - вздыхала Сонечка, и эта незнакомая девочка приобретала черты Тани…
До самого Нового года Таня не могла зазвать Ясю в гости. Яся, пожимая плечами, все отказывалась, но не объясняла Тане свой упорный отказ.
А дело было в том, то ею давно уже овладело сильное и смутное предчувствие нового многообещающего пространства, и она, как полководец перед решающим боем, тайно и тщательно готовилась к этому визиту, связывая с ним самые неопределенные надежды.
В магазине "Ткани" у Никитских ворот она купила кусок холодной на ощупь и горячей на глаз, какого-то ошпаренного цвета тафты и поздними вечерами шила мельчайшими стежками, на руках, нарядное платье - в тишине и одиночестве, молитвенно и сосредоточенно, как беременная женщина, немного боясь сглазить заблаговременностью шитья одежд нерожденному ребенку самый акт появления его на свет.
Она пришла в двенадцатом часу тридцать первого декабря, к накрытому столу, за которым сидели и барбизонец, и поэт, и сверх того режиссер с птичьим носом и лягушечьим ртом. Она еще только не разглядела их значительных лиц, но уже внутренне ликовала, понимая, что попала в яблочко предвкушаемой мишени. Именно они, эти взрослые самостоятельные мужчины, и нужны ей были для разгона, для взлета, для полной и окончательной победы.
Ласковый и благодарный взгляд она бросила в сторону Тани, которая счастливо и розово сверкала ей навстречу подкрашенными щеками. Таня до последней минуты не была уверена, что Яся придет, и теперь гордилась Ясиной красотой, как будто сама ее придумала и нарисовала.
Платье Яси громко и шелково шуршало, а тяжелые русые волосы были цельными, словно отлитыми из светлой смолы, и лежали на плечах как подрубленные, точно как у Марины Влади в знаменитом в тот год фильме "Колдунья". Вырез платья был глубоким, и козьи ее груди, прижатые одна к другой, образовывали нежную дорожку вниз, и талия была тоненькая и еще специально утянутая в рюмочку, и щиколотки тонки под плотными икрами, и запястья казались особенно узкими из-за некоторой припухлости предплечий. Именно не гитарная грубость, а стеклянная прелесть маленькой рюмки, мимолетно отметил про себя Роберт Викторович.
Несколько разочарована была Сонечка. Заранее отозвавшись на трудную судьбу Таниной подруги, она не была готова вместо золушки-замарашки увидеть нарядную красотку с подведенными глазами, во всей притягательности светлой славянской красоты.
Яся отвечала на вопросы односложно, глаза ее были опущены, пока она не вскидывала утяжеленные тушью ресницы, чтобы вымолвить, именно вымолвить со смиренно-королевской интонацией своей покойной матери: "Спасибо, нет, благодарю вас, да…" В немногословных ее ответах чуткое ухо могло уловить польский акцент - эти слипшиеся "в" и "л".
Сонечка с умилением подкладывала Ясе на тарелку еды. Яся вздыхала, отказывалась, а потом все-таки съедала и утиную ножку, и еще кусочек студня, и салат с крабами.
- Я уже больше не могу, благодарю вас, - обаятельно и почти жалобно говорила Яся, а Сонечка все не могла выпустить из своего сердца сочувствия: сирота, бедная девочка, детдом… Господи, ну как же так можно…
Барбизонец Александр Иванович уже пел темным дьяконским голосом оперные арии на итальянском языке, напившийся Гаврилин безумно смешно изображал, как собачка ищет блоху. Закатывая глаза, рычал то злобно, то блаженно, залезал головой себе под мышку, всех смешил до изнеможения. Роберт Викторович улыбался, посверкивая двойным металлом глаз и свежевставленных зубов.
В третьем часу пришел Алеша Питерский, Танин рьяный поклонник, с будущей славой, которую он уже на себя примеривал, и мешочком серой травы - был он из первых любителей азиатского кайфа на невских берегах. Алешка не чинясь расчехлил гитару и спел несколько печально-остроумных и смешных песен, яростно кривляясь и растягивая петрушечий рот балаганного актера.
Алеша был влюблен в Таню, Танечка - в Ясю, а Яся в этот новогодний вечер влюбилась в Танин дом. Под утро, когда гости разошлись и девочки помогли собрать со стола, Соня оставила Ясю ночевать в пустующей угловой комнате, где и обнаружил ее днем Роберт Викторович, зайдя туда в поисках рулона серой бумаги.
В доме было тихо. Соня, убрав в доме после гостей, уехала к сестре, Таня спала в своей светелке, а Яся, проснувшись от звука скрипнувшей двери, открыла глаза и довольно долго наблюдала, как Роберт Викторович роется за шкафом, тихонько чертыхается. Она смотрела ему в спину и все пыталась вспомнить, на какого именно американского актера он похож. Видала она такое же вот лицо, такой же серебряный бобрик в польском журнале "Пшегленд артистичен", который изучала от корки до корки. Она никак не могла вспомнить фамилию актера, но ей показалось, что даже и рубашка у того американца была такая же, в крупную и редкую клетку.
Она села на кровати. Кровать скрипнула. Роберт Викторович обернулся. Из огромной Сониной ночной рубахи выглядывала маленькая светлая голова на короткой шее. Девчушка облизнулась, улыбнулась, потянула рубашку за рукава, и она легко поползла вниз через горловину. Двинув ногой, сбросила на пол одеяло, встала во весь рост, и огромная рубаха легко соскользнула вниз. Детскими короткими ступнями она пробежала по холодному крашеному полу к Роберту Викторовичу, вынула из его рук наконец-то отысканный рулон и, как будто заменив его собой, оказалась в руках Роберта Викторовича.
- Один разок, и быстренько, - сказала деловитая фея без всякого кокетства, как говорила обычно своему благодетелю милиционеру Малинину. Но там-то она знала, зачем это делает, а здесь - ни корысти, ни расчета. И сама не знала почему. Из благодарности к дому… И еще - он здорово был похож на того актеpa, американского, знаменитого. Питер О'Тул, что ли…
А про то, что мужчина может отказаться от предложенной ему милости, знака внимания и благодарности, она просто и не знала. Маленькая, как будто на токарном станке выточенная из самого белого и теплого дерева, тянула она к нему свое праздничное личико.
Чуть попятившись к шкафу, он сказал строго: "Быстро под одеяло, простудишься!" - и вышел из комнаты, забыв рулон бумаги. Никогда не видел он такой лунной, такой металлической яркости тела.
Яся укрылась еще не успевшим остыть одеялом и через минуту опять спала. Спала с наслаждением, и во сне не забывая о сладости этого домашнего сна в домашнем доме, и ночная Сонина рубашка, которую она уже больше на себя не надела, лежала у нее под щекой и райски пахла.
А ужаленный Роберт Викторович ходил по соседней комнате, ежился и крутил головой. Ранние сумерки только что начавшегося года смотрели в окно, и Соня все не шла, а Таня не спускалась вниз по скрипучей лестнице. И он осторожно отворил дверь в угловую комнату, тихо подошел к кровати. Девчонка была укрыта почти с головой, только русый затылок был на поверхности. Он сунул свои сухие ладони под теплый сугроб одеяла. И вмешательство его рук в Ясин сон не оборвало его, ничего не испортило. Яся развернулась навстречу его рукам, и еще одна, последняя жизнь началась у Роберта Викторовича.
Честный новогодний мороз к вечеру окреп. На столе подсыхали развороченные остатки прошлогоднего уже кушанья. Роберт Викторович не ел. Вчерашняя еда вызывала отвращение, и он думал о своих мудрых предках, сжигавших остатки пасхальной еды, не допуская такого вот ее поношения…
Сонечка бессмысленно размешивала ложечкой чай, в котором не было сахара, и все собиралась сказать мужу важное, но не находила для этого подходящих слов.
Роберт Викторович с задумчивым лицом ловил глухие отзвуки счастливого гула в сердцевине своих состарившихся костей и пытался вспомнить, когда уже он испытывал это… откуда странное чувство припоминания… Может, что-то похожее было в детстве, когда, накувыркавшись досыта в тяжелой днепровской воде, он вылезал на хрусткий перегретый песок, зарывался в него и грелся в этой песчаной бане до сладкого отзыва в костях… И еще что-то схожее с острым озарением детства, когда, выйдя ночью по малой нужде, маленький Рувим, сын Авигдора, превратившийся с годами в Роберта Викторовича, запрокинул голову и увидел, что все звезды мира смотрят на него сверху живыми и любопытствующими глазами, и тихий перезвон покрывает небо складчатым плащом, и он, маленький мальчик, как будто держит на себе все нити мира, и на конце каждой звенит пронзительный мелкозвучный колокольчик, и во всей этой гигантской музыкальной шкатулке он и есть сердцевина, и весь мир послушно отзывается на биение его сердца, на каждый вздох, на ток крови и на излияние теплой мочи… Он опустил задранную ночную рубашку, поднял медленно вверх руки, словно дирижируя этим небесным оркестром… И музыка пронизала его насквозь, сладкой волной проходя по сердцевине костей…
Он забыл, забыл эту музыку, и только воспоминание о ней долгие годы не стиралось…
- Роберт, пусть эта девочка поживет у нас в доме. Угловая свободна, - тихо сказала Сонечка, остановив ложечку в стакане.
Роберт Викторович посмотрел на жену удивленным взглядом и сказал свое обычное, что говорил всегда, когда речь шла о вещах, мало его трогающих:
- Если ты считаешь нужным, Соня. Делай, как считаешь нужным.
И вышел в свою комнату.
Яся перебралась в дом Сонечки. Ее молчаливое миловидное присутствие было приятно Соне и ласкало ее тайную гордость - приютить сироту, это была "мицва", доброе дело, а для Сони, с течением лет все отчетливей слышавшей в себе еврейское начало, это было одновременно и радостью, и приятным исполнением долга.
В ней просыпалась память о субботе, и тянуло к упорядоченно-ритуальной жизни предков с ее незыблемой основой, прочным, тяжелоногим столом, покрытым жесткой торжественной скатертью, со свечами, с домашним хлебом и тем семейным таинством, которое совершалось в канун субботы в каждом еврейском доме. И, оторванная от этой древней жизни, она вкладывала весь свой непознанно-религиозный пыл в кухонную возню с мясом, луком и морковью, в жестко-белые салфетки, во всеустройство стола, где судок для приправ, подставки для ножей, тарелочки справа, слева грамотно была расставлены, как велел совсем другой канон, новый, буржуазный. Но до этого Соня не додумалась.
Последние годы, годы относительного благополучия, ей вдруг стала мала ее семья, и она втайне горевала, что не было ей суждено народить множество детей, как было принято в ее племени. Она все прикупала, прикупала разрозненные кузнецовские соусники и фаянсовые английские тарелки по баснословно блошиным ценам в комиссионке на Нижней Масловке, словно настраиваясь на грядущее многочадие дочери Тани.
Религия Сони, как и Библия, состояла из трех разделов. Только вместо Торы, Небиим и Кебутим это было Первое, Второе и Третье.
Ясино присутствие за столом создавало Соне иллюзию увеличения семьи и украшало застолье - так естественно и мило она держалась за столом, ела как будто бы немного, но с несгораемым аппетитом, до смешной усталости, потому что память о детском постоянном голоде была в ней неистребима. Откидываясь на спинку стула, она тихонько стонала:
- Oй, тетя Соня! Так вкусно было… Опять я объелась…
А Сонечка блаженно улыбалась и ставила на стол низенькие стеклянные вазочки с компотом.
Прошло два месяца. Благодаря Ясиной кошачьей приспосабливаемости и врожденной деликатности она не только заняла угловую комнату, но сверх того определилась в семье в статусе полуродственницы.
Ранним утром она убегала мыть шершавые школьные коридоры и слякотные уборные, вечерами вместе с Таней ходила в ту же школу на занятия. Иногда до школы не доходили, прогуливая убогие уроки засыпающих учителей. Их отношения с Таней определились как сестринские, причем Таня, по возрасту младшая, с переездом Яси в их дом незаметно заняла место старшей сестры, и ее влюбленность в Ясю перестала быть такой восторженной и напряженной.
Девочки часто забирались в Танину светелку. Таня, усевшись в позе лотоса, играла свою неверную музыку на флейте, а Яся, свернувшись клубком у ее ног, немного шепелявым шепотом читала вымирающие пьесы Островского. Готовилась в театральное училище.
Соню умиляло Ясино пристрастие к чтению. К тому же ей казалось, что Танечка попутно приобщается к большой культуре. В этом она заблуждалась.
Если девочки о чем и говорили, то Яся главным образом довольствовалась ролью вежливой слушательницы. Без особого интереса и внутреннего сочувствия она слушала о Таниных любовных приключениях. Энтузиазм подруги был ей совершенно чужд, а Таня ошибочно относила Ясино равнодушие за счет незначительности ее собственного опыта в сравнении с богатством переживаний подруги. Ей и в голову не приходило, что Яся - с двенадцати лет впервые - свободна от необходимости впускать в свое совершенно незаинтересованное тело "ихние противные штучки"…
Роберт Викторович от Ясиного присутствия изнемогал. Этот эпизод в угловой комнате, в ранних сумерках первого дня года, он вспоминал как наваждение, как подсмотренный чужой сон. Ясю он впускал теперь лишь в обзор бокового зрения, воровато услаждая свой глаз ее тихой белизной, и плавился на огне молодого желания. Никаких даже самых малых движений в ее сторону он не допускал, но не потому, что какие-либо мелкие моральные мотивы его беспокоили. Желание принадлежало ему, женщина ему не принадлежала и, более того, занимая Сониными стараниями табуированное место рядом с дочерью, принадлежать не могла.
Он часами смотрел в тонко меняющуюся от освещения и влажности белизну снега за окном, вглядывался в плавкий белый бок фаянсового кувшина, в обрезки крупнозернистого ватмана на столе, в тускло-белые гипсовые отливки старых рельефов с едва намеченными в них телами букв древнего алфавита.
На исходе второго месяца он снова стал писать - через двадцать лет после лагерных упражнений, прихотливого копирования скучной дичи.
Теперь это были сплошь белые натюрморты, в них выстраивались многотрудные мысли Роберта Викторовича о природе белого, о форме и фактуре, порабощающей живописное начало, и слогами, словами его размышлений были фарфоровые сахарницы, белые вафельные полотенца, молоко в стеклянной банке и все то, что житейскому взгляду кажется белым, а Роберту Викторовичу представлялось мучительной дорогой в поисках идеального и тайного.
Однажды, когда зима уже стронулась и снежное великолепие Петровского парка увяло и съежилось, ранним утром они одновременно вышли на крыльцо: Роберт Викторович с двумя подрамниками и рулоном крафта и Яся с красной матерчатой сумочкой, в которой бултыхались два вечерних учебника.
- Подержите, пожалуйста. - Он сунул ей рулон в руки со смутным чувством, что нечто подобное уже где-то промелькивало.
Яся поспешно притянула к себе рулон, пока он поудобнее перехватывал подрамники.
- Может, я помогу вам донести, - предложила, не поднимая глаз, девочка.
Он молчал, она подняла голову, и впервые за время их совместного проживания под одной крышей он острыми зрачками воткнулся в самую сердцевину ее безмятежных глаз. Он кивнул, и она согласно опустила голову в белой пуховой косынке и пошла за ним, колдовски ступая детскими резиновыми ботиками в его следы.
Он не оборачивался всю недлинную дорогу. Так, гуськом, они дошли до подъезда многоэтажного дома, где в длинных коридорах, дверь к двери, трудолюбиво и деловито созидали прилично оплачиваемое социалистическое искусство, вынося время от времени в унылые коридоры громоздкие изводы лысого гиганта мысли…
Прижимаясь спиной к гранитному боку монумента, неловко придерживая ногой дверь, он пропустил вперед Ясю. В момент, когда дверь захлопнулась, он почувствовал сильное и гулкое сердцебиение, но не в груди, а где-то в глубине живота. Сердцебиение восходило в нем вверх, как солнце от горизонта, морской гул наполнил голову, виски, даже кончики пальцев. Он поставил подрамники и принял рулон из Ясиных рук. Тут он и вспомнил, когда это было.
Он улыбнулся, положив руку на отсыревший пух ее косынки, а она уже сметливо расстегивала огромные пуговицы своего самодельного пальто, которое многие вечера шила из старого пледа вместе с Сонечкой. В тот год был припадок моды на большие пуговицы. И юбка Яси, и блузка были ушиты стаями коричневых и белых пуговок, и она, сбросив пальто, серьезно и вдумчиво вытаскивала их одну за другой из аккуратно обметанных петель.
Сердцебиение, достигшее набатной мощи, заполнившее все закоулки самых малых капилляров, разом вдруг прекратилось, и в ослепительной тишине она села на сломанное кресло, поджав под себя тугие ножки. Потом отпустила на свободу стянутые на макушке резинкой волосы и стала ждать, покуда он выйдет из своего столбняка и возьмет ту малость, которой ей было не жаль…
С того дня Яся почти каждый день забегала в мастерскую. Горячим и странно безмолвным был их роман. Обычно она приходила, садилась в раз и навсегда избранное кресло и распускала волосы. Он ставил чайник на плитку, заваривал крепкий чай, распускал в белой эмалированной кружке пять кусков сахара - по детдомовской памяти она все не могла наесться сладким - и ставил перед ней белую фарфоровую сахарницу, потому что пила не только внакладку, но и вприкуску.
Он смотрел на нее долго-долго, пока она медленно пила свой сироп, а он всегда вдумывался в ее белизну, которая ярче радуги сияла перед ним на фоне матовой побелки пустой стены. И блеск эмали кухонной кружки в ее розовой, но все же белой руке, и куски крупного колотого сахара в кристаллических изломах, и белесое небо за окном - все это хроматической гаммой мудро восходило к ее яично-белому личику, которое было чудо белого, теплого и живого, и лицо это было основным тоном, из которого все производилось, росло, играло и пело о тайне белого мертвого и белого живого.
Он любовался ею, а она это чуяла и возносилась под его взглядом, таяла от маленькой женской гордости, наслаждалась своей безраздельной властью, потому что знала: скажет она ему свое бесстыдно-детское: "Хочешь разочек?" - он кивнет и отнесет ее на покрытую старым ковром тахту, а нет, так и будет на нее таращиться, бедняга, дурачок, чудной, совсем особенный, и любит ее безумно…
"Безумно", - повторяла она про себя, и гордая улыбка чуть трогала ее губы, и он чувствовал глуповатое ее торжество, но все смотрел и смотрел на нее, пока она не говорила:
- Ну все… Я пошла…
Вопросов он ей никогда не задавал, она о себе тоже ничего не рассказывала, да в этом и не было нужды. Его безграничная тяга к ней, как и ее неизменное желание находиться рядом с ним, не нуждалась ни в каких словесных подтверждениях. В его присутствии она чувствовала себя уже совершившей свою задуманную карьеру: богатой, красивой и свободной. И театральное училище было ненужным.
В середине апреля он начал писать ее портрет. Сначала один, с чайником и белыми цветами, потом другой. И стала образовываться целая анфилада белых лиц, так что одно уходило в тень другого, снова проступало, а лица эти были связаны каким-то оптически обдуманным способом между собой.
Роберт Викторович писал быстро. И хотя она была рядом с ним и это было важно для художника, это не была работа с натуры. Он словно впитал ее в себя и теперь только заглядывал в свой тайник. Работал он весь световой день, все больше времени проводил в мастерской. Он и раньше любил уходить сюда спозаранку, теперь же он часто оставался здесь ночевать.
В это самое время, когда притяжение дома ослабло и жизнь Роберта Викторовича все более перемещалась в мастерскую, а мастерская мягко и своднически принимала в себя молчаливую любовницу, над домом собрались тучи.
Весь их небольшой поселок был определен под снос. Многолетние разговоры, настойчивые, но неубедительные, в один прекрасный день реализовались в гадкую, с размытой печатью бумажку - постановление о сносе дома и переселении жильцов. Бумагу вручили не лично, как подобает в таких случаях, а прислали по почте, и посреди дня, уже после утренней разноски, Соня заметила в почтовом ящике эту зловещую бумажку.
Зажимая ее в пальцах, Соня прибежала в мастерскую к мужу, куда обычно не ходила, соблюдая невысказанный, но известный ей запрет. Роберт Викторович был один, работал. Соня села в хрупнувшее под ней кресло. Муж молча сидел напротив. Соня долго смотрела на холсты с блеклыми белоглазыми женщинами и поняла, кто есть настоящая снежная королева. И Роберт Викторович понял, что она поняла. И они ничего не сказали друг другу.
Соня молча посидела, потом положила на стол печальное извещение и вышла из мастерской. У подъезда она остановилась пораженная. Ей казалось, что кругом должен лежать снег, - а на улице клубилась, кудрявилась разноцветно-зеленая майская зелень, и зеленым цветом отзывались длинные трамвайные трели.
Она шла к своему дому, любимому счастливому дому, который почему-то должны были раскатать по бревнышку, и слезы текли по длинным морщинистым щекам, и она шептала враз пересохшими губами:
- Это должно было случиться давно, давно… я же всегда знала, что этого не может быть… не могло этого быть…
И за эти десять минут, что она шла к дому, она осознала, что семнадцать лет ее счастливого замужества окончились, что ей ничего не принадлежит, ни Роберт Викторович - а когда, кому он принадлежал? - ни Таня, которая вся насквозь другая, отцова ли, дедова, но не ее робкой породы, ни дом, вздохи и кряхтенье которого она чувствовала ночами так, как старики ощущают свое отчуждающееся с годами тело… "Как это справедливо, что рядом с ним будет эта молодая красотка, нежная и тонкая, и равная ему по всей исключительности и незаурядности, и как мудро устроила жизнь, что привела ему под старость такое чудо, которое заставило его снова обернуться к тому, что в нем есть самое главное, к его художеству…" - думала Соня.
Совершенно опустошенная, легкая, с прозрачным звоном в ушах вошла она к себе, подошла к книжному шкафу, сняла наугад с полки книгу и легла, раскрыв ее посередине Это была "Барышня крестьянка". Лиза как раз вышла к обеду, набеленная по уши, насурьмленная пуще самой мисс Жаксон. Алексей Берестов играл роль рассеянного и задумчивого, и от этих страниц засветило на Соню тихим счастьем совершенного слова и воплощенного благородства…
Шли многодневные сборы. Сонечка вязала узлы, набивала ящики из под папирос кастрюльками и тряпками и пребывала в странно торжественном настроении: ей казалось, что она хоронит прожитую жизнь и в каждом из упакованных ящиков сложены ее счастливые минуты, дни, ночи и годы, и она гладила с нежностью эти картонные гробы.
Неприбранная Таня отрешенно бродила по дому, натыкаясь на мебель, сошедшую с привычных мест и как будто приобретшую самостоятельную подвижность. Дверцы шкафов неожиданно отворялись сами собой, стулья ставили подножки.
Матери Таня не помогала. Преданная одним лишь своим ощущениям, она полностью погрузилась в величайшее отвращение к происходящему в доме.
Было еще одно обстоятельство, глубоко ее удручавшее: замкнутая, с недоразвившейся в ту пору речью, она выворачивала перед Ясей все завитушки своей растрепанной души, и Яся с ее умным молчанием оказалась для Тани единственным в своем роде собеседником, который принимал ее вполне мелководные переживания с такой плодотворной для Тани доброжелательной нейтральностью, что в этих беседах, которые были скорее монологами, Таня училась формулировать мысли, ловить с лета образы, и это доставляло ей огромное удовольствие.
Другие ее друзья, ерник и выворачиватель всего на свете Алеша и Володя с океанским талантом, всепожирающей памятью и плотно упакованными с ее помощью сведениями обо всем на свете, насильственно вовлекали ее в их собственные соблазнительные миры, и только Яся оставляла ей возможность самостоятельно мыслить, рассуждать вслух, наощупь выбирать те мелочи, из которых человек произвольно складывает тот первоначальный рисунок, по которому будет развиваться весь последующий узор жизни. Именно отсюда рождалось Танино чувство теснейшей с Ясей близости и смутной благодарности.
Во время какого-то редкого просвета в самоувлечении Таня заметила, что у Яси есть какая-то отдельная жизнь. Однако все ее попытки проникнуть в это заповедное пространство дневных - не школьных и не домашних - часов разбивались о нежное и уклончивое молчание или неопределенные слова. Первая попавшаяся версия - тайного романа - выдвигала перед Таней жгучий вопрос: кто же он?
Вопрос этот разрешился самым случайным образом. Таня столкнулась с отцом и Ясей возле метро и была незамеченной свидетельницей совершенно невозможной сцены: они ели мороженое на ходу, смеясь. Мороженое стекало густыми каплями, и Роберт Викторович стер с Ясиной щеки белое липкое пятно таким движением пальцев, что Таня, великий специалист по части касаний, дрогнула от нового, прежде неизвестного ей чувства ревности.
Ни женские интересы матери, ни какие бы то ни было соображения нравственного порядка Танечку совершенно не беспокоили. Возмущало ее только одно - подлое сокрытие этого во всех отношениях неинтересного Тане романа…
Таня устроила Ясе сцепу. Яся, внутренне готовая давно к тому или иному разоблачению, немедленно собрала свои вещи и выскользнула с резного крыльца, оставив Таню в горе и недоумении. Ей-то казалось, что их отношения с Ясей гораздо важнее любых романов…
Роберт Викторович тем временем разбирал построенный им когда-то стеллаж и даже не сразу заметил Ясино отсутствие.
И вот наконец настал день, когда вещи вынесли. В свете яркого летнего дня обшарпанная мебель, такая уютная и обжитая, купленная в некотором охотничьем азарте на Преображенском рынке, показалась совсем нищенской. Все погрузили в крытый фургон и перевезли в удручающие Лихоборы, в неудобную трехкомнатную квартиру, где все, решительно все было унизительно убогим: тощие стены, крохотная, узкая Соне в локтях кухня, недоношенная ванна.
С помощью Гаврилина Роберт Викторович расставлял мебель. Каждая вещь упрямо сопротивлялась, не желая занимать отведенное ей место, все топорщилось лишними углами, везде не хватало нескольких сантиметров. Роберту Викторовичу пришлось сорвать плинтус, чтобы загнать однодверный, совсем небольшой платяной шкаф в отведенный ему простенок. Таня чуть не плакала над окованным сундучком с выпуклой крышкой, который рисковал вообще не вписаться в новое жилье.
В запроходную комнату Соня велела поставить Танину тахту и Ясину кровать и сказала:
- Вот будет девичья.
Яся, приглашенная Сонечкой на помощь в переезде, насторожила ушко. Она никак не могла взять в толк, что же происходит. Да это было и не так уж важно для нее. Не этим домом она так дорожила, а совсем другим. И ей казалось, что самое главное она крепко держит в руках.
А Сонечка вытащила откуда-то большую коричневую сумку, достала из нее скатерть-самобранку с салфетками, холодными котлетками и ледяной окрошкой из термоса.
Сонечка по-прежнему подкладывала Ясе хорошие кусочки на тарелку. Яся благодарно улыбалась. Удивительна была ей Сонечка. "А может, просто хитренькая такая", - с некоторым умственным усилием соображала Яся. Но душой знала, что это не так.
И вдруг посреди обеда Таня, вскинув локти, стала рыдать, тряся волосами и грудями, потом закатилась в истерическом хохоте, а когда припадок неожиданно закончился, она, еще мокрая от слез и вылитой на нее воды, заявила, что немедленно уезжает в Питер.
Яся увела ее в новообъявленную девичью, которой не суждено было никогда быть приютом какой-нибудь девы. Они влезли в Ясину постель. Яся сняла резинку с толстого хвоста на макушке, и они совершенно примирились, поглаживая друг друга по волосам.
Однако решения своего Таня не поменяла и в тот же вечер укатила к своему прокуренному сладкой травкой барду.
Роберт Викторович с Гаврилиным и Ясей уехали на Масловку, и, проводив своих домочадцев, в первый же лихоборский вечер Сонечка осталась одна. С грустью подумала она о развалившейся по всем швам жизни, о напавшем внезапно одиночестве, а потом легла на неразобранный диван в проходной комнате, вынула из перевязанной пачки случайного Шиллера и до утра читала - кто бы мог за этим чтением не уснуть! - читала Валленштейна, добровольно отдавшись литературному наркозу, в котором прошла ее юность.
Вопреки Сонечкиному предположению Роберт Викторович вовсе не собирался ее оставлять. Он приезжал в Лихоборы непременно по субботам и один-два раза в неделю, приезжал вместе с тихонькой Ясей, и пока она со своим шелковым шуршанием возилась в девичьей, перебирала там свои и Танины тряпочки и бумажки, Роберт Викторович заменил подоконники на более широкие, укрепил полки, распилил стеллаж и сделал из него два, развесил Танины портреты.
Они ужинали в средней комнате, которая закрепилась за Соней. Немного говорили о Тане, которая уже месяц как была в Питере и все откладывала свое возвращение в эти жуткие Лихоборы.
В непозднем часу расходились спать. Яся - в девичью, Роберт Викторович - в назначенную ему отдельную комнату при входе, а Сонечка тяжело заваливалась на диван и, засыпая, радовалась, что Роберт здесь, за тонкой стеной, по правую руку, а тонкая красивая Ясенька - по левую. И жаль только, что Танечки нет…
Наутро Сонечка складывала в баночки вчерашний салат, и котлетки, и гречневую кашу, обвязав горловинки, ставила все в коричневую сумку и отдавала Ясе.
- Спасибо, тетя Соня, - опуская глаза, благодарила Яся.
Когда случился день рождения Александра Ивановича, Роберт Викторович велел Соне заехать в мастерскую, чтобы вместе идти. Это был их первый семейный выход. Александр Иванович, девственник и монах от чрева матери, не замеченный во всю жизнь ни в каких шашнях с дамами и на этом основании подозреваемый доброжелательным обществом в каких-то более интересных грехах, был единственным во всей компании, кто воспринял это трио как вполне естественное.
Прочие гости, особенно художественные дамы, сладострастно по углам обсуждали создавшийся треугольник, выходя из себя, как тесто из квашни. Рыжая, слегка бесноватая Магдалина так исстрадалась за Сонечку, что у нее началась мигрень. И совершенно напрасно: Соня радовалась, что Роберт взял ее с собой, гордилась его верностью, которую, как она полагала, он проявил по отношению к ней, старой н некрасивой жене, и восхищалась Ясиной красотой.
По просьбе Александра Ивановича она немного хозяйничала за столом, обносила гостей покупной едой и, помня о вечных Ясиных желудочных болях, шептала ей в ухо:
- Деточка, мне кажется, эти голубцы немного того… Ты поосторожней…
Некоторые дамы были готовы укорить Соню в притворстве - уж больно хорошо она выглядела в этой, казалось бы, невыгодной комбинации; другим хотелось бы Соне посочувствовать, выразить порицание Роберту Викторовичу. Но это было совершенно невозможно, ибо держались они по-семейному, так и сидели за столом домашним треугольником: Роберт Викторович посредине, по правую руку на пол-головы над ним возвышающаяся Сонечка, по левую сияла Ясенька своей белизной и маленьким острым бриллиантом на пальце.
Невозможно было себе представить Роберта Викторовича покупающим в ювелирном магазине бриллиант своей девчонке. Но справедливости ради надо признать, что она именно была из породы маленьких беззащитниц, которым так и хочется на пальчик надеть камушек, а на зябкие плечики - манто.
Не дал Роберт Викторович возможности посторонним людям, то есть друзьям, делать выбор между супругами, выражать сочувствие, порицание, негодование.
И вечер катился своей чередой. Подвыпивший Гаврилин изображал умирающего лебедя, потом Ленина и на бис - уже известную всем собачку, которая ищет блоху. Потом была представлена шарада, где фигурировал призрак, который не столько бродил, сколько ползал по Европе, шестиногой корове, составленной из трех самых толстых дам, покрытых холщовой занавеской.
В этой части праздника все вспомнили о Тане, остроумнейшей придумщице шарад, а самые проницательные из дам переглянулись: бедная девочка!
Бедная девочка тем временем проживала в симпатичном логове на Васильевском острове у друга Алешки. В Питере стояли белые ночи, она была бесстрашной и любопытной, ежеминутно готовой во что-нибудь серьезно поиграть. Им совершенно не хотелось расставаться, в четыре глаза они глядели по сторонам, и Алеша с удивлением замечал, что ее присутствие не только не мешает его непредсказуемой жизни, а, пожалуй, сообщает дополнительные возможности по части отрыва от "совухи", как называл он презрительно общепринятое существование.
Спустя несколько дней после празднования у Александра Ивановича Соня поехала в Ленинград навестить дочь, прождала ее полдня во дворике, потом еще сорок минут посидела с Таней и Алешей за столом, на котором горой громоздились книги, пластинки, объедки и пустые бутылки, выпила чаю и вечерним поездом уехала обратно, просив дочь звонить почаще тетке и оставив денег.
В поезде Соня не уснула, все думала о том, какая прекрасная жизнь происходит у ее дочери и мужа, какое молодое цветение вокруг, как жаль, что у нее уже все прошло, и какое счастье, что все это было… Она старчески качала головой, подчиняясь мелким сотрясениям вагона, предвосхищая тик, который появится у нее спустя два десятилетия.
А потом опять наступила зима. Девочки должны были заканчивать школу, но обе бросили. Таня всю зиму ездила по привычному маршруту. Она постоянно ссорилась с Алешей, возвращалась домой, но Лихоборы наводили на нее такую тоску, что она снова неслась в свой любимый Питер.
Роберт Викторович всю зиму писал. Он сильно исхудал, но, сильно исхудав, лицом посветлел и стал как-то ласковее со всеми. Маленькая его сожительница тихонько существовала около него, то шуршала конфетными бумажками, то шелестела дешевым шелком - она постоянно шила себе разноцветные, одинакового фасона платья, мелко сверкая иглой, - то листала польские журналы.
В то время было повальное увлечение Польшей. Оттуда несло западной вольницей, слегка отяжелевшей в перелете над Восточной Европой.
Яся к тому времени перестала скрывать свое польское происхождение, и оказалось, что она прекрасно помнит свой детский язык, на котором говорила с матерью. Роберт Викторович, кроме общепринятых европейских, знал и польский, и этот обаятельно-шепелявый, ласковый язык разговорил их, и, как когда-то Соне, он рассказывал теперь Ясе маленькие истории, смешные, невероятные и страшные случаи, и это тоже была его жизнь, хотя, из какого-то вербального целомудрия, это была какая-то иная жизнь, как будто стоявшая за скобками той, что по рассказам была известна Сонечке.
Яся смеялась, плакала, вскрикивала: "Езус Мария!" - и гордилась, и восхищалась, и так радовалась, что даже научилась испытывать некоторые приятные ощущения, о коих прежде и не догадывалась, невзирая на ранний и долгий опыт общения с мужчинами.
А он все вглядывался в ее нетленную шею, в новенькую кожу лица, в белый пушок под узкой бровью и думал о драгоценности молодой материи, о той форме совершенства, про которую говорил единственный русский гений - "не удостаивает быть умной".
Плен Роберта Викторовича был плодотворен. Ему пришлось построить в мастерской новую антресоль, подрамники некуда было складывать. Он заканчивал свои белые серии. Открытия, как ему казалось, не состоялось. Он вскопал ту почву, что подалась, и это было немало, но сама тайна, обещавшая вот-вот открыться, ускользнула, оставив сладкую боль приближения и свою полноправную представительницу такой сокрушительной прелести, что побеждала его усталость, и возраст, и всю изношенность плоти. Не в тягость были старому Роберту неумеренные любовные труды.
В конце апреля, в середине сырой ночной оттепели, он крепко сжал Ясины плечи и тяжело уткнулся дрогнувшей головой в жесткую подушку.
Прошло некоторое время, прежде чем Яся поняла, что он умирает. С воем выскочила она в коридор, куда выходили двери еще семи мастерских. Художники здесь не жили, мало кто оставался ночевать. Она рванула ручки двух соседних дверей и понеслась с четвертого этажа вниз к телефону, который стоял в привратницкой.
Старуха с тонкой распутанной косой тихо взвизгнула, увидев голую Ясю, но та отпихнула ее:
- "Скорую", скорее… "Скорую"…
И трясущимися руками набрала номер.
Когда приехали врачи, Роберт Викторович уже не дышал. Он лежал на животе, уткнувшись темным лицом в подушку. Яся так и не смогла его перевернуть.
Обстоятельства смерти были очевидны.
- Кровоизлияние в мозг, - буркнул толстый неприятный врач, пахнущий алкоголем и дурной едой. И написал телефон морга.
Громыхая непригодившимися носилками, санитары спустились вниз.
- Старик, а на бабе умер. Молоденькая, - сказал один.
- А что? Лучше, чем в больнице-то гнить, - отозвался второй.
Лихоборская квартира была без телефона. Яся приехала к Соне, когда та собиралась выпить свою утреннюю чашку кофе. Соня мелко затрясла головой, схватила в охапку Ясю, прижала к себе, и они долго плакали в прихожей.
Потом поехали в мастерскую. Тело уже увезли в морг. Тот небытовой, страшный беспорядок, который образовался в мастерской после пребывания двух бригад, медиков и труповозов, они быстро убрали.
Соня сняла с тахты стыдное для чужого глаза белье и спрятала его себе в сумку. Потом пошли звонить в Ленинград Тане, но соседи сказали, что они с Алешей уехали куда-то. Яся держала все время Соню за руку, вцепившись, как ребенок. Была она сирота, а Соня была мать.
Привратница уже успела проникновенно рассказать всем желающим ее выслушать о скандальной смерти старого Роберта. Соседи художники заходили с полудня в мастерскую. Несли кто что считал уместным в этих обстоятельствах: цветы, водку, деньги…
Попутно формировалось общественное мнение: Роберта жалели, Ясю ненавидели и презирали, с Соней было как-то сложнее, от нее чего-то ждали, смотрели с интересом, вполне, впрочем, сочувственным.
Поздним вечером, когда в мастерской остались лишь близкие друзья, Соня после тихого и бесслезного плача вдруг твердо сказала:
- Достаньте зал побольше. Я хочу, чтобы там, где будет стоять гроб, были развешаны эти картины. - И она указала наверх, на антресоли, где стояли подрамники.
Барбизопец переглянулся с Гаврилиным. Кивнули.
Так все оно и было.
Худфонд выделил зал. Накануне развешивали картины. Их оказалось пятьдесят две. Соня руководила развеской, и вряд ли кто мог бы сделать это лучше. Вдруг просунулось откуда-то солнце, болезненно-яркое, резкое, оно мешало, даже вмешивалось в Сонину работу. Холсты зеркалили, бликовали, и Соня попросила опустить казенные сборчатые шторы. Развесила. Шторы подняли. Солнце к этому времени утихомирилось, и оказалось все на своих местах. И сам Роберт Викторович не сделал бы лучше.
На следующий день к двенадцати стал стекаться народ. И представить себе было нельзя, сколько набежало людей на эти похороны. Пришли старые, маститые, заработавшие мозоли и медали на изготовлении парадных портретов кого надо, пришли средние, умеренно новой волны, пришли и те, кого на порог не пускали почтенные члены Союза, - шпана, лианозовщина, авангард драный.
Посмертная эта выставка не располагала к обсуждению. Да и сам Роберт Викторович никогда не испытывал потребности к обсуждению своего дела.
Посреди зала стоял гроб. Лицо умершего было темным, как бы оплавленным, и только сложенные на груди руки сверкали ледяной белизной того сорта, который Роберт Викторович называл белое-неживое.
Яся в черном шелковом платье лепилась к большой и бесформенной Сонечке, выглядывала из-под ее руки, как птенец из-под крыла пингвина. Тани не было, ее не смогли разыскать в веселой Средней Азии, куда двинули они в поисках зеленого пастбища.
Весь шепоток, вся скандальность этой смерти оставались в раздевалке. Здесь, в зале, даже самые жадные до чужих потрохов люди примолкали. Подходили к Соне, произносили неловкие слова соболезнования. Соня, чуть выталкивая впереди себя Ясю, механически отвечала:
- Да, такое горе… На нас свалилось такое горе…
А Тимлер, в обществе молодой любовницы пришедший проститься со своим старым другом, сказал тоскливым тонким голосом:
- Красиво как… Лия и Рахиль… Никогда не знал, как красива бывает Лия.
Бог послал Сонечке долгую жизнь в лихоборской квартире, долгую и одинокую.
Таня, постепенно выйдя замуж за Алешу и получив от него в приданое колдовской неласковый город, в котором приживаются лишь гордые и независимые люди, стала петербурженкой. Дарования ее раскрывались поздно. Уже после двадцати оказалось, что она невероятно способна и к музыке, и к рисованию, и ко всему, на что только не упадет ее рассеянный глаз. Играючи она выучила французский, потом итальянский и немецкий - только к английскому питала странное отвращение - и все металась, покуда в середине семидесятых годов, уже расставшись с Алешей и еще двумя кратковременными мужьями, с полугодовалым сыном на руках и сумкой через плечо не эмигрировала в Израиль. Через короткое время она получила прекрасную должность в ООН, чему в немалой мере способствовала всемирная известность ее отца.
В течение нескольких лет Яся жила у Сонечки в лихоборской квартире. Сонечка нежно ухаживала за Ясей, испытывая благоговейную благодарность к провидению, пославшему ее дорогому мужу Роберту такое украшение, такое утешение на старости лет.
Яся вернулась к идее поступления в театральное училище, но как-то вяло. Вместе с Сонечкой они с удовольствием рукодельничали, то вязали какой-то необыкновенный ковровый свитер для Танечки, то шили на заказчиц, но главным образом все-таки сидели и пили неумеренно черный кофе с медовыми Сониными пирогами. Яся стала постепенно захиревать, и тогда Сонечка разыскала в Польше посредством большой, втайне от Яси ведущейся переписки Ясиных двух теток и бабушку, совсем не аристократического, а вполне скромного происхождения. Снаряженная Соней, Яся уехала в Польшу, где вскоре и завершился канонически сказочный сюжет: вышла замуж за француза, красивого, молодого и богатого. Живет она теперь в Париже, неподалеку от Люксембургского сада, в двух шагах от дома, где было когда-то ателье Роберта Викторовича, о чем она, конечно, не знает.
Дом в Петровском парке, выселенный, с выбитыми стеклами, в следах мелких мальчишеских поджогов, простоял еще много лет никому не нужный. В нем ночевали бродячие собаки и люди. Однажды там нашли убитого человека.
Потом обрушилась крыша, и непонятно было, зачем с такой поспешностью расселяли когда-то жильцов по безжизненным окраинам.
Пятьдесят две белые картины Роберта Викторовича разошлись по миру. На аукционах современного искусства каждая вновь появляющаяся приводит коллекционеров в предынфарктное состояние. Работы же довоенные, парижские, стоят баснословных денег. Их сохранилось очень немного, всего одиннадцать.
Толстая усатая старуха Софья Иосифовна живет в Лихоборах, в третьем этаже хрущевской пятиэтажки. Она не желает переселяться ни на свою историческую родину, где гражданствует ее дочь, ни в Швейцарию, где она сейчас работает, ни даже в столь любимый Робертом Викторовичем город Париж, куда постоянно зовет ее вторая девочка, Яся.
Здоровье портится. Видимо, начинается болезнь Паркинсона. Книга трясется в ее руках.
Весной она ездит на Востряковское кладбище, сажает на могиле мужа белые цветы, которые никогда не приживаются.
Вечерами, надев на грушевидный нос легкие швейцарские очки, она уходит с головой в сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды.