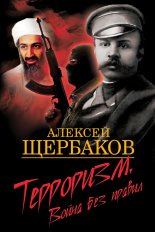Сердце тьмы. Повести о приключениях Конрад Джозеф
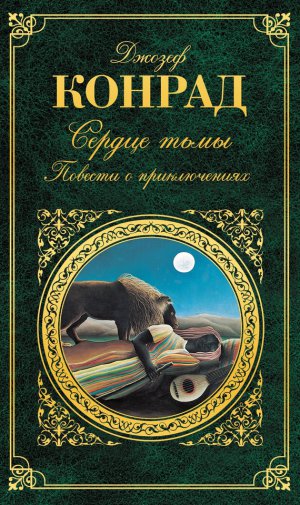
Тот вздрогнул:
– Кто? Я? О, я славно заколдован. Но остальные! Боже мой! Все больны. И умирают так быстро, что я не успеваю отправлять их на родину… Просто невероятно!
– Гм… так… – пробормотал дядя. – Ах, мой мальчик, на это и уповай!
Я видел, как он вытянул свою короткую, похожую на плавник руку и широким жестом указал на лес, заводь, грязь, реку, словно предательски взывал к притаившейся смерти, скрытому злу, глубокой тьме в сердце земли, обращенной к нам своим светлым солнечным ликом. Это было так жутко, что я вскочил и посмотрел на опушку леса, как будто ждал ответа на этот мрачный призыв к упованию. Вы сами знаете, какие нелепые мысли приходят иногда в голову. Но перед этими двумя людьми вставала величественная тишина, исполненная зловещего терпения, как бы дожидающаяся конца фантасмагорического вторжения.
Они оба громко выругались, – должно быть, от испуга, – затем, делая вид, что меня не замечают, направились к станции. Солнце стояло низко; они шли бок о бок и словно с трудом втаскивали на холм свои две чудовищные тени неравной длины, которые медленно волочились за ними по высокой траве, не приминая ни одной былинки.
Через несколько дней экспедиция Эльдорадо углубилась в безмолвные заросли, которые сомкнулись над ней, как смыкается море над нырнувшим пловцом. Много времени спустя пришла весть, что все ослы издохли. Мне неизвестно, какая судьба постигла менее ценных животных. Несомненно, они, как и все мы, получили по заслугам. Справок я не наводил. В то время меня волновала надежда очень скоро увидеть Куртца. «Очень скоро» не нужно понимать буквально. Ровно через два месяца после того, как мы покинули бухту, пароход пристал к берегу ниже того места, где находилась станция Куртца.
Поднимаясь по этой реке, вы как будто возвращались к первым дням существования мира, когда растительность буйствовала на земле и властелинами были большие деревья. Пустынная река, великое молчание, непроницаемый лес. Воздух был теплый, густой, тяжелый, сонный. Не было радости в блеске солнечного света. Длинные полосы воды уходили в тьму затененных пространств. На серебристых песчаных отмелях гиппопотамы и аллигаторы грелись бок о бок на солнцепеке. Река, расширяясь, протекала среди заросших лесом островов. Здесь вы могли заблудиться, как в пустыне, и в течение целого дня натыкаться на мели, пытаясь найти проток. Казалось вам, будто вы заколдованы и навеки отрезаны от всего, что знали когда-то… где-то… быть может – в другой жизни. Бывали моменты, когда все прошлое вставало перед вами: это случается, когда нет у вас ни одной свободной минуты; но прошлое воплощалось в тревожном сне, о котором вы с удивлением вспоминали среди ошеломляющей реальности этого странного мира растений, воды и молчания. И в тишине этой жизни не было ничего похожего на покой. То было молчание неумолимой силы, сосредоточенной на неисповедимом замысле. Что-то мстительное было в этом молчании. Впоследствии я к нему привык и перестал обращать на него внимание – у меня не было времени. Мне приходилось разыскивать протоки, интуитивно угадывать местонахождение мелей, высматривать подводные камни. Я научился стискивать зубы, когда судно проходило на волосок от какой-нибудь отвратительной старой коряги, которая могла отправить на дно ветхое наше корыто со всеми пилигримами. Днем я должен был выискивать сухие деревья, чтобы срубить их ночью и растопить на следующий день котлы. Когда человеку приходится уделять внимание вещам такого рода, мелочам, реальность – реальность, говорю вам, – блекнет. Сокровенная истина остается скрытой – к счастью. На все-таки я ее ощущал – безмолвную и таинственную, наблюдающую за моими обезьяньими фокусами так же точно, как наблюдает она за вами, друзья, когда вы кривляетесь – каждый на своем канате, – ради чего? Ради дешевого трюка…
– Старайтесь быть вежливым, Марлоу, – проворчал чей-то голос, и я понял, что во всяком случае еще один слушатель, кроме меня, не спит.
– Прошу прощения. Я позабыл, что наградой является сердечная боль. И в самом деле, что нам награда, если фокус удался? Вы прекрасно проделываете свои фокусы, да и я справился недурно, ибо мне удалось не потопить судно при первом моем плавании. Этому я и по сей день удивляюсь. Представьте себе человека, который с завязанными глазами должен провести повозку по скверной дороге. Могу вам сказать, что я дрожал и обливался потом. В конце концов, для моряка непростительный грех – сорвать дно с судна, плавающего под его командой. Может, никто об этом не узнает, но вам этого не забыть. Удар в самое сердце. Вы о нем думаете, он вам снится, вы вспоминаете, просыпаясь ночью, много лет спустя, – и вас бросает то в жар, то в холод.
Я не утверждаю, что мой пароход все время плыл по воде. Не раз ему приходилось пробираться вброд, а двадцать каннибалов, барахтаясь в воде, подталкивали его. Дорогой мы завербовали этих парней в матросы. Славные ребята – каннибалы. С ними можно было работать, и о них я вспоминаю с благодарностью. В конце концов, они не поедали друг друга перед моим носом. Они прихватили с собой провизию – мясо гиппопотама, оно начало гнить, и противный запах, отравивший таинственные дебри, щекотал мне ноздри. Фу! Я и теперь еще чувствую этот аромат. На борту парохода находились начальник и три-четыре пилигрима с посохами. Иногда мы подходили к какой-нибудь станции, расположенной у самого берега, на границе с неведомым, и белые люди, выбегавшие из полуразвалившегося шалаша и жесткулировавшие радостно и удивленно, казались странными пленниками, которых удерживает здесь какое-то заклятие. Слова «слоновая кость» звенели в воздухе, а потом мы снова уходили в безмолвие, следовали за извивами реки, между высокими стенами, которые эхом отзывались на мощные удары большого колеса у кормы. Деревья, деревья, миллионы деревьев, массивных, необъятных, стремящихся ввысь; а у подножия их, придерживаясь берега, пробиралось маленькое закопченное паровое суденышко, словно ленивый жук, ползущий по полу между величественными колоннами. Вы чувствовали себя очень маленьким, покинутым, но это чувство не угнетало. В конце концов, как бы ни были вы малы, но грязный жук полз вперед – а этого вы и добивались. Куда, по мнению пилигримов, полз этот жук, я не знаю. Ручаюсь, что к какому-то месту, где они надеялись что-то получить. А для меня он полз к Куртцу, и только к Куртцу; но когда паровые трубы дали течь, мы стали продвигаться очень медленно.
Лес расступался перед нами и смыкался за нашими спинами, словно деревья лениво вступали в воду, чтобы преградить нам путь назад. Все глубже и глубже проникали мы в сердце тьмы. Здесь было очень тихо. Иногда по ночам за стеной деревьев раздавался бой барабанов и катился над рекой. До рассвета слышались слабые отголоски, словно парившие в воздухе над нашими головами. Был ли то призыв к войне, миру, молитве – мы не могли угадать. Предвозвестниками рассвета спускались прохлада и тишина; дровосеки спали, догорали их костры; треск сучка заставлял нас вздрагивать. Мы были странниками на земле доисторических времен – на земле, которая имела вид неведомой планеты. Мы могли вообразить себя первыми людьми, завладевающими проклятым наследством, за которое нужно заплатить великими страданиями и непосильным трудом.
Но иногда за поворотом реки под тяжелой неподвижной листвой открывался вид на тростниковые стены и острые крыши из травы, слышались крики, топот, раскачивались черные тела, сверкали белки глаз, хлопали в ладоши черные руки. Пароход медленно продвигался мимо этих безумствующих и загадочных черных людей. Доисторический человек проклинал нас, молился нам, нас приветствовал… кто мог сказать? Нам недоступно было понимание окружающего; мы скользили мимо, словно призраки, удивленные и втайне испуганные, как испугался бы нормальный человек взрыва энтузиазма в сумасшедшем доме. Мы не могли понять, ибо мы были слишком далеки и не умели вспомнить; мы блуждали во мраке первых веков – тех веков, которые прошли, не оставив ни следа, ни воспоминаний.
Земля казалась не похожей на землю. Мы привыкли смотреть на скованное цепями, побежденное чудовище, но здесь… здесь вы видели существо чудовищное и свободное. Оно не походило на землю, а люди… нет, люди остались людьми. Знаете, нет ничего хуже этого подозрения, что люди остаются людьми. Оно нарастало медленно, постепенно. Они выли, прыгали, корчили страшные гримасы; но в трепет приводила вас мысль о том, что они – такие же люди, как вы, – мысль об отдаленном вашем родстве с этими дикими и страстными существами. Ужасно? Да, это было ужасно. Но если хватит у вас мужества, вы признаетесь, что жуткая откровенность этого воя пробуждает в вас слабый ответный отголосок, смутное ощущение скрытого его смысла – смысла, который может открыться вам, так далеко ушедшему от мрака первых веков. И в самом деле, разум человека на все способен, ибо он все в себя включает, как прошлое, так и будущее. В конце концов, что было в этом вое? Радость, страх, скорбь, преданность, доблесть, бешенство – кто знает? – но истина была в нем, – истина, с которой сорвано покрывало веков.
Пусть глупец разевает рот и трепещет, но мужественный человек знает и может смотреть без трепета. И человеческого в нем должно быть, во всяком случае, не меньше, чем в этих людях на берегу. Их правду он примет, если есть у него своя правда и врожденная сила. Принципы? Принципы не помогут. Это – оболочка, тряпки, которые слетят при первой же встряске. Нет, вам нужна разумная вера. В этом безумном вое звучит призыв. Ну что ж! Я его слышу, принимаю, но у меня тоже есть голос, и нельзя заставить меня умолкнуть. Конечно, глупец, наделенный робостью и утонченными чувствами, опасности не подвергается.
Кто там ворчит? Вы удивляетесь, почему я не сошел на берег и не принял участия в вое и пляске? Да, я этого не сделал. Утонченные чувства, скажете вы? К черту утонченные чувства! У меня не было времени. Я должен был возиться со свинцовыми белилами и полосами, оторванными от шерстяных одеял, накладывать повязки на эти протекающие трубы. Я должен был управлять судном, огибать коряги и во что бы то ни стало вести вперед наше старое корыто. Во всем этом достаточно было поверхностной реальности, чтобы спасти человека помудрее меня. А в промежутках мне приходилось следить за дикарем, исполнявшим обязанности кочегара. Это был усовершенствованный экземпляр: он умел растапливать котел. А находился он внизу, как раз подо мной. Смотреть на него было так же поучительно, как на разгуливающую на задних лапах собаку в штанах и шляпе с пером. Понадобилось всего несколько месяцев, чтобы обучить этого славного парня. Он косил глаза на манометр и водомер, всеми силами стараясь проявить свою неустрашимость, а ведь бедняга все еще носил на шее ожерелье из зубов; курчавые волосы его были выбриты так, что череп был как бы расписан узорами, и на каждой щеке красовалось по три шрама. Ему бы следовало хлопать в ладоши и плясать на берегу, а вместо этого он работал – раб, покорившийся странному волшебству и набиравшийся спасительных знаний. Он был полезен, так как его обучили. А знал он вот что: если вода в этом прозрачном сосуде исчезнет, то злой дух, обитающий в котле, почувствует великую жажду, разгневается, и страшно будет его мщение. Итак, он потел, подбрасывал дрова и с опаской следил за сосудом; экспромтом изобретенный амулет из тряпок привязан был к его руке, и плоский кусок отполированной кости величиной с карманные часы украшал его нижнюю губу. Медленно проплывали мимо лесистые берега, шумный поселок оставался позади, а мы ползли по безмолвной бесконечной реке, ползли к Куртцу. Но часто попадались коряги, обманчива и мелководна была река, а в котле как будто и в самом деле обитал угрюмый демон, и потому ни у кочегара, ни у меня не было времени предаваться размышлениям.
В пятидесяти милях ниже Внутренней станции мы увидели шалаш из камыша, меланхолический шест, на котором развевалось какое-то тряпье, некогда бывшее флагом, и аккуратно сложенную кучу дров. Для нас это было неожиданно. Мы пристали к берегу и на дровах нашли доску с полустертой надписью, сделанной карандашом. Расшифровав ее, мы прочли: «Древа заготовлены для вас. Спешите. Подходите осторожно».
Далее следовала подпись, которую мы не могли разобрать, – во всяком случае, не Куртц, какое-то более длинное слово. «Спешите». Куда? К верховьям реки? «Подходите осторожно». Мы не соблюдали осторожности. Но предостережение не могло относиться к тем местам, которые мы проехали. Что-то неладное было впереди. Но что? И велика ли опасность? Вот в чем вопрос. Мы сердито обсуждали нелепость такого лаконического стиля. Заросли вокруг безмолвствовали и препятствовали нам заглянуть вдаль. Рваная занавеска из красной материи висела в дверях шалаша, уныло развеваясь перед нашими лицами. Жилище было покинуто, но, несомненно, здесь жил не так давно белый человек. В шалаше стоял грубый стол – доска на двух столбиках, в темном углу валялась куча хлама, а у двери я поднял книгу; она была без переплета, листы, захватанные пальцами, размокли и запачкались, но были любовно прошиты заново белой ниткой, еще не успевшей загрязниться. Необычайная находка! Книга называлась «Исследование некоторых вопросов по навигации» и написана была неким Тоуэром, Тоусоном или кем-то в этом роде, капитаном флота его величества. Довольно скучное произведение с диаграммами и отталкивающими столбцами цифр, изданное шестьдесят лет назад.
С величайшей нежностью обращался я с этой любопытной древностью, боясь, как бы она не рассыпалась в моих руках. На страницах книги Тоусон или Тоуэр весьма серьезно исследовал вопрос о сопротивлении материалов для судовых цепей и талей. Не очень занимательная книга, но достаточно было одного взгляда, чтобы оценить устремленность к цели, добросовестное старание правильно приступить к делу; вот почему эти скромные страницы, написанные столько лет назад, представляли не только профессиональный интерес. Простодушный старый моряк, толкующий о цепях и талях, заставил меня позабыть о зарослях и пилигримах и с восторгом почувствовать, что наконец-то попалось мне в руки нечто несомненно реальное. Такая книга была удивительна сама по себе, но еще поразительнее были заметки на полях, видимо, относившиеся к тексту. Я не верил своим глазам: заметки были шифрованные! Да, эти знаки походили на шифр. Представьте себе человека, который притащил такую книгу в эту глушь, изучал ее, делал заметки и вдобавок прибегал к шифру! Из ряда вон выходящая тайна!
Мне помешал какой-то шум; подняв глаза, я увидел, что куча дров исчезла, а начальник и все пилигримы, стоя на берегу, хором ко мне взывают. Я сунул книгу в карман. Уверяю вас, оторваться от книги мне было так же трудно, как распрощаться с верным старым другом.
Я пустил в ход искалеченную машину.
– Должно быть, записку оставил этот проклятый торговец, этот пролаза! – воскликнул начальник Центральной станции, злобно оглядываясь на покинутый нами шалаш.
– Быть может, он – англичанин, – сказал я.
– Это его не спасет от беды, если он не поостережется, – мрачно пробормотал начальник.
С притворной наивностью я заметил, что в этом мире ни один человек не может считать себя застрахованным от беды.
Здесь, в верховьях, течение было быстрее; пароход, казалось, находился при последнем издыхании; лениво разбивало воду кормовое гребное колесо, а я, затаив дыхание, прислушивался, ибо, по правде сказать, ждал с минуты на минуту, что оно остановится. Я как будто следил за последними вспышками угасающей жизни. Но все-таки мы ползли вперед. Иногда я высматривал какое-нибудь дерево впереди, чтобы измерить скорость нашего продвижения навстречу Куртцу, но неизменно терял его из виду раньше, чем мы к нему подходили. Терпения не хватало так долго смотреть на один и тот же предмет. Начальник проявлял великолепное спокойствие. Я бесновался, кипятился и рассуждал сам с собой, стоит ли мне откровенно поговорить с Куртцем. Но раньше, чем я пришел к какому-либо выводу, меня осенила мысль, что и слова мои и мое молчание, да и любой поступок не имеют, в сущности, никакого значения. Не все ли равно, что он знает и чего не знает? Не все ли равно, кто был начальником? Бывают иногда такие минуты просветления. Суть дела скрыта под поверхностью, недоступна мне, и мое вмешательство ничего не изменит.
К вечеру второго дня мы, по нашим расчетам, находились в восьми милях от станции Куртца. Я хотел продолжать путь, но начальник принял серьезный вид и сообщил мне, что плаванье в этих местах сопряжено с опасностью, и так как солнце стоит низко, то лучше нам остаться здесь до утра. Кроме того, если считаться с предостережением, то благоразумнее будет подойти к станции не в сумерках и не в темноте, но при дневном свете. Это было вполне разумно. Чтобы сделать восемь миль, нам требовалось около трех часов, а у поворота реки я мог разглядеть подозрительную рябь. Тем не менее эта отсрочка очень меня раздосадовала; безрассудная досада, ибо какое значение может иметь одна ночь после стольких месяцев?
Так как дров у нас было много, а начальник хотел соблюдать осторожность, то я бросил якорь посередине потока. Здесь река была прямая, узкая, с берегами высокими, как железнодорожные насыпи. Сумерки спустились к нам задолго до заката солнца. Быстро струилась вода, но на берегах все было неподвижно и безмолвно. Деревья, опутанные ползучими растениями, и кусты словно окаменели, и окаменела каждая веточка, каждый листик. Это был не сон – такая неподвижность казалась неестественной, подобной трансу. Не слышно было ни единого звука. Мы удивлялись и готовы были заподозрить себя в глухоте; затем внезапно спустилась ночь и наградила нас также и слепотой. Около трех часов утра в реке всполошилась какая-то большая рыба, и от громкого плеска я подскочил, словно услышал выстрел из пушки.
Когда взошло солнце, на реке лежал белый туман, очень теплый, липкий и еще более непроницаемый, чем мрак. Он не рассеивался, он стоял вокруг, как прочная стена. Часов в восемь или девять он поднялся, как поднимается штора. Мельком увидели мы вздымающиеся к небу деревья, непроходимые заросли, маленький пылающий шар, нависший над лесом… все было неподвижно… и потом снова спустилась белая штора плавно, как по смазанным желобам. Я приказал отпустить якорную цепь, которую мы начали поднимать. Не успело замолкнуть заглушенное звяканье, когда раздался крик – громкий крик, – исполненный безграничной тоски, и медленно пронесся в густом тумане. Потом стих. Тогда поднялись жалобные вопли, дикие, негармоничные. От неожиданности волосы зашевелились у меня под фуражкой. Не знаю, какое впечатление это произвело на моих спутников; мне казалось, что туман разразился воплями, – так неожиданно раздался этот громкий и тоскливый вой, доносившийся как будто со всех сторон. Он достиг кульминационной точки, перейдя в невыносимо пронзительный визг, и оборвался внезапно, а мы застыли в нелепых позах и упорно прислушивались к молчанию, почти такому же жуткому, как эти крики.
– Боже мой! Что же это такое? – простонал под самым моим ухом один из пилигримов, маленький толстый человечек с песочными волосами и рыжими бакенбардами, облаченный в розовую пижаму, панталоны, заправленные в носки, и штиблеты на резинке. Остальные двое минуту сидели, разинув рты, затем бросились в маленькую каютку и сейчас же выскочили оттуда, испуганно озираясь по сторонам и держа наготове винчестеры. Мы могли разглядеть только пароход, очертания которого были стерты, словно он вот-вот должен был растаять, да туманную полосу воды, фута в два шириной, вокруг судна. Остального мира не было, ибо мы его не видели и не слышали. Его не было. Он исчез, растворился, и от него не осталось ни шепота, ни тени.
Я прошел на нос и приказал натянуть якорную цепь так, чтобы в случае необходимости можно было сразу поднять якорь и тронуться в путь.
– Нападут ли они? – раздался чей-то испуганный голос.
– Нас перебьют в этом тумане! – прошептал другой.
Лица подергивались от волнения, руки слегка дрожали, глаза не мигали. Любопытно было сравнивать выражение лиц белых людей и наших чернокожих матросов, которые были такими же пришельцами в верховьях реки, как и мы, хотя дома их находились на расстоянии каких-нибудь восьмисот миль отсюда. Белые выглядели не только взволнованными, но и оскорбленными таким возмутительным воем, а чернокожие были заинтересованы, держались настороже, но лица их были спокойны, и один или двое усмехались, натягивая якорную цепь. Несколько человек обменялись отрывистыми фразами, казалось, разрешившими вопрос ко всеобщему удовольствию. Их главарь, молодой широкоплечий негр с раздутыми ноздрями и волосами, искусно завитыми в маслянистые колечки, стоял возле меня, задрапированный в какую-то темно-синюю материю с бахромой.
– Вот оно что! – сказал я, чтобы завязать разговор.
– Поймай их, – отозвался он, тараща налитые кровью глаза и поблескивая острыми зубами. – Поймай их. Отдай их нам.
– Вам? – переспросил я. – А что вы будете с ними делать?
– Съедим их! – коротко ответил он и, облокотившись на поручни, принял величественную позу и стал задумчиво всматриваться в туман. Несомненно, я бы ужаснулся, если б не пришло мне в голову, что он и его приятели, должно быть, очень голодны и что в продолжение последнего месяца голод их все усиливался. Они были наняты на шесть месяцев (не думаю, чтобы хоть один из них имел о времени такое же ясное представление, какое имеем мы, озирая позади себя бесчисленные века; они все еще пребывали в начале времен и не могли руководствоваться унаследованным опытом). Разумеется, поскольку контракт был составлен в соответствии с каким-нибудь шутовским законом, придуманным в низовьях реки, то никому и в голову не приходило поразмыслить о том, как они будут жить. Правда, они принесли с собой гнилое мясо гиппопотама, но его не хватило бы надолго, даже если бы пилигримы не выкинули большую его часть за борт, вызвав возмущенный рев чернокожих матросов. Это походило на дерзкую расправу, но в действительности то была лишь мера самозащиты. Вы не можете вдыхать во сне или наяву во время еды запах гниющего гиппопотама, не рискуя расстаться при этом с жизнью.
Кроме того, чернокожие получали каждую неделю по три куска латунной проволоки – в каждом куске было около девяти дюймов; рассуждая теоретически, они должны были покупать в прибрежных деревнях провизию и расплачиваться этой ходячей монетой. Вы можете видеть, как теория оправдала себя на практике. Или деревень не было, или население встречало нас враждебно, или начальник, который так же, как и все мы, питался консервами и попадавшей иногда в наши руки старой козлятиной, не желал по непонятным мотивам останавливать пароход. Итак, мне неизвестно, какую пользу могли они извлечь из своего необычного жалованья, разве что они глотали эту проволоку или делали из нее крючки и удили рыбу. Но я должен сказать, что жалованье выплачивалось аккуратно и это делало честь крупной и почтенной торговой фирме.
Что же касается провизии, то я видел у чернокожих какие-то странные, отнюдь не съедобные на вид куски грязновато-лилового цвета, похожие на полусырое тесто; они заворачивали его в листья и иногда отщипывали по кусочку, но кусочки эти были такие маленькие, что о насыщении и речи быть не могло. Почему во имя всех гложущих демонов голода чернокожие не расправились с нами – их было тридцать, а нас пятеро – и не устроили себе хоть раз в жизни пиршества, я не понимаю и по сей день. Они были дюжими, здоровыми людьми, неспособными задумываться о последствиях, мужественными и сильными даже теперь, когда кожа их уже не лоснилась, а мускулы потеряли упругость. Я решил, что здесь мы имеем дело с каким-то сдерживающим началом – с одной из тех тайн человеческой природы, перед которой пасуют все догадки.
Я посмотрел на них с любопытством, но заинтересовало меня не то, что они в самом непродолжительном времени могли меня съесть. Впрочем, признаюсь, в ту минуту я как-то по-новому обратил внимание на болезненный вид пилигримов, втайне надеясь – да, надеясь! – что сам я выгляжу не таким… как бы это сказать?.. не таким неаппетитным. Это была вспышка нелепого тщеславия, вполне гармонировавшая с тем дремотным состоянием, в каком я пребывал все эти дни. Пожалуй, меня немного лихорадило. Человек не может жить, вечно следя за своим пульсом. Меня часто лихорадило, или то были приступы других болезней: дикая глушь, перед тем как перейти в атаку – что и случилось впоследствии, – шутливо поглаживала меня своей лапой. Да, я смотрел на них с тем любопытством, с каким присматриваемся мы к людям; меня интересовали их импульсы, мотивы, способности, слабости, подвергнутые испытанию неумолимой физической потребностью. Обуздание! Разве могла быть речь об обуздании? Сдерживало ли их суеверие, отвращение, страх, терпение или какое-то примитивное понятие о чести? Но никакой страх не может противостоять голоду, никакое терпение не может с ним примириться, а отвращению не остается места, если мучит голод. Что же касается суеверий и так называемых принципов, то они – отнюдь не надежнее соломинки, подхваченной вихрем.
Знаете ли вы муки голода, эту невыносимую пытку, знаете ли черные мысли и нарастающую ярость, какие приносит с собой голод? Я это знаю. Человеку нужны все его силы, чтобы достойно бороться с голодом. Легче вынести тяжелую утрату, бесчестие, гибель собственной души, чем такое длительное голодание. Печально, но это так! И ведь у них не было никаких оснований опасаться угрызений совести. Выдержка! С таким же успехом я мог ждать выдержки от гиены, рыскающей среди трупов по полю битвы. Но факт был налицо – факт ослепляющий, как пена на море, как проблеск неисповедимой тайны, – факт более таинственный, чем странная необъяснимая тоска в этом диком вое, который донесся к нам с берега реки, скрытого непроницаемой белой завесой тумана.
Два пилигрима шепотом спорили о том, на каком берегу раздался крик.
– На левом.
– Нет, нет! Что вы говорите? На правом, конечно на правом!
– Положение серьезное, – раздался за моей спиной голос начальника. – Я буду в отчаянии, если что-нибудь случится с мистером Куртцем раньше, чем мы прибудем на место.
Я посмотрел на него и не усомнился в его искренности. Он был одним из тех людей, которые хотят соблюдать приличия. В этом проявлялась его выдержка. Но когда он пробормотал что-то о том, чтобы немедленно тронуться в путь, я даже не потрудился ему ответить. Я знал – и он знал, – что это невозможно. Если б мы подняли якорь, мы бы буквально заблудились в тумане. Мы бы не могли решить, куда идем – вверх или вниз по течению или же пересекаем реку, пока пароход не врезался бы в берег; да и тогда мы бы не знали, к какому берегу пристаем. Конечно, я не тронулся с места. Я не намерен был губить судно. Нельзя было придумать более странного места для кораблекрушения. Если бы пароход затонул не сразу, мы бы все равно погибли – так или иначе.
– Я предлагаю вам идти на риск, – сказал он, помолчав.
– Я отказываюсь рисковать, – коротко ответил я. Этого ответа он ждал, хотя мой тон мог его удивить.
– В таком случае я должен положиться на ваше суждение. Вы – капитан, – произнес он с подчеркнутой вежливостью.
Я повернулся к нему боком и стал всматриваться в туман. Сколько времени это еще протянется? Туман нимало меня не обнадежил. Приближение к Куртцу, добывающему слоновую кость в этих проклятых зарослях, было сопряжено с такими опасностями, словно мы ехали к зачарованной принцессе, спящей в сказочном замке.
– Как вы думаете, нападут ли они? – конфиденциально спросил начальник.
По многим основаниям я считал, что они не нападут. Одним из этих оснований был густой туман. Если они отчалят от берега в своих каноэ, они заблудятся в тумане, как заблудились бы и мы, если б сдвинулись с места. Затем заросли по берегам реки казались мне непроницаемыми… хотя они имели глаза – глаза, которые нас видели. Прибрежные кусты, несомненно, были непроходимы, но сквозь джунгли, тянувшиеся за ними, по-видимому, можно было пробраться. Однако в течение того короткого промежутка времени, когда туман рассеялся, я убедился, что никаких каноэ поблизости не видно; во всяком случае, их не было около парохода. Главная же причина, по которой я считал нападение невозможным, заключалась в самом характере криков. То не был свирепый вой, предвещающий враждебное наступление. В этих диких пронзительных воплях мне слышалась безграничная скорбь. Казалось, вид парохода почему-то преисполнил дикарей безысходной тоской. Опасность, объяснял я, заключается в том, что по соседству от нас находятся люди, захваченные великой страстью. Даже скорбь может в конце концов перейти в ярость, хотя обычно она переходит в апатию.
Если б вы видели, как таращили глаза пилигримы! У них не хватало духу высмеять или хотя бы обругать меня, но, думаю, они порешили, что я сошел с ума – от страха, быть может. Я им прочел целую лекцию. Друзья мои, что мне было делать? Держаться настороже? Ну что ж, я следил за туманом, как кошка следит за мышью; но теперь глаза нам были так же не нужны, как если бы мы оказались погребенными под горой ваты. И туман был похож на вату – удушливый, теплый. Кроме того, все, что я сказал, было абсолютно правильно, хотя и звучало нелепо. То, о чем впоследствии мы говорили как о нападении, было, по существу, лишь попыткой отразить наступление. Ничего враждебного в этой попытке не было; она была сделана людьми, доведенными до отчаяния, и носила характер оборонительный.
Это произошло в полутора милях от станции Куртца, через два часа после того, как рассеялся туман. Мы повернули по реке, когда я увидел на середине течения маленький островок – холмик, поросший ярко-зеленой травой. Когда мы подошли ближе, я разглядел, что от холмика тянется длинная песчаная коса, или, вернее, цепь островков, бесцветных и едва поднимающихся над водой; все они были связаны подводной мелью, тянувшейся по середине потока; эта мель видна была под водой так же, как виден под кожей позвоночный столб человека. Теперь я мог идти направо или налево от мели. Я не знал, какой проход избрать. Глубина, казалось, была одинакова, и берега ничем не отличались; но так как меня предупредили, что станция находится на западном берегу, то я, естественно, повел судно в западный пролив.
Не успели мы войти в него, как я заметил, что он значительно уже, чем я предполагал. Слева тянулась длинная мель, а справа высокий крутой берег, заросший кустами. Над кустарником рядами вздымались деревья. Ветви нависли над рекой, и кое-где дерево протягивало с берега гигантский сук. День клонился к вечеру, пасмурным казался лес, и широкая полоса тени уже легла на воду. В этой тени мы очень медленно продвигались вперед. Я вел судно, придерживаясь берега; здесь было глубже, как показал шест для измерения глубины.
Один из моих голодных и терпеливых друзей негров измерял глубину, стоя на носу как раз подо мною. Этот пароход походил на палубное плоскодонное судно. На палубе находились два домика из тикового дерева с дверями и окнами. Котел помещался на носу, а машины – на корме. Над всей палубой тянулась легкая крыша на столбах. Труба проходила через эту крышу, а перед трубой возвышалось маленькое дощатое строение, служившее рулевой рубкой. Здесь помещался штурвал, кушетка, два складных стула, крохотный стулик и заряженное «мартини», прислоненное в углу. Дверь выходила на нос; справа и слева были широкие ставни, никогда не закрывавшиеся. Целые дни я проводил на самом конце крыши перед дверью. Ночью спал или пытался спать на кушетке. Атлетический негр из какого-то берегового племени, обученный бедным моим предшественником, исполнял обязанности рулевого. Он носил медные серьги и обертывал себе бедра куском голубой материи, спускавшейся до лодыжек. О себе он был самого высокого мнения. Я его считал самым ветреным дураком, какого мне когда-либо приходилось видеть. При вас он с самонадеянным видом управлял рулем, но стоило вам уйти, как он пугался, и наш калека-пароход мог в одну минуту одержать над ним верх.
Я смотрел вниз, на шест для измерения глубины, с досадой отмечая, что река все мелеет, как вдруг мой негр, не потрудившись втащить шест, плашмя растягивается на палубе. Однако шеста он из рук не выпустил, и шест волочился по воде. В то же время кочегар, которого я тоже мог видеть с крыши, внезапно уселся перед своей топкой и втянул голову в плечи. Я удивился и бросил взгляд на реку, так как нам предстояло обогнуть корягу. Палочки, маленькие палочки, летали в воздухе; их было много; они свистели перед самым моим носом, падали к моим ногам, ударялись о стенки рулевой рубки за моей спиной. А в это время на реке, на берегу в кустах было тихо – полная тишина. Я слышал только тяжелые удары колеса на корме да постукиванье падающих палочек. Неуклюже обогнули мы корягу. Стрелы, клянусь богом, стрелы! Нас обстреливали! Я поспешно вошел в рубку, чтобы закрыть ставень со стороны берега. Этот дурак рулевой, держа руки на штурвале, приплясывал и жевал губами, словно взнузданная лошадь. Черт бы его побрал! А мы тащились в десяти футах от берега.
Мне пришлось высунуться, чтобы закрыть тяжелый ставень, и я увидел в листве лицо на уровне с моим лицом и глаза, злобно на меня смотревшие в упор; и вдруг словно кто-то снял пелену, застилавшую мне зрение, и я разглядел в полутьме среди переплетенных ветвей обнаженные торсы, руки, ноги, сверкающие глаза – в кустах кишели человеческие тела бронзового цвета. Ветки дрожали, раскачивались, трещали, стрелы вылетали из кустов. Я закрыл ставень.
– Держи прямо, – сказал я рулевому.
Не поворачивая головы, он смотрел вперед, но глаза его были вытаращены, он потихоньку притопывал, и на губах у него выступила пена.
– Стой смирно! – крикнул я в бешенстве. Но с таким же успехом я мог приказать дереву не раскачиваться под ветром. Я выскочил из рубки. Внизу люди бегали по железной палубе; слышались заглушенные восклицания; кто-то взвизгнул:
– Нельзя ли повернуть назад?
Впереди я заметил рябь на воде. Как! Еще одна коряга! Под моими ногами началась стрельба. Пилигримы пустили в ход свои «винчестеры» и попусту швыряли свинец в кусты. Поднялось облако дыма и медленно поползло вперед. Я выругался. Теперь я не мог разглядеть ни ряби, ни коряги. Я стоял, выглядывая из-за двери, а стрелы летели тучами. Быть может, эти стрелы были отравлены, но, казалось, они не убили бы и кошки. В кустах поднялся вой. Наши дровосеки отвечали воинственным гиканьем. Ружейный выстрел раздался за моей спиной и оглушил меня. Я оглянулся через плечо; в рубке дым еще не рассеялся, когда я бросился к штурвалу. Оказывается, негр сорвался с места, открыл ставень и выстрелил из «мартини». Тараща глаза, он стоял перед широким отверстием, а я кричал на него, выпрямляя уклонившийся в сторону пароход. Здесь негде было повернуть, даже если бы я и намеревался это сделать; где-то впереди, очень близко от нас, скрывалась в проклятом дыму коряга. Времени нельзя было терять, и я подвел пароход к самому берегу – туда, где, как я знал, было глубоко.
Медленно ползли мы мимо нависших кустов под сыпавшимися на нас листьями и сломанными ветками. Внизу обстрел прекратился. Я откинул голову, когда со свистом мелькнула стрела, влетевшая в одно окно рубки и вылетевшая в другое. Глядя из-за плеча этого сумасшедшего рулевого, который орал, потрясая разряженным ружьем, я различил неясные фигуры людей; они бежали, сгорбившись, скользили и прыгали. Что-то большое показалось перед ставнем, ружье полетело за борт, а человек отступил назад, глянул на меня через плечо странным глубоким взглядом и упал к моим ногам. Головой он два раза ударился о штурвал, а конец какой-то длинной трости стукнул и опрокинул маленький складной стул. Похоже было на то, что негр, вырвав эту трость из рук человека на берегу, потерял равновесие и упал. Тонкий дымок рассеялся, коряга осталась позади, и, глядя вперед, я убедился, что через сотню ярдов можно будет отвести пароход подальше от берега.
Вдруг я почувствовал, что стою на чем-то очень теплом и мокром, и посмотрел вниз. Человек перевернулся на спину и смотрел прямо на меня; обеими руками он сжимал эту трость. Но то была не трость, а древко копья, брошенное в окно рубки, копье вонзилось ему в бок под ребрами до самого древка, и на боку зияла страшная рана; мои ботинки были полны крови, под штурвалом виднелась блестящая темно-красная лужа. Его глаза светились странным лучистым светом. Внизу снова началась ружейная стрельба. Он смотрел на меня с тревогой, сжимал копье, словно какую-то драгоценность, и как будто боялся, что я попытаюсь отнять его у него.
Я должен был сделать над собой усилие, чтобы оторвать от него взгляд и следить за штурвалом. Одной рукой я нащупал над головой веревку и торопливо дал два свистка один за другим. Мгновенно смолкли злобные и воинственные крики, и тогда из глубины лесов донесся протяжный вибрирующий стон, исполненный такого ужаса, тоски и отчаяния, что, казалось, последняя надежда покидала землю. В кустах поднялась суматоха, град стрел прекратился, еще несколько выстрелов – и спустилось молчание. Я снова отчетливо услышал медленные удары колеса. В тот момент, когда я круто поворачивал руль направо, в дверях показался пилигрим в розовой пижаме, взволнованный и разгоряченный.
– Начальник послал меня… – начал он официальным тоном и вдруг запнулся. – Боже мой! – воскликнул он, заметив раненого.
Мы, двое белых, стояли над ним, а он смотрел на нас обоих своими лучистыми вопрошающими глазами. Уверяю вас, он как будто собирался задать нам какой-то вопрос на непонятном языке; но он умер, не произнеся ни слова, не дрогнув, не шелохнувшись. Только в самую последнюю минуту, словно в ответ на какой-то невидимый нам знак или шепот, который мы не могли услышать, он сдвинул брови, и его черное мертвое лицо стало угрюмым, задумчивым и грозным. Лучистые вопрошающие глаза угасли, стали стеклянными.
– Умеете вы править рулем? – нетерпеливо спросил я агента. Он, видимо, сомневался, но я схватил его за руку, и он сразу понял, что никакие возражения не помогут. По правде сказать, я горел нетерпением переодеть ботинки и носки.
– Он умер, – прошептал расстроенный пилигрим.
– Несомненно, – сказал я, дергая, как сумасшедший, шнурки ботинок. – И полагаю, что и мистера Куртца уже нет в живых.
В тот момент меня преследовала эта мысль. Я был страшно разочарован, как будто мне открылось, что все это время я стремился к чему-то призрачному. Большего разочарования я бы не мог испытать, если бы прошел весь этот путь с единственной целью поговорить с мистером Куртцем. Поговорить с ним… Я швырнул ботинок за борт, и тут меня осенила мысль, что именно к этому-то я и стремился – к беседе с Куртцем. Я сделал страшное открытие: этого человека я никогда не представлял себе, так сказать, действующим, но только – разговаривающим. Я не говорил себе: «Теперь я никогда его не увижу», или «теперь я не могу пожать ему руку», но – «теперь я никогда его не услышу». Думая об этом человеке, я думал о его голосе. Конечно, с ним связаны были известные поступки. Разве не твердили мне со всех сторон с восхищением и завистью, что он собрал, выменял, выманил или украл слоновой кости больше, чем все агенты, вместе взятые? Но не в этом была суть. Дело в том, что он был одаренным существом, и из всех его талантов подлинно реальной была его способность говорить – дар слова, дар ошеломляющий и просветляющий, самый возвышенный и самый презренный, пульсирующая струя света или обманчивый поток из сердца непроницаемой тьмы.
Второй ботинок полетел в эту проклятую реку. «Черт возьми! – подумал я. – Все кончено. Мы опоздали. Он исчез, и дар его исчез. Он убит копьем, стрелой или дубиной. В конце концов я так и не услышу, как говорил этот парень…» В моем отчаянии было что-то похожее на безграничную скорбь, какая слышалась в вое этих дикарей в кустах. Я почувствовал такое уныние и одиночество, словно у меня отняли веру или я не оправдал своего назначения в жизни…
Кто это там так глубоко вздыхает? Что вы говорите? Нелепо? Ну что ж! Пусть – нелепо. Боже мой! Неужели человек не может… Послушайте, дайте-ка мне табаку.
Спустилось глубокое молчание, потом вспыхнула спичка и осветила худое измученное лицо Марлоу, изборожденное вертикальными складками; веки были опущены, вид у него был внимательный и сосредоточенный. Он энергично раскуривал трубку. Крохотное пламя колебалось, а лицо то приближалось, то отступало в ночь. Спичка потухла.
– Нелепо! – воскликнул он. – Что толку рассказывать!.. Здесь у каждого из вас имеется по два адреса, вы прочно ошвартованы, словно судно, стоящее на двух якорях; вы знаете, что за одним углом находится мясник, а за другим – полисмен; аппетит у вас превосходный и температура нормальная… Понимаете?.. нормальная с начала до конца года. А вы говорите – нелепо!.. К черту нелепость! Друзья мои, чего ждать от человека, который так нервничает, что выбрасывает за борт пару новых ботинок? Теперь меня удивляет, как я тогда не пролил слез. Честное слово, я горжусь своей выдержкой. Меня больно задела мысль, что я лишился великой привилегии послушать этого одаренного Куртца. Конечно, я ошибался. Привилегия ждала меня. О да! Я услыхал больше, чем было нужно. И я был прав, думая о его голосе. Голос – вот самое существенное, что у него осталось. И я услышал его – этот голос – и другие голоса; а воспоминание об этом времени витает вокруг меня, неосязаемое, как замирающий отголосок болтовни глупой, жестокой, непристойной, дикой или просто подлой и лишенной какого бы то ни было смысла. Голоса, голоса… и даже сама девушка…
Марлоу долго молчал.
– Призрак я заклял в конце концов ложью, – начал он внезапно. – Девушка! Как? Я упомянул о девушке? О, она в этом не участвует. Они – женщины, хочу я сказать – стоят в стороне и должны стоять в стороне. Мы должны помочь им в их прекрасном мире, чтобы наш мир не сделался еще хуже. О да, ей суждено было остаться в стороне. Если б вы слышали, как мистер Куртц – этот вырытый из земли труп – говорил: «Моя нареченная». Тогда вы бы поняли, что ей нет места в его мире. Высокий лоб мистера Куртца! Говорят, волосы иногда продолжают расти после смерти, но этот… гм… субъект был поразительно лыс. Дикая глушь погладила его по голове, и – смотрите! – голова его уподобилась шару – шару из слоновой кости. Глушь его приласкала, и – о, чудо! – он зачах. Она его приняла, полюбила, проникла в его вены, в его плоть, наложила свою печать на его душу, проделала над ним какие-то дьявольские церемонии посвящения. Он был ее избалованным и изнеженным фаворитом. Слоновая кость? Ну, еще бы! Груды слоновой кости. Старая хижина из глины была битком набита. Можно было подумать, что во всей стране не осталось ни одного бивня в земле и на земле. «Все больше ископаемые», – презрительно заметил начальник. Но с таким же успехом можно и меня считать ископаемым. Ископаемой они называли слоновую кость, вырытую из земли. Оказывается, эти негры иногда зарывают бивни в землю, но, видимо, им не удалось зарыть их достаточно глубоко, чтобы спасти одаренного мистера Куртца от его судьбы.
Мы погрузили бивни на пароход, и целая гора лежала на палубе. Таким образом, Куртц мог смотреть и наслаждаться, так как способность оценки не покидала его до последней минуты. Слыхали б вы, как он говорил: «Моя слоновая кость!» О, я его слышал! «Моя нареченная, моя слоновая кость, моя станция, моя река, мое…» Все принадлежало ему. Затаив дыхание, я ждал, что глушь разразится жутким раскатистым смехом, от которого звезды содрогнутся на небе. Все принадлежало ему, но суть была не в этом. Важно было знать, кому принадлежал он, какие силы тьмы предъявляли на него свои права. От этих размышлений мурашки пробегали по спине. Невозможно – и опасно было выводить заключение. Он занимал высокий пост среди демонов той страны – я говорю не иносказательно.
Вы не можете это понять. Да и как вам понять? Под вашими ногами прочная мостовая, вы окружены добрыми соседями, которые готовы вас развеселить или, деликатно проскользнув между мясником и полисменом, наброситься на вас, охваченные священным ужасом перед скандалом, виселицей и сумасшедшим домом. Как же можете вы себе представить, в какую тьму первобытных веков забредет свободный человек, вступивший на путь одиночества – полного одиночества, без полисмена, – на путь молчания, полного молчания, когда не слышно предостерегающего голоса доброго соседа, который нашептывает вам об общественном мнении? Все эти мелочи и составляют великую разницу. Когда их нет, вы должны опираться на самого себя, на свою собственную силу и способность соблюдать верность. Конечно, вы можете оказаться слишком глупым, чтобы сбиться с пути, слишком тупым, чтобы заметить обрушившиеся на вас силы тьмы. Я считаю, что никогда ни один глупец не продавал своей души черту: либо глупец оказался слишком глупым, либо в черте было слишком много чертовщины.
Или, быть может, вы относитесь к категории тех экзальтированных созданий, которые глухи и слепы ко всему, кроме небесных знамений и звуков. Тогда земля для вас – лишь случайное пристанище, и я не берусь сказать, выигрываете ли вы от этого или проигрываете. Но к большинству из нас все эти определения не подходят. Для нас земля – место, где мы живем, где мы должны мириться со всеми звуками, образами и запахами. Да, черт возьми, мы должны вдыхать запах гниющего гиппопотама и не поддаваться заразе. И тогда на сцену выступает наша выносливость, вера в нашу способность закопать это гниющее тело и наша преданность – преданность не себе, но непосильному темному делу. И это не очень-то легко.
Поймите, я не пытаюсь что-либо изменить или объяснить – я хочу понять, понять мистера Куртца или тень мистера Куртца. Этот посвященный в таинства призрак из Ниоткуда, перед тем как окончательно исчезнуть, удостоил меня поразительными признаниями. Объясняется это тем, что он мог говорить со мной по-английски. Образование Куртц получил главным образом в Англии, и – как он сам соизволил сказать – эта страна достойна его привязанности. Его мать была наполовину англичанкой, отец – наполовину французом. Вся Европа участвовала в создании Куртца. Как я со временем узнал, «Международное общество по просвещению дикарей» поручило ему написать отчет, каковым можно было бы руководствоваться в дальнейшей работе. И он этот отчет написал. Я его видел, читал. Отчет красноречивый, но, сказал бы я, написанный на высоких нотах. Он нашел время исписать мелким почерком семнадцать страниц! Но, должно быть, это было им написано до того как… ну, скажем, нервы его расходились и побудили мистера Куртца председательствовать во время полунощной пляски, закончившейся невероятными церемониальными обрядами. Впоследствии я, к досаде своей, разузнал, что обряды эти совершались в честь его… вы понимаете? – в честь самого мистера Куртца.
Но статья была прекрасная. Впрочем, теперь, когда сведения мои пополнились, вступление к статье кажется мне зловещим. Куртц развивал ту мысль, что мы, белые, достигшие известной степени развития, «должны казаться им (дикарям) существами сверхъестественными. Мы к ним приходим могущественными, словно боги» – и так далее и так далее. «Тренируя нашу волю, мы можем добиться власти неограниченной и благотворной…» Начиная с этого места он воспарил и прихватил меня с собой. Заключительные фразы были великолепны, но трудно поддавались запоминанию. У нас сохранилось впечатление о мире экзотическом, необъятном, управляемом могущественной благой силой. Я преисполнился энтузиазма. Такова неограниченная власть красноречия – пламенных, благородных слов.
Никакие практические указания не врывались в магический поток фраз, и только в конце последней страницы – видимо, спустя большой промежуток времени – была нацарапана нетвердой рукой заметка, которую можно рассматривать как изложение метода. Она очень проста и, после трогательного призыва ко всем альтруистическим чувствам, она вас ослепляет и устрашает, как вспышка молнии в ясном небе: «Истребляйте всех скотов!» Любопытно то, что он, видимо, позабыл об этом многозначительном постскриптуме, ибо позднее, придя, так сказать, в себя, настойчиво умолял меня хранить «памфлет» (так называл он свою статью), который должен был благоприятно отразиться на его карьере. Обо всем этом у меня имелись точные сведения, а в будущем мне пришлось позаботиться и о его добром имени. Я достаточно об этом позаботился – и потому, если бы захотел, имел полное право бросить этот памфлет в мусорную кучу прогресса – туда, где, фигурально выражаясь, покоятся все дохлые кошки цивилизации. Но, видите ли, у меня не было выбора. Мистера Куртца нельзя было забыть, так как он, во всяком случае, человек незаурядный. Он имел власть чаровать или устрашать первобытные души дикарей, которые в его честь совершали колдовскую пляску; он умел вселить злобные опасения в маленькие душонки пилигримов; он приобрел, во всяком случае, одного преданного друга, и он завоевал одну душу в мире, отнюдь не первобытную и не зараженную самоанализом.
Да, я не могу его забыть, хотя и не собираюсь утверждать, что он стоил того человека, которого мы потеряли, чтобы до него добраться. Мне не хватало моего погибшего рулевого; я остро ощущал его отсутствие даже в тот момент, когда тело его еще лежало в рулевой рубке. Пожалуй, нам покажется странным это сожаление о дикаре, который имел не больше значения, чем песчинка в черной Сахаре. Но поймите, он что-то делал, он правил рулем. В течение многих дней он стоял за моей спиной – мой помощник, мое орудие. Это было своего рода товарищество. Он правил за меня – я следил за ним. Меня тревожили его недостатки, и вот протянулась между нами тонкая нить, которую я заметил лишь тогда, когда она внезапно оборвалась. А глубокий задушевный взгляд, какой он на меня бросил, когда ему нанесли удар… я помню по сей день как утверждение далекого родства.
Бедняга! Если б только он не трогал этого ставня! У него не было выдержки – как не было ее у Куртца… Дерево, раскачиваемое ветром… Надев сухие туфли, я вытащил его из рубки. Предварительно я вырвал у него из бока копье, причем, признаюсь, эту операцию я произвел с закрытыми глазами. Его пятки очутились за порогом; плечи его я прижимал к своей груди. Я обнял его сзади и тащил. О, каким он был тяжелым! Мне он казался тяжелее любого человека на земле. Затем, не теряя времени, я спустил его за борт. Течение его подхватило, словно он был пучок травы; я видел, как тело два раза перевернулось и скрылось навеки.
Все пилигримы и начальник собрались на верхней палубе около рулевой рубки и трещали, словно стая взволнованных сорок; возмущенным шепотом отозвались они на мой бессердечный поступок. Зачем было им оставлять здесь это тело – я не могу догадаться. Быть может, они собирались его набальзамировать. Но с нижней палубы донесся до меня шепот – зловещий шепот. Мои друзья дровосеки также были скандализованы, и не без причины, но, признаюсь, их расчеты казались мне недопустимыми. Я решил, что если моему покойному рулевому суждено быть съеденным, то пусть его съедят одни рыбы. При жизни он был посредственным рулевым, а после смерти мог сделаться первоклассным искусителем и, пожалуй, вызвать серьезное волнение. Кроме того, я хотел поскорее занять место у штурвала, так как парень в розовой пижаме оказался безнадежным идиотом.
Покончив с несложными похоронами, я поспешил его сменить. Мы шли тихим ходом, придерживаясь середины реки, и я прислушивался к разговорам, какие велись вокруг меня. Пилигримы потеряли надежду увидеть Куртца, увидеть станцию. Куртц умер, станция сожжена. Рыжеволосый пилигрим радовался, что бедняга Куртц во всяком случае отомщен.
– Послушайте, ведь мы их здорово отделали, когда стреляли по кустам? А? Как вы думаете? Скажите?
Он буквально приплясывал – этот кровожадный рыжий человечек! А ведь он едва не упал в обморок, увидев раненого. Я не выдержал и сказал:
– Во всяком случае, дыму вы много напустили. Я видел по тому, как шелестели верхушки кустов, что все пули летели слишком высоко. – Нужно прицеливаться и держать ружье у плеча, а эти парни держали ружья у бедра и стреляли зажмурившись. Отступление, утверждал я – и не ошибался – было вызвано пронзительным свистком парохода. Тут они позабыли о Куртце и негодующе запротестовали.
Начальник стоял у штурвала и конфиденциально шептал мне, что до наступления темноты мы должны спуститься по реке и убраться подальше от этих мест. Вдруг я увидел вдали просеку на берегу реки и контуры какого-то строения.
– Что это? – спросил я.
Изумленный, он захлопал в ладоши и крикнул:
– Станция!
Не прибавляя ходу, я тотчас же повернул к берегу.
В бинокль я увидел отдельные деревья на склоне холма, очищенного от кустарника. Длинное разваливающееся строение на вершине было почти скрыто высокой травой; издали видны были большие черные дыры, зиявшие в остроконечной крыше. Фоном служили заросли и лес. Я не заметил никакой изгороди, но, очевидно, раньше она здесь была, так как перед домом вытянулись в ряд шесть тонких столбов, грубо обструганных и украшенных круглыми шарами. Перекладин между ними не было. Конечно, лес обступал просеку. Берег был расчищен, и у самой воды я увидел белого человека в шляпе, похожей на колесо, который настойчиво махал нам рукой. Вглядываясь в опушку леса, я почти с уверенностью мог сказать, что там мелькали какие-то человеческие фигуры. Я осторожно провел пароход дальше, затем остановил машины; судно слегка отнесло течением назад. Человек на берегу начал кричать, предлагая нам пристать к берегу.
– На нас было нападение! – завопил начальник.
– Знаю, знаю. Все в порядке! – беззаботно заорал в ответ человек с берега. – Причаливайте. Все в порядке. Я очень рад.
Глядя на него, я стал припоминать что-то очень забавное, где-то мною виденное. Маневрируя, чтобы подойти к берегу, я задавал себе вопрос: «На кого похож этот парень?» И вдруг вспомнил: он был похож на арлекина. Его костюм – кажется, из небеленого холста – был сплошь покрыт заплатами, яркими заплатами – синими, красными и желтыми; заплаты красовались спереди, сзади, на локтях, на коленях; цветная полоса опоясывала куртку, алой материей был обшит низ брюк. Освещенный солнцем, он казался удивительно пестрым и в то же время очень опрятным, так как вы могли разглядеть, с какой аккуратностью нашиты все эти заплаты. Белокурый; безбородое мальчишеское лицо; ни одной резкой черты; маленькие голубые глазки; нос, с которого почти облупилась кожа; улыбки и гримасы, гонявшиеся друг за другом по открытому лицу, как гоняются солнечные блики и тени по равнине, обвеваемой ветром.
– Осторожнее, капитан! – крикнул он. – Здесь затонула прошлой ночью коряга.
Как? Еще одна коряга! Признаюсь, я непристойно выругался. К концу нашего восхитительного путешествия я едва не продырявил свое искалеченное судно. Арлекин, стоявший на берегу, повернул ко мне свой приплюснутый носик.
– Вы англичанин? – крикнул он, расплываясь в улыбке.
– А вы? – откликнулся я, стоя у штурвала.
Улыбка сбежала с его лица, и он покачал головой, как бы огорченный моим разочарованием; потом снова просиял.
– Ну ничего! – ободряюще крикнул он.
– Не опоздали мы? – спросил я.
– Он там, наверху, – ответил тот, мотнув головой в сторону холма и внезапно погружаясь в уныние. Его лицо напоминало осеннее небо – то пасмурное, то залитое солнечным светом.
Когда начальник в сопровождении вооруженных до зубов пилигримов сошел на берег и направился к дому, арлекин явился ко мне на борт.
– Послушайте, мне это не нравится, – сказал я, – туземцы бродят там в кустах.
Он торжественно меня уверил, что все обстоит благополучно, а затем добавил:
– Они – люди простые. Я рад, что вы приехали. Нелегко мне было с ними справиться.
– Но вы говорите, что все обстоит благополучно! – воскликнул я.
– О, у них не было злого умысла, – сказал он, а когда я вытаращил глаза, он поправился: – Да, в сущности, не было. – Потом быстро добавил: – Ах, боже мой, вашу рулевую рубку не мешает почистить!
Через секунду он уже советовал мне поддерживать пар в котле, чтобы в случае тревоги дать свисток.
– Один свисток произведет большее впечатление, чем все ваши ружья. Они – люди простые, – повторил он.
Он говорил так быстро, что совершенно меня ошеломил. Казалось, он хотел наверстать потерянное время, и так оно и было, – он сам со смехом на это намекнул.
– Разве вы не разговариваете с мистером Куртцем? – спросил я.
– С этим человеком не разговаривают – его слушают! – воскликнул он восторженно и строго. – Но теперь…
Он махнул рукой и мгновенно погрузился в самую бездну отчаяния. Через секунду он уже оттуда выкарабкался, завладел обеими моими руками и, не переставая их трясти, забормотал:
– Брат – моряк… честь… удовольствие… наслаждение… разрешите представиться… русский… сын архиерея[4]… Тамбовской губернии… Что? Табак! Английский табак! Превосходный английский табак! Вот это по-братски. Курю ли? Где вы найдете моряка, который не курит?
Трубка его успокоила, и вскоре я узнал, что он убежал из школы, ушел в море на русском судне, снова убежал, одно время служил на английских судах и теперь примирился с архиереем. Этот пункт он подчеркнул.
– Но когда человек молод, он должен видеть мир, набираться новых впечатлений, идей, расширять свой кругозор…
– Здесь! – перебил я.
– Как можно знать заранее? Здесь я встретил мистера Куртца, – сказал он укоризненно и с юношеской торжественностью.
Я прикусил язык. Выяснилось, что он убедил представителя одной голландской фирмы на побережье снабдить его товарами и провиантом, и потом отправился в глубь страны с легким сердцем и как младенец, не ведая того, что ждет его впереди. Около двух лет он странствовал по берегам этой реки, одинокий, отрезанный от всего и от всех.
– Я не так молод, как кажется. Мне двадцать пять лет, – сказал он. – Сначала старик Ван-Шьютен хотел послать меня к черту, – рассказывал он, от души забавляясь, – но я к нему пристал и говорил, говорил без конца, так что он наконец испугался, как бы я не заговорил зубы его любимой собаке. Тогда он мне дал дешевых товаров и несколько ружей и выразил надежду, что никогда больше не увидит моей физиономии. Славный старик голландец – этот Ван-Шьютен. Год назад я ему послал немного слоновой кости, так что он не сможет назвать меня вором, когда я вернусь. Надеюсь, он ее получил. А больше я ни о чем не беспокоюсь. Я заготовил для вас дров. Там было мое старое жилище. Вы видели?
Я передал ему книгу Тоусона. Казалось, он хотел меня поцеловать, но удержался.
– Единственная книга, которую я оставил. А я-то думал, что потерял ее, – сказал он, смотря на нее словно в экстазе. – Столько, знаете ли, происшествий случается с человеком, который путешествует в одиночестве! Иногда каноэ перевертываются, а иногда приходится поскорей удирать, если туземцы рассердятся.
Он перелистывал книгу.
– Вы делали заметки на русском языке? – спросил я. Он кивнул головой.
– Я думал, что это какой-то шифр, – сказал я.
Он рассмеялся, потом сразу сделался серьезным и проговорил:
– Вы не знаете, как мне было трудно справиться с туземцами.
– Они хотели вас убить? – спросил я.
– О нет! – воскликнул он и умолк.
– Почему они на нас напали? – продолжал я.
Он замялся, потом сконфуженно сказал:
– Они не хотят, чтобы он уехал.
– Не хотят? – с любопытством переспросил я.
Он кивнул таинственно и многозначительно.
– Говорю вам, этот человек расширил мой кругозор! – воскликнул он и широко раскинул руки, глядя на меня своими круглыми голубыми глазками.
III
Я смотрел на него с изумлением. Он стоял передо мной в своем пестром костюме, восторженный, фантастический, словно удрал из труппы мимов. Самое его существование казалось невероятным, необъяснимым, сбивающим с толку. Он был загадкой, не поддающейся разрешению. Непонятно, чем он жил, как удалось ему забраться так далеко, как ухитрился он остаться здесь и почему не погиб.
– Я отправился в путь, – сказал он, – забирался понемногу все дальше и дальше и наконец зашел так далеко, что не знаю, как я вернусь назад. Ну, ничего! Времени много. Выживу. А вы увезите Куртца. И поскорей, поскорей, говорю вам.
Юношеская сила чувствовалась в этом человеке в пестрых лохмотьях, нищем, покинутом, одиноком в его бесплодных исканиях. В течение многих месяцев, в течение нескольких лет жизнь его висела на волоске, но он продолжал жить, безумный и, по-видимому, бессмертный, благодаря своей молодости и безрассудной смелости. Я почувствовал что-то похожее на восхищение и зависть. Чары увлекали его вперед, спасали от гибели. От дикой глуши он не требовал ничего, кроме возможности дышать и пробиваться дальше. Ему нужно было жить и идти вперед, подвергая себя величайшему риску и лишениям. Если чистый, бескорыстный, непрактичный дух авантюризма управлял когда-либо каким-нибудь человеком, то, несомненно, этим человеком был мой заплатанный юнец. Я готов был позавидовать ему, горевшему этим скромным и ясным пламенем. Казалось, пламя поглотило всякую себялюбивую мысль, и когда он говорил, вы забывали, что он сам, стоящий перед вами, прошел через все эти испытания. Однако я не завидовал его преданности Куртцу. О ней он не размышлял – он ее принял с каким-то страстным фатализмом. Должен сказать, мне эта преданность казалась значительно опаснее всего того, через что он уже прошел.
Встреча их была неизбежна, как встреча двух судов, вместе застигнутых штилем и наконец соприкоснувшихся бортами. Думаю, Куртц нуждался в слушателе, ибо случилось так, что, расположившись лагерем в лесу, они беседовали всю ночь, или – вернее – говорил один Куртц.
– Мы говорили обо всем, – с восторгом сообщил мне молодой человек. – Я позабыл о сне. Ночь пролетела, как один час. Обо всем! Обо всем!.. И о любви.
– А, он говорил с вами о любви! – сказал я, от души забавляясь.
– Не о той любви, о какой вы думаете! – страстно воскликнул он. – О любви вообще. Он показал мне мир – мир!
Он воздел руки к небу. В тот момент мы находились на палубе, и старшина моих дровосеков, бродивший поблизости, посмотрел на него своими мрачными сверкающими глазами. Я огляделся по сторонам, и – уверяю вас – никогда еще не казались мне эта страна, эта река, заросли, ослепительный купол неба такими безнадежными и сумрачными, непроницаемыми для человеческой мысли и безжалостными к человеческой слабости.
– И с тех пор вы, конечно, всегда были с ним? – спросил я.
Я ошибался. Оказывается, они по многим причинам очень часто разлучались. Мой собеседник с гордостью сообщил, что ему удалось выходить Куртца, когда тот два раза был болен (казалось, свой поступок он считал каким-то рискованным подвигом), но обычно Куртц скитался один, забираясь в самые дебри лесов.
– Очень часто я являлся на станцию и должен был несколько дней ждать его возвращения, – сказал он. – Ах, этого стоило ждать… иногда.
– Что же он делал? Исследовал страну? – спросил я.
– О да, конечно.
Выяснилось, что Куртц нашел много деревень, а также озеро, но собеседник мой не знал, где именно расположено это озеро: рискованно было задавать Куртцу слишком много вопросов; но обычно целью его экспедиций была добыча слоновой кости.
– Но ведь к тому времени у него не осталось товаров для обмена, – возразил я.
– На станции и сейчас еще есть много патронов, – ответил он, глядя в сторону.
– Иными словами, он совершал набеги, – сказал я.
Тот кивнул.
– Но не один же!
Он пробормотал что-то о деревнях близ озера.
– Куртц добился того, чтобы племя за ним следовало, не так ли? – подсказал я.
Он замялся, потом ответил:
– Они его боготворили.
Тон его показался мне таким странным, что я зорко на него посмотрел. Любопытно было, что ему страстно хотелось говорить о Куртце, и в то же время что-то его удерживало… Этот человек заполнил его жизнь, занимал его мысли, подчинил все его эмоции.
Наконец он не выдержал.
– Чего вы хотите? Он пришел к ним и принес с собою гром и молнию… Ничего похожего на это они раньше не видели. И он был страшен. Он умеет быть страшным. Нельзя судить о мистере Куртце, как вы стали бы судить о заурядном человеке. Нет, нет! Чтобы вы яснее его себе представили, я могу сказать, что он и меня хотел однажды пристрелить… но я его не осуждаю.
– Вас пристрелить! – воскликнул я. – За что?
– Видите ли, у меня было немного слоновой кости, которую мне дал вождь одной деревушки неподалеку от моего жилища. Я, бывало, стрелял для них дичь. Куртц потребовал, чтобы я ее отдал ему, и слушать не хотел никаких возражений. Он заявил, что пристрелит меня, если я ему не отдам слоновой кости и не уберусь из этих краев. Он мог меня пристрелить, и ничто на земле не помешало бы ему убить того, кого ему вздумается. Это была правда. Я ему отдал слоновую кость. Не все ли мне было равно? Но не уехал, нет. Я не мог его оставить. Конечно, мне приходилось быть очень осторожным, пока мы снова не подружились – на время. Тогда он заболел вторично. А потом я старался не попадаться ему на пути; но я не сердился. Большую часть времени он проводил в этих деревнях у озера. Когда он спускался к реке, он иногда бывал ласков со мной, а иногда я должен был его остерегаться. Этот человек слишком много страдал. Все это он ненавидел, но почему-то не мог отсюда уйти. Когда представлялся удобный случай, я умолял его уехать, пока не поздно; я предлагал вернуться вместе с ним. Он соглашался, а потом оставался; снова охотился за слоновой костью; пропадал по целым неделям; забывал о себе среди этих людей. Вы понимаете – забывал о себе.
– Да ведь он сумасшедший! – воскликнул я.
Мой собеседник негодующе запротестовал. Мистер Куртц не мог быть сумасшедшим. Если бы я слышал, как он разговаривал всего два дня назад, я бы и заикнуться не посмел о чем-либо подобном…
Пока мы беседовали, я смотрел в бинокль на берег и лес, подступивший к дому справа, слева и сзади. Я был неспокоен, зная, что в зарослях притаились люди, безмолвные, неподвижные – такие же безмолвные и неподвижные, как этот разрушенный дом на холме. Глядя на лик природы, я не находил подтверждения этой изумительной повести, которая не столько была рассказана, сколько внушена мне унылыми восклицаниями, пожиманием плеч, оборванными фразами, намеками, переходившими в глубокие вздохи. Лес казался неподвижным, как маска, тяжелым, как запертая тюремная дверь; он словно скрывал свою тайну – терпеливый, выжидающий, неприступно молчаливый.
Русский сообщил мне, что совсем недавно мистер Куртц вернулся к реке, ведя за собой всех воинов приозерного племени. В отсутствии он пробыл несколько месяцев – должно быть, собирал дань почитания – и явился неожиданно, видимо намереваясь вторгнуться в селения на другом берегу реки или ниже по течению. Очевидно, страсть к слоновой кости одержала верх над иными… как бы это сказать?.. менее материалистическими побуждениями. Но внезапно он почувствовал себя значительно хуже.
– Я услышал, что он лежит беспомощный… Вот я и пришел, воспользовался случаем, – сказал русский. – О, ему плохо, очень плохо.
Я направил бинокль на дом. Там незаметно было признаков жизни; виднелась разрушенная крыша, длинная стена из глины, поднимающаяся над травой, три маленьких четырехугольных дыры вместо окон; бинокль все это ко мне приблизил, и я, казалось, мог рукой прикоснуться к дому. Затем я резко повернулся, и один из уцелевших столбов изгороди попал в поле зрения. Вы помните, я вам говорил, что еще издали удивился этой попытке украсить столбы, тогда как дом имел такой запущенный вид. Теперь я всмотрелся и отпрянул, словно мне нанесли удар. Потом стал наводить бинокль на все столбы по очереди и окончательно убедился в своей ошибке. Эти круглые шары были не украшением, но символом, выразительным, загадочным и волнующим, пищей для размышления, а также – для коршунов, если бы таковые парили в небе; и, во всяком случае, они служили пищей для муравьев, не поленившихся подняться на столб. Еще большее впечатление производили бы эти головы на кольях, если бы лица их не были обращены к дому. Только первая голова, какую я разглядел, была повернута лицом в мою сторону. Возмущен я был не так сильно, как, быть может, думаете. Я отшатнулся потому, что был изумлен: я рассчитывал увидеть деревянный шар. Спокойно навел я бинокль на первую замеченную мною голову. Черная, высохшая, с закрытыми веками, она как будто спала на верхушке столба; сморщенные сухие губы слегка раздвинулись, обнажая узкую белую полоску зубов; это лицо улыбалось, улыбалось вечной улыбкой какому-то нескончаемому и веселому сновидению.
Я не разоблачаю секретов торговой фирмы. Как сказал впоследствии начальник – метод мистера Куртца повредил работе в этих краях. Своего мнения по этому вопросу я не имею, но я хочу вам объяснить, что никакой выгоды нельзя было извлечь из этих голов, насаженных на колья. Они лишь свидетельствовали о том, что мистер Куртц, потворствовавший разнообразным своим страстям, нуждался в выдержке, что чего-то ему не хватало, какой-то мелочи в критический момент, несмотря на великолепное его красноречие. Знал ли он об этом своем недостатке, я не могу сказать. Думаю, что глаза его открылись в последнюю минуту. Но дикая глушь рано его отметила и жестоко ему отомстила за фанатическое вторжение. Думаю, она шепотом рассказала ему о нем самом то, чего он не знал, о чем не имел представления, пока не прислушался к своему одиночеству, и этот шепот зачаровал его и гулким эхом отдавался в нем, ибо в глубине его была пустота… Я опустил бинокль, и голова, торчавшая так близко, что, казалось, с ней можно заговорить, сразу отскочила вдаль.
Поклонник мистера Куртца приуныл. Торопливо, невнятно начал он меня уверять, что не посмел снять со столбов эти, скажем, символы. Туземцев он не боялся; они не двинутся с места до тех пор, пока мистер Куртц не отдаст распоряжения: его влияние безгранично. Эти люди расположились лагерем вокруг станции, и вожди каждый день его навещали. Они пресмыкались…
– Я знать не желаю о тех церемониях, с какими приближались к мистеру Куртцу! – крикнул я. Любопытно, что такие детали отталкивали меня сильнее, чем эти головы, сушившиеся на кольях под окнами мистера Куртца. В конце концов, то было лишь варварское зрелище, тогда как я одним прыжком перенесся в темную страну ужасов, где успокоительно действовало на вас чистое, неприкрытое варварство, видимо, имеющее право существовать под солнцем. Молодой человек посмотрел на меня с удивлением. Думаю, ему не пришло в голову, что мистер Куртц не был моим идолом. Он позабыл о том, что я не слыхал великолепных монологов Куртца… о чем? о любви, справедливости, поведении в жизни. Уж если речь зашла о пресмыкании перед мистером Куртцем, то он пресмыкался не хуже любого из дикарей. По его словам, я понятия не имел о здешних условиях; эти головы были головами мятежников. Услышав мой смех, он был возмущен. Мятежники! Какое еще определение предстояло мне услыхать? Я слыхал о врагах, преступниках, работниках, а здесь были мятежники. Эти мятежные головы казались мне очень покорными на своих кольях.
– Вы не знаете, как эта жизнь испытывает терпение такого человека, как Куртц! – воскликнул последний ученик Куртца.
– А о себе что вы скажете? – осведомился я.
– Я! Я! Я – человек простой. У меня нет великих замыслов. Мне ничего ни от кого не нужно. Как можете вы сравнивать меня с …?
Он не в силах был выразить свои чувства, пал духом и простонал:
– Не понимаю… Я делал все, чтобы сохранить ему жизнь, и этого достаточно. В его делах я не участвовал. У меня нет никаких способностей. Здесь в течение нескольких месяцев не было ни капли лекарства, ни куска пищи, какую можно дать больному. Его позорно покинули. Такого человека! С такими идеями! Позор! Позор! Я не спал последние десять дней…
Голос его замер, растворился в вечерней тишине. Пока мы разговаривали, длинные тени леса скользнули вниз по холму, протянулись ниже разрушенной хижины и символического ряда кольев. И дом и колья были окутаны сумерками, а мы внизу стояли, освещенные солнцем, и полоса реки у просеки сверкала ослепительным блеском, но выше по течению и ниже у поворота спускались темные тени. Ни души не было на берегу. В кустах не слышно было шороха.
Вдруг из-за угла дома вышла группа людей, словно вынырнувших из-под земли. Они шли по пояс в траве и несли самодельные носилки. И внезапно вырвался пронзительный крик, который прорезал неподвижный воздух, словно острая стрела, направленная в самое сердце земли. Мгновенно, как по волшебству, поток людей, обнаженных людей с копьями, луками, мечами, людей, бросающих дикие взгляды, – хлынул на просеку темноликого и задумчивого леса. Затрепетали кусты, заволновалась трава – потом все застыло настороженно.
– Теперь, если он не скажет им нужного слова, все мы погибли, – пробормотал русский.
Группа людей с носилками, словно окаменев, остановилась на полпути к пароходу. Я видел, как худой человек на носилках сел и поднял руку, возвышаясь над плечами носильщиков.
– Будем надеяться, что человек, который так хорошо умеет говорить о любви вообще, найдет основание пощадить нас на этот раз, – сказал я. С горечью думал я о грозившей нам нелепой опасности, словно считал бесчестием полагаться на милость этого жестокого призрака. Я не мог расслышать ни одного звука, но в бинокль я видел повелительно простертую худую руку, видел, как двигалась его нижняя челюсть, мрачно сверкали запавшие глаза и чудовищно раскачивалась костистая голова. Куртц… Куртц… кажется, по-немецки это значит – короткий? Ну что ж! В фамилии этого человека было столько же правды, сколько в его жизни и… смерти. Он был не меньше семи футов ростом. Его одеяло откинулось, и обнажилось тело, словно освобожденное от савана, страшное и жалкое. Я видел, как двигались все его ребра, как он размахивал костлявой рукой. Казалось, одушевленная статуя смерти, вырезанная из старой слоновой кости, потрясала рукой, угрожая неподвижной толпе людей из темной сверкающей бронзы. Я видел, как он широко раскрыл рот… в этот момент он выглядел прожорливым и страшным, словно хотел проглотить воздух и всех людей, стоявших перед ним. До меня слабо доносился низкий голос. Должно быть, он кричал. Вдруг он откинулся назад. Дрогнули носилки, когда носильщики снова зашагали вперед, и почти в тот же момент я обратил внимание, что толпа дикарей незаметно исчезла, как будто лес, выбросивший внезапно этих людей, снова втянул их в себя, как легкие втягивают воздух.
Пилигримы, шедшие за носилками, несли его оружие – два карабина, винтовка, револьвер – громовые стрелы этого жалкого Юпитера. Начальник, шагавший у изголовья носилок, наклонился, шепча ему что-то на ухо. Они положили его в одной из маленьких кают, где едва могла поместиться койка да один-два складных стула. Мы принесли ему его запоздавшие письма; разорванные конверты и исписанные листки усеяли постель. Слабой рукой он их перебирал. Меня поразили его горящие глаза и усталое спокойное лицо. Не только болезнь его истощила. Казалось, боли он не чувствовал. Эта тень выглядела пресыщенной и спокойной, словно в данный момент все страсти ее были удовлетворены.
Он перелистал одно из писем и, глядя прямо мне в лицо, сказал:
– Я рад.
Кто-то писал ему обо мне. Снова дали о себе знать эти особые рекомендации. Меня удивил его громкий голос; а ведь говорил он без всяких усилий – едва шевеля губами. Голос! Голос! Торжественный, глубокий, вибрирующий – тогда как при виде этого человека не верилось, что он сможет говорить хотя бы шепотом. Однако у него, как вы сейчас услышите, хватило сил – искусственно возбужденных, несомненно – едва не покончить со всеми нами.
В дверях показался начальник. Я тотчас же вышел, а он задернул за мной занавеску. Русский, за которым с любопытством наблюдали пилигримы, пристально смотрел на берег. Я проследил за его взглядом.
Вдали виднелись темные силуэты людей, скользившие на мрачном фоне леса, а у реки две освещенные солнцем бронзовые фигуры в фантастических головных уборах из пятнистых звериных шкур стояли, опираясь на длинные копья, – воинственные и неподвижные фигуры, похожие на статуи. По залитому солнечным светом берегу скользил справа налево чудовищный и великолепный призрак женщины.
Она шла размеренными шагами, закутанная в полосатую, обшитую бахромой одежду, гордо ступая по земле. Звенели и сверкали варварские украшения. Она высоко несла голову; прическа ее напоминала шлем. Медные набедренники закрывали ноги до колен; проволочные латные рукавицы поднимались до локтя; красные пятна горели на ее коричневых щеках; бесчисленные ожерелья из стеклянных бусин украшали шею. Странные амулеты – подарки шаманов – сверкали на ее одежде. Должно быть, немало слоновых бивней стоили ее украшения. Она была великолепной дикаркой с пламенными глазами; что-то зловещее и величественное было в ее спокойной поступи. И в тишине, внезапно спустившейся на скорбную страну, необъятная глушь, плодородная таинственная жизнь, казалось, смотрела на нее задумчиво, словно в ней видела воплощенной свою мрачную и страстную душу.
Она поравнялась с пароходом, остановилась и повернулась к нам лицом. Длинная ее тень протянулась к самой воде. Ее лицо, трагическое и жестокое, было отмечено печатью дикой скорби, немой муки и страха перед каким-то еще не оформившимся решением. Она стояла неподвижно, смотрела на нас и словно размышляла над неисповедимой тайной. Прошла минута. Она сделала шаг вперед. Послышалось тихое позвякивание, блеснул желтый металл, взметнулась обшитая бахромой одежда, и женщина остановилась, словно мужество ей изменило. Русский, стоявший подле меня, что-то проворчал. Пилигримы перешептывались за моей спиной. Она смотрела на нас, словно жизнь ее зависела от этого пристального, немигающего взгляда. Вдруг она всплеснула обнаженными руками и подняла их над головой, казалось, обуреваемая безумным желанием коснуться неба… и в этот момент быстрые тени скользнули по земле, легли на реку и темным кольцом сомкнулись вокруг парохода. Нависло грозное молчание.
Медленно она повернулась, прошла вдоль берега и вступила в заросли.
– Вздумай она подняться на борт, я бы, кажется, попытался ее пристрелить, – нервничая, сказал человек с заплатами. – В течение последних двух недель я каждый день рисковал жизнью, не позволяя этой женщине войти в дом. Однажды она пробралась и подняла шум из-за этих жалких лохмотьев, которые я достал из чулана, чтобы починить свой костюм. Вид у меня был непристойный. А она, должно быть, из-за этого взбесилась и, как фурия, целый час говорила что-то Куртцу, то и дело указывая на меня. Я не понимаю наречия этого племени. На мое счастье, Куртц в тот день чувствовал себя очень плохо, а не то быть беде. Не понимаю… Да, это превышает мое понимание. Но теперь все кончено.