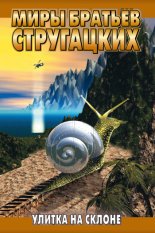Ночь нежна Фицджеральд Френсис

– Конечно – и правильно. Так какие у вас планы?
– Мама решила, что мне необходимо отдохнуть. Когда я вернусь, мы либо подпишем контракт с «Первой национальной», либо останемся в «Прославленных актерах».
– «Мы» – это кто?
– Моя мама. Делами у нас ведает она. Я без нее как без рук.
Он снова окинул ее взглядом, и что-то в Розмари потянулось к нему. Она не назвала бы это приязнью и уж тем более безотчетным обожанием, какое внушил ей утром на пляже другой мужчина. Так, подобие легкого щелчка. Брейди желал ее, и она, насколько то позволяли ее девственные чувства, невозмутимо обдумывала свою возможную капитуляцию. Зная при этом, что, распрощавшись с ним, через полчаса о нем забудет – как об актере, с которым целовалась на съемках.
– Вы где остановились? – спросил Брейди. – Ах да, у Госса. Так вот, у меня на этот год все расписано, однако письмо, которое я вам послал, остается в силе. Снять вас мне хочется больше, чем любую другую девушку, какая появилась со времен юной Конни Толмадж.
– И мне хочется сняться у вас. Почему вы не возвращаетесь в Голливуд?
– Терпеть его не могу. Мне и здесь хорошо. Подождите, мы снимем сцену, и я вам тут все покажу.
Он вышел на площадку и негромко заговорил с французским актером.
Прошло пять минут – Брейди продолжал говорить, француз время от времени переступал с ноги на ногу и кивал. Неожиданно ярко вспыхнувшие юпитеры облили эту пару гудящим сиянием и заставили Брейди задрать голову и что-то крикнуть вверх. В Лос-Анджелесе сейчас только и разговоров что о Розмари. Она невозмутимо пошла назад сквозь нагромождение тонких перегородок, ей хотелось вернуться туда. А иметь дело с Брейди в том настроении, которое, знала Розмари, сложится у него по окончании съемки, не хотелось, и она покинула киногородок, продолжая ощущать его колдовские чары. Теперь, когда она побывала на студии, Средиземноморье выглядело не таким притихшим. Ей нравились его пешеходы, и по пути к вокзалу она купила пару эспадрилий.
Мать Розмари была довольна тем, что дочь так точно выполнила ее указания, и все же ей хотелось поскорее пуститься в путь. Выглядела миссис Спирс посвежевшей, однако она устала; человек, которому довелось посидеть у одра смерти, устает надолго, а ей как-никак выпало посидеть у двух.
VI
Впавшая в благодушие от выпитого за ленчем розового вина, Николь Дайвер скрестила на груди руки так высоко, что покоившаяся на ее плече розовая камелия коснулась щеки, и вышла в свой чудесный, напрочь лишенный травы сад. Одну его границу образовывал дом, из которого сад вытекал и в который втекал, две других – старая деревня, а четвертую – утес, уступами спадавший к морю.
Вдоль стен, ограждавших сад от деревни, на всем лежала густая пыль – на извивистых лозах, на лимонных деревьях и эвкалиптах, на садовой тачке, оставленной здесь лишь мгновенье назад, но уже вросшей в тропинку, изнурившись и слегка затрухлявев. Николь всегда удивляло немного, что, повернув в сторону от стены и пройдя мимо пионовых клумб, она попадала в пределы столь прохладные и зеленые, что листья и лепестки сворачивались там от нежной сырости.
Шею Николь укрывал завязанный узлом сиреневый шарф, даже в бесцветном солнечном свете отбрасывавший свои отсветы вверх, на ее лицо, и вниз, к земле, по которой она ступала. Лицо казалось строгим, почти суровым, лишь в зеленых глазах Николь светилось сострадательное сомнение. Светлые некогда волосы ее теперь потемнели, и все-таки ныне, в двадцать четыре года, она была прелестнее, чем в восемнадцать, в пору, когда эти волосы затмевали ее красоту.
По тропинке, которая прорезала сплошную, как туман, поросль цветов, льнувшую к веренице белых камней по ее краям, Николь вышла на поляну над морем; здесь спали среди фиговых деревьев фонари, и большой стол, и плетеные кресла, и огромный рыночный зонт из Сиены теснились под великанской сосной, самым большим деревом сада. Николь постояла немного, отсутствующе вглядываясь в ирисы и настурции, вперемешку росшие у подножия сосны, словно кто-то бросил под ней на землю неразобранную пригоршню семян, вслушиваясь в жалобы и укоризны какой-то ссоры, разыгравшейся в детской дома. Когда эти звуки замерли в летнем воздухе, Николь пошла дальше между калейдоскопических, сбившихся в розовые облака пионов, черных и бурых тюльпанов и розовато-лиловых стеблей, венчавшихся хрупкими розами, сквозистыми, точно сахарные цветы в витрине кондитерской, – и наконец, когда исполнявшееся цветами скерцо утратило способность набрать еще большую силу, оно вдруг оборвалось, замерев в воздухе, и показались влажные ступеньки, спускавшиеся на пять футов к следующему уступу.
Здесь бил из земли ключ, обнесенный дощатым настилом, мокрым и скользким даже в самые солнечные дни. Обойдя его, Николь поднялась по лесенке в огород; шла она довольно быстро, движение нравилось ей, хотя временами от нее исходило ощущение покоя, сразу и оцепенелого, и выразительного. Объяснялось это тем, что слов она знала не много, не верила ни одному и в обычной жизни была скорее молчуньей, вносившей в разговоры лишь малую толику утонченного юмора – с точностью, которая граничила со скупостью. Впрочем, когда не знавшие Николь собеседники начинали неловко поеживаться от ее экономности, она вдруг завладевала разговором и пришпоривала его, сама на себя дивясь, – а потом отдавала в чьи-нибудь руки, резко, если не робко, точно услужливый ретривер, доказавший и умелость свою, и еще кое-что.
Пока она стояла в расплывчатом зеленом свете огорода, тропинку впереди пересек направлявшийся в свою мастерскую Дик. Николь молча подождала, пока он исчезнет из виду, потом прошла между грядок будущего салата к маленькому «зверинцу», где голуби, кролики и попугай осыпали ее неразберихой презрительных звуков, а там, спустившись на следующий выступ, приблизилась к низкой изогнутой стене и взглянула вниз, на лежавшее в семистах футах под ней Средиземное море.
Вилла Дайверов располагалась на краю еще в древности построенного в холмах городка Тарме. Прежде на ее месте и на принадлежавшей вилле земле стояли последние перед кручей крестьянские жилища – пять из них соединили, отчего получился большой дом, четыре снесли, чтобы разбить сад. Внешние их ограды остались нетронутыми, и потому с шедшей далеко внизу дороги вилла была неотличима от фиалково-серой массы городка.
Недолгое время Николь простояла, глядя вниз, на море, однако занять здесь свои неугомонные руки ей было нечем. В конце концов Дик вынес из его однокомнатного домишки подзорную трубу и нацелил ее на восток, на Канны. Николь ненадолго попала в поле его зрения, и он снова скрылся в домике, но сразу вышел оттуда с рупором в руке. Механических игрушек у него было много.
– Николь, – крикнул он, – забыл сказать, в виде последнего жеста милосердия я пригласил к нам на обед миссис Абрамс, беловласую женщину.
– Были у меня такие подозрения. Безобразие!
Легкость, с которой ее слова достигли Дика, показалась Николь унизительной для его рупора, поэтому она, повысив голос, крикнула:
– Ты меня слышишь?
– Да, – он опустил рупор, но сразу же, из чистого упрямства, снова поднял его ко рту. – Я собираюсь пригласить и еще кое-кого. Тех двух молодых людей.
– Ладно, – спокойно согласилась она.
– Мне хочется устроить вечер, по-настоящемукошмарный. Серьезно. С руганью, совращениями, вечер, после которого гости будут расходиться в растрепанных чувствах, а женщины падать в обморок в туалете. Вот подожди, увидишь, что у меня получится.
Он вернулся в свой домик, Николь же поняла, что муж впал в одно из самых характерных его настроений, в возбуждение, которое втягивает в свою орбиту всех и каждого и неотвратимо приводит к меланхолии личного его фасона, – Дик никогда не выставлял это свое состояние напоказ, однако Николь его узнавала. Какие-то вещи и явления возбуждали ее мужа с силой, совершенно не пропорциональной их значению, делая его обхождение с людьми поистине виртуозным. И это заставляло их, если они не были чрезмерно трезвыми или вечно подозрительными, зачарованно и слепо влюбляться в него. Но затем Дик неожиданно понимал, сколько сил потратил неизвестно на что и на какие сумасбродства пускался, и его постигало унылое отрезвление. И он с испугом оглядывался назад, на устроенные им карнавалы любовной привязанности, – так генерал может с оторопью вспоминать о массовой бойне, развязанной по его приказу ради удовлетворения общечеловеческой кровожадности.
Однако и недолгое пребывание в мире Дика Дайвера было переживанием замечательным: человек проникался верой, что именноего окружают здесь особой заботой, распознав возвышенную уникальность его назначения, давно похороненную под многолетними компромиссами. Дик мгновенно завоевывал каждого исключительной участливостью и учтивостью, которые проявлял с такой быстротой и интуицией, что осознать их удавалось лишь по результатам, к коим они приводили. А затем без всякой опаски раскрывал, дабы не увял первый цвет новых отношений, дверь в свой восхитительный мир. Пока человек сохранял готовность полностью отдаться этому миру, счастье его оставалось предметом особых забот Дика, но при первом же проблеске сомнений, вызываемых тем, что в мир этот впускают кого ни попадя, Дик попросту испарялся прямо на глазах у бедняги, оставляя ему столь скудные воспоминания о своих словах и поступках, что о них и рассказать-то нечего было.
В тот вечер, в половине девятого, он вышел из дома, чтобы встретить первых гостей, держа свой пиджак в руке и церемониально, и многообещающе – как держит плащ тореадор. Стоит отметить, что, поздоровавшись с Розмари и ее матерью, он умолк, ожидая, когда те заговорят первыми, словно дозволяя им опробовать свои голоса в новой для них обстановке.
Розмари полагала, если говорить коротко, что после подъема к Тарме и она, и ее мать, надышавшиеся свежего воздуха, выглядят почти привлекательно. Так же, как личные качества людей необычайных с ясностью проявляются в их режущих слух оговорках, дотошно просчитанное совершенство виллы «Диана» мгновенно явило себя, несмотря даже на случайные незадачи вроде мелькавшей на заднем плане горничной или неподатливости винной пробки. Когда появились, принеся с собой все треволнения этого вечера, первые гости, простые домашние хлопоты дня, символом коих были дети Дайверов, еще ужинавшие на террасе со своей гувернанткой, мирно отступили перед ними на второй план.
– Какой прекрасный сад! – воскликнула миссис Спирс.
– Сад Николь, – сказал Дик. – Никак она не оставит его в покое – допекает и допекает, боится, что он чем-нибудь заболеет. А мне остается только ждать, когда сама она сляжет с мучнистой росой, «мухоседом» или картофельной гнилью.
Он решительно наставил указательный палец на Розмари и с дурашливостью, непонятно как создававшей впечатление отеческой заботы, сообщил:
– Я надумал спасти ваш рассудок от страшной беды – подарить вам пляжную шляпу.
Дик провел их из сада на террасу, разлил по бокалам коктейль. Появился Эрл Брейди, удивившийся, увидев Розмари. В сравнении со съемочной площадкой, резкости в повадках его поубавилось, он словно оставил свою ершистость у калитки виллы, но Розмари, мгновенно сравнив его с Диком Дайвером, сразу отдала предпочтение последнему. Рядом с Диком Эрл Брейди выглядел немного вульгарным, грубоватым, и все-таки по телу Розмари словно ток пробежал – ее снова потянуло к нему.
Он, как к старым знакомым, обратился к вставшим из-за стола детям:
– Привет, Ланье, ты как насчет попеть? Может, вы с Топси споете для меня песенку?
– А какую? – с готовностью поинтересовался мальчик, говоривший слегка нараспев, как это водится у растущих во Франции американских детей.
– Спойте «Mon Ami Pierrot».
Брат с сестрой, нисколько не стесняясь, встали бок о бок, и их благозвучные, звонкие голоса полетели по вечернему воздуху.
- Au clair de la lune
- Mon Ami Pierrot
- Prte-moi ta plume
- Pour crire un mot
- Ma chandelle est morte
- Je n’ai plus de feu
- Ouvre-moi ta porte
- Pour l’amour de Dieu.
Пение смолкло, дети, принимая похвалы, стояли со спокойными улыбками на светившихся в последних лучах солнца лицах. И вилла «Диана» вдруг показалась Розмари центром вселенной. В таких декорациях наверняка должно происходить нечто запоминающееся навсегда. На душе у нее стало еще легче, когда она услышала, как звякнул колокольчик открываемой калитки, но тут на террасу поднялись новые гости – Мак-Киско, миссис Абрамс, мистер Дамфри и мистер Кэмпион.
Розмари ощутила укол острого разочарования и бросила быстрый взгляд на Дика, словно прося его объяснить столь несуразный выбор гостей. Однако ничего необычного на лице его не увидела. Горделиво приосанившись, он поприветствовал пришедших с подчеркнутым уважением к их бесконечным, хоть пока и не известным ему достоинствам. Розмари доверяла ему настолько, что мгновенно согласилась с правильностью присутствия Мак-Киско, словно с самого начала ждала встречи с ними.
– Мы с вами сталкивались в Париже, – сказал Мак-Киско Эйбу Норту, вошедшему вместе с женой почти по пятам за этой компанией, – собственно, сталкивались дважды.
– Да, помню, – ответил Эйб.
– А где именно, помните? – спросил не желавший остаться без собеседника Мак-Киско.
– Ну, по-моему… – однако Эйбу уже наскучила эта игра, – нет, не помню.
Разговор их заполнил неловкую паузу, а затем наступило молчание, и инстинкт внушил Розмари, что необходимо сказать кому-нибудь что-нибудь исполненное такта, однако Дик не стал пытаться как-то перегруппировать пришедших последними гостей или хотя бы стереть с лица миссис Мак-Киско выражение позабавленного высокомерия. Он не желал разрешать сложности их общения, поскольку понимал, что большого значения таковые не имеют, а со временем разрешатся сами собой. Гости эти ничего о нем не знали, вот он и сберегал силы для мгновений более важных, до времени, когда они поймут, что все идет хорошо и прекрасно.
Розмари стояла рядом с Томми Барбаном – тот пребывал сегодня в настроении особенно презрительном и, по-видимому, имел для этого некие веские основания. На следующее утро он уезжал.
– Возвращаетесь домой?
– Домой? У меня нет дома. Поеду на войну.
– На какую?
– На какую? А на любую. Газет я в последнее время не просматривал, но, полагаю, где-нибудь да воюют – как всегда.
– И вам все равно, за что сражаться?
– Решительно все равно – пока со мной хорошо обращаются. Оказавшись в тупике, я всегда приезжаю повидаться с Дайверами, поскольку знаю, что через пару недель меня потянет от них на войну.
Розмари замерла.
– Вам же нравятся Дайверы, – напомнила она Томми.
– Конечно, в особенности она, тем не менее они пробуждают во мне желание повоевать.
Розмари попыталась осмыслить сказанное им – и не смогла. У нее-то Дайверы вызывали желание навсегда остаться рядом с ними.
– Вы ведь наполовину американец, – сказала она – так, словно это могло что-то объяснить.
– И наполовину француз, получивший образование в Англии и успевший с восемнадцати лет поносить военную форму восьми стран. Надеюсь, однако, у вас не создалось впечатление, что я не люблю Дайверов, – я люблю их, в особенности Николь.
– Разве их можно не любить? – отозвалась Розмари.
Томми представлялся ей человеком очень далеким от нее. Подтекст его слов отталкивал Розмари, ей хотелось оградить свое преклонение перед Дайверами от кощунственной горечи Томми. Хорошо, что ей не придется сидеть рядом с ним за накрытым в саду столом, направляясь к которому она все еще думала о его словах: «В особенности Николь».
По пути к столу Розмари нагнала Дика Дайвера. Что бы ни попадало в орбиту его ясного и резкого блеска, все блекло, вырождалось в уверенность: вот человек, который знает все на свете. За последний год, а для нее это была целая ечность, Розмари обзавелась деньгами, определенной популярностью, знакомствами с очень известными людьми, и эти последние подавали себя как носителей тех же самых, но только неимоверно усиленных качеств, какие были присущи людям, знакомым вдове и дочери военного врача по парижскому пансиону. Розмари была девушкой романтичной, однако в ее карьере ничего такого пока не происходило. У матери имелись свои соображения относительно ее будущего, и она не потерпела бы сомнительных суррогатов любви, которых вокруг было хоть пруд пруди, протяни только руку, – да Розмари и сама была уже выше их, ибо, попав в мир кино, все же не стала его частью. И оттого, увидев по лицу матери, что Дик Дайвер понравился ей, увидев на этом лице выражение, говорившее «то, что нужно», Розмари поняла: ей дано разрешение пойти до конца.
– Я наблюдал за вами, – сказал Дик, и она сразу поняла, что говорит он всерьез. – Вы нравитесь нам все больше и больше.
– А я полюбила вас с первого взгляда, – тихо ответила Розмари.
Он сделал вид, что слова эти оставили его равнодушным – как если б они были сделанным из одной лишь воспитанности комплиментом.
– Новым друзьям, – сказал он, словно желая сообщить нечто важное, – часто бывает легче друг с другом, чем старым.
И, едва успев выслушать эту сентенцию, толком ею не понятую, Розмари оказалась за столом, который выхватывали из густевших сумерек неторопливо разгоравшиеся фонари. Мощный аккорд радости грянул в ее душе, когда она увидела, как Дик усаживает мать по правую руку от себя; Розмари же получила в соседи Луи Кэмпиона и Брейди.
В приливе восторженных чувств она повернулась, намереваясь поделиться ими, к Брейди, однако стоило ей назвать имя Дика, в глазах режиссера обозначилось циничное выражение, и Розмари поняла, что роль заботливого отца ему не по вкусу. В свой черед и она твердо отклонила попытку Брейди накрыть ее ладонь своей, после чего они заговорили об общем их ремесле. Розмари, слушая рассуждения Брейди, не сводила вежливого взора с его лица, однако мысли ее столь откровенно витали далеко от него, что она побаивалась, как бы Эрл не догадался об этом. Время от времени она улавливала несколько его фраз, а ее подсознание добавляло к ним остальные, – так человек замечает иногда звон часов лишь в середине их боя, и в сознании его удерживается всего только ритм первых, не сочтенных им ударов.
VII
В разговоре возникла пауза, Розмари взглянула туда, где между Томми Барбаном и Эйбом Нортом сидела Николь, чьи золотистые волосы словно вскипали и пенились в свете свечей. Прислушавшись, Розмари уловила приглушенные звуки ее грудного голоса и тут же вся обратилась в слух – Николь не часто произносила длинные фразы:
– Бедняга! Но почему вам захотелось распилить его?
– Естественно, чтобы посмотреть, что у гарсона внутри. Разве вам не интересно узнать, что кроется внутри гарсона?
– Старые меню, – издав короткий смешок, предположила Николь, – осколки разбитых фарфоровых чашек, чаевые и огрызки карандашей.
– Совершенно верно, но важно добыть научные доказательства этого. И разумеется, если мы будем добывать их посредством музыкальной пилы, она оградит нас от всяческой пачкотни и убожества.
– Вы намеревались, производя операцию, играть на пиле? – поинтересовался Томми Барбан.
– Нет, так далеко мы не зашли. К тому же он завопил, и это нас напугало. Мы опасались, что он надорвет горло или еще какой-нибудь важный орган.
– Мне это кажется до крайности странным, – сказала Николь. – Музыкант, использующий пилу другого музыканта, чтобы…
За полчаса застолья обстановка ощутимо переменилась: один гость за другим позабывал о чем-то для него важном – о заботах, тревогах, подозрениях, – и теперь они были просто гостями Дайверов, и в каждом проступила лучшая его сторона. Каждому стало казаться, что если он не проявит дружелюбия и заинтересованности, то ранит тем самым хозяев дома, а этого никто не хотел, и Розмари, видевшая старания гостей, любила их всех – за исключением Мак-Киско, который ухитрялся и здесь держаться особняком. Причиной тому была не злая воля, а его решимость укрепить посредством вина веселое настроение, в котором он сюда прибыл. Откинувшись на спинку кресла, соседствовавшего с креслами Эрла Брейди, к которому он обратился с несколькими уничижительными замечаниями насчет кино, и миссис Абрамс, к которой он и обращаться не стал, Мак-Киско взирал на Дика Дайвера, сидевшего наискосок от него по другую сторону стола, с сокрушительной ироничностью, воздействие коей ослабляли, впрочем, предпринимаемые им время от времени попытки втянуть Дика в разговор.