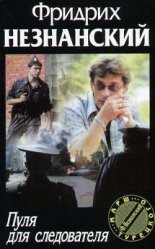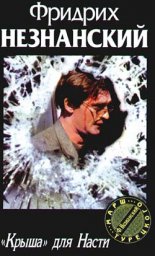Нон-стоп Столяров Андрей

Андрей Столяров
НОН-СТОП
Вот так – мелочь какая-нибудь, ерунда, пустяк, пылинка, незаметная глазу. И все сразу иначе. Выясняется, что сотовый телефон он оставил в машине. Он сначала не верит: охлопывает карманы плаща, пиджака, распахивает портфель, где аккуратно уложены документы, перебирает папки, цветные буклетики, приглашения. Движения у него судорожные. Факт, тем не менее, налицо. Нет сотового телефона. Сунул трубку в держатель на передней панели, да и забыл. В первый раз с ним такое. Запарился, вероятно, ослабла какая-то гайка. Посмотрел, не видя в упор, выбрался из машины, захлопнул дверь. Впрочем, ничего страшного. Через полчаса выходить. Будем надеяться, что за полчаса машину не раскурочат.
Все-таки ему немного не по себе. Он валится в кресло, приткнутое в углу, и тут же, привстав, тянется к стационарному аппарату. Слава богу, не надо бежать вниз за трубкой. Мысли у него сбиваются. Он глубоко, трижды вздыхает, чтобы остановить их мелкую чехарду. Вот, кажется, все. Все, все, все. Можно работать.
Первым делом он дозванивается до Забрудера и, придавая голосу твердость, успокаивает его тем, что скоро приедет. Не беспокойся, Савва, ничего не напутаем. Лично, я обещаю, лично проверю каждый контейнер. Каждую гайку у них обнюхаю. В каждый комплект ткну пальцем. Савва, выбрось из головы!.. Забрудер, тем не менее, высказывает некоторое недовольство. Он полагает, что проявлять легкомыслие сейчас не время. А если Пислян, ну ты его знаешь, опять что-нибудь напортачит? Второй сбой, как в Риге, нам ни к чему. С нами потом никто дела иметь не будет. Доходит до тебя или нет? Пислян – не Пислян, а отразится в итоге на всех.
Бурчит он, наверное, минуты четыре. Тема богатая, имеет давний материал. Забрудер вообще любит так это начальственно побурчать. Дабы потом, если вдруг что-нибудь съедет, можно было сказать: вот, я вас предупреждал. А затем, ощутимо понизив голос, поскольку пребывает, видимо, не один, сообщает, что – тьфу, тьфу, тьфу! только б не сглазить! – у них, судя по всему, образовывается долгосрочный клиент. Проект гуманитарного типа, финансирование из-за рубежа. Ну, понимаешь, что это для нас значит.
Новость и в самом деле хорошая. Долгосрочный клиент, да еще с зарубежным прикрытием – это мечта. А гуманитарный уклон проекта, в свою очередь, предполагает разные муниципальные льготы: по гостиницам, по транспорту, по аренде выставочного павильона. Много чего он предполагает. Например, присутствие на открытии неких административных чинов. Вплоть до председателей комитетов, если получится. А это, в свою очередь, – пресса, радио, телевидение, минута в хронике городских новостей. Вовсе не ерунда. Маржа, чистая прибыль, прыгает сразу на сто-двести процентов.
Такие вещи он уже схватывает. И потому еще раз заверяет Забрудера, что все будет в порядке. Беспокоиться не о чем. Он действительно сейчас поедет туда и лично, своими глазами, убедится во всем. До отправки не отойдет.
– Учти, это связано с Выборгом, – предупреждает Забрудер.
– С Выборгом?
– Да. У них там будет свой представитель. И если ему хоть что-нибудь не понравится… Знаешь, я даже говорить об этом не буду…
Говорить ничего не надо. Все ясно и так. Он звонит Грише Писляну и строгим голосом, не хуже, чем у Забрудера, предупреждает, что через час приедет проконтролировать демонтаж. Как там у вас?
– Да ладно, – жизнерадостно отвечает Гриша Пислян. – Сиди дома, пей чай… Что мы, маленькие? Зачем нам надзор?..
Чувствуется, что Гриша слегка на взводе. Он торопится, захлебываясь, проглатывает слова, жалуется на погоду, из-за которой приходится, черт-те что, натягивать полиэтилен, а заодно в сотый раз пытается рассказать, как там на самом деле получилось с выставкой в Риге. Ведь, если разобраться, их вины нет. Ну – невезуха, технический сбой, который может произойти у каждого. Чего теперь вспоминать?
– Я не вспоминаю, я просто приеду и проконтролирую.
– Как хочешь. Если не жалко времени, – обиженно говорит Пислян.
Энтузиазма в его тоне не слышно.
И наконец он созванивается с Лорхен и деловито извещает ее, что освобождается где-то около десяти. То есть, подъехать к ней сможет лишь в половине одиннадцатого. Извини, раньше – никак. Сама знаешь – последний день. Бегаем как эти… как суслики…
– Ты суслика когда-нибудь видел? – интересуется Лорхен.
– Да ладно тебе…
– Хорошо, буду ждать…
Никаких особых эмоций она не выказывает. И с одной стороны, это неплохо: ни на какие эмоции он сейчас не способен, а с другой стороны, настораживает: Лорхен, видимо, бережет гремучую смесь к моменту встречи. А это значит, что из полутора-двух часов, которые у него имеются, примерно половина уйдет на выяснение отношений.
Бог с ним, там видно будет.
Что заранее переживать?
За это время перед ним дважды неторопливо проходит Марита. Сначала из кухни в комнату, расстегивая жакет, и он, не прекращая разговора с Забрудером, знаками показывает ей, мол, давай-давай, а она тоже знаками отвечает: сейчас-сейчас. А потом – из комнаты в кухню, и там сразу же начинается хозяйственное копошение. Что-то стукает, звякает, шаркает, передвигается. Шумит, вырываясь из крана, вода, хлопает холодильник.
– У меня – полчаса! – кричит он, преодолевая звуковую завесу.
– А у меня – все готово!..
Он соображает, что Ершику, который у них заведует транспортом, можно, видимо, не звонить. И даже лучше ему не звонить, пусть Ершик немного придет в себя. Ершику за последние трое суток досталось. А вот, Митяю, который будет эти контейнеры сопровождать, напротив, следует позвонить немедленно. Потому что если Митяю немедленно не позвонить, то через час выяснится, что Митяй, задрыга, пальцем не пошевелил. Вещи не собраны, документы, кои полагается сверить, в глаза не видел, Лежит пузом вверх на тахте, смотрит по телевизору очередную бодягу. Чего, собственно? Времени еще – вагон…
Митяю надо обязательно врезать.
Вот так это происходит. Он тянется к трубке, чтобы врезать Митяю. В голове у него – сорный гул, оставшийся от рабочего дня. День-то начался в семь утра; когда закончится – неизвестно.
Вот он тянется к трубке, мысленно подбирая для Митяя увесистые слова.
Тянется к трубке.
И в этот момент в квартире отключается свет.
Так это происходит. Свет отключается, и сразу же, будто уйдя под воду, сникает урчание холодильника. Впечатывается в глаза темнота. Он не понимает, откуда такая душная темнота. Не должно быть такой непроницаемой темноты.
– Ай!.. – испуганно вскрикивает Марита.
У нее что-то падает, нервно дребезжит по линолеуму. Что-то металлическое, тяжелое, крутясь, дзинькает о ножку плиты.
– Ай!.. Света нет!..
– Я – иду. Стой на месте, – предупреждает он.
Не выпуская трубки из рук, – не видно, куда ее положить, – он осторожно, трогая пальцами стены, пробирается по коридорчику. Как во сне, надвигается смутный дверной проем, углы кухонного гарнитура, квадрат окна, отмеченный контурами штор по бокам.
Слева – обозначается по дыханию фигура Мариты.
– Осторожно, здесь нож где-то упал, – в свою очередь предупреждает она.
Теперь понятно, почему такая отчаянная темнота. Свет вырубился не только у них – видимо, по всему микрорайону. А может быть, даже и больше. За окном – пространство двора, высверкивающее дождем, тяжесть сырого воздуха, глыбы домов, притиснутые друг к другу. И между ними, в огороженном садике – слабое водяное мерцание листьев.
Все – еле-еле угадывается.
– Что-то не то, по-моему, – сообщает Марита.
Голос у нее встревоженный.
Ему тоже не по себе. Он кладет трубку, которую до сих пор держит в руках, и со второй попытки, не сразу нащупывает щечку приемника. В тесноту кухни врывается энергичная скороговорка: столкнулись на переезде два поезда, упал самолет, в торжественной обстановке открыт новый участок Ушаковской развязки… А теперь – к новостям культуры…
Они напряженно вслушиваются.
…Застрелен директор областного ансамбля… Трагедия произошла… Милиция ведет розыск преступников…
– Вот видишь, – говорит он. – Все в порядке.
Вспоминает, что надо обязательно врезать Митяю. Пытается отыскать трубку, сунутую куда-то секунду назад, и вдруг до него доходит, что если электричества нет, то и квартирный телефон работать не будет.
У него отключена «база».
– Дай-ка мне на минуту твой сотовый.
Марита удивляется:
– А что такое?
– Ну… У меня… Оставил в машине…
Чувствуется движение в темноте. Марита, кажется, поворачивается, наталкивается на дверцу шкафчика, захлопывает ее, отодвигает от края что-то невидимое, а потом виноватым, цыплячьим голосом сообщает, что ее сотовый телефон сдох часа три назад. Вчера забыла подзарядить. Думала, хватит, дотянет до дома, разумеется, не хватило. Как это обычно бывает. Вот, сейчас собиралась этим заняться.
Они немного растеряны. Только что все нормально. И вдруг из привычного мира – в какую-то глухоту, без верха, без низа. В какую-то топь, стискивающую сознание. Ничего уже не понять. Что это там – радио на стене? Или просунулась с той стороны бугристая морда? На столе – ком салфетки? Или вползают из ниоткуда бледные извивы кошмара? Трепетом прикасается неизвестность. И потому когда он преувеличенно бодрым голосом спрашивает Мариту, как у них в доме насчет свечей, та радостно вскрикивает и отвечает, что свечи у них, к счастью, имеются. Такое удивительное совпадение. Она недавно искала по всем отделениям кофемолку – вот, пожалуйста, ты только стой на месте, не шевелись…
Она даже выставляет ладонь, чтобы удержать расстояние, присаживается на корточки, отщелкивает, торопливо подергав, нижнюю дверцу, что-то там, судя по звукам, передвигает, тащит к себе, стукает – раз, другой, тяжело – разгибается, наконец, и с торжеством водружает на середину стола нечто внушительное. А затем чиркает спичкой и приклеивает огонек к ниточке фитиля.
И вот опять, казалось бы, пустяки, сор, чепуха, подумаешь, вытянулся из стеариновой толщины кончик пламени, он еще еле дышит, однако все тут же преображается. Проступают привычные кухонные углы, вспыхивают фарфором чашки, сдвинутые к посудомойке, в дождевой безбрежности за окном повисает колеблющееся отражение.
Мир вновь обретает обыденность.
– Уф-ф-ф… – вздыхает Марита.
И становится ясно, что внушительных размеров предмет, который она с трудом водрузила между тарелками, это подарочная свеча, чудовищно грузная, четырехугольная, высотой, наверное, сантиметров сорок, с выпуклым витиеватым орнаментом, изображающим непонятно что. Кажется, оскаленных львов, поддерживающих корону.
Хотя толком не разобрать.
– Ну вот, – говорит Марита. – А спичек, между прочим, – всего две штуки. Осторожно, пожалуйста, будем сидеть в темноте…
Он, как завороженный, глядит на огонь.
– Откуда это у нас? А… точно!.. Генчик, когда уезжал, на прощание подарил. Сказал: такая свеча – на всю жизнь. Зажжете – вспомните… Надо же, наверное, лет десять прошло…
Узкий язычок еле держится.
– И вовсе не Генчик, – несколько обиженно возражает Марита. – Это ты сам подарил, когда мне предложение сделал. Ты что, забыл? Магазинчик такой, на Детскосельском проспекте? Ну, помнишь, помнишь?.. Еще сказал: дарить надо что-то такое, что останется навсегда. Вот, выбрал свечу. Поклялся, что будем зажигать на каждую годовщину. В самом деле, пару раз зажигали…
Он переводит взгляд на Мариту. Что это с ней? Он твердо помнит: свечу преподнес именно Генчик. Заскочил к ним на Можайскую улицу за день до отъезда и точно также, торжественно водрузил на стол эту стеариновую чувырлу. Тогда же в первый раз и зажгли. И предложение он Марите сделал вовсе не на Детскосельском проспекте, а в переулке, Репинский кажется, куда случайно свернули. Кстати, где этот Детскосельский проспект находится?
– Так ты не помнишь Генчика Порошилова? – спрашивает он. – Ушастый такой, мартышка, всегда с гитарой… Теперь в Канаде живет. Два раза оттуда писал.
Марита тоже переводит взгляд на него.
– Какой Генчик?.. Не знаю… Не было никакого Генчика… Что-то ты, по-моему, заработался… А вот про свечу, между прочим, мы напрасно забыли…
Некоторое время они так и глядят друг на друга. Пламя в зеленоватой луночке чуть подрагивает. В такт ему подрагивают косые тени на стенах.
Глаза у Мариты влажно блестят.
Во всем мире – непроглядная морось.
Нигде ни искры.
А потом Марита кладет на стол спичечный коробок и пожимает плечами.
Действительно, какая-то ерунда. За ужином выясняется, что Генчика она и в самом деле не помнит. Ни на Можайской улице, где они прожили почти восемь лет, ни раньше, на Ветеранов, откуда им еле-еле удалось выбраться.
– Но письма я тебе показывал? От него?..
У Мариты умоляющие глаза.
– Нет… Честное слово… Не видела никаких писем…
И не помнит она, оказывается, Славу Морозова, который на Ветеранов забегал к ним чуть ли не каждый день. Единственный из его приятелей, кто жил поблизости. А ведь ходили вместе в тамошний парк, более похожий на лес, сидели на камнях, у ручья, жгли костры.
– Честное слово, не помню… Разве мы жили на Ветеранов?..
Зато, как выясняется в следующий момент, он не помнит одну из ее тогдашних подруг, которая, по словам Мариты, им здорово помогала. Тоже, оказывается, жила поблизости.
– Неужели забыл? Ну как же?.. Каждые выходные заскакивала хоть на минуточку? То из магазина прихватит продукты какие-нибудь, то посидит с Валей, пока я мотаюсь на свою вечернюю группу. Помнишь, я целый год ездила – два раза в неделю?..
– Из педагогического, говоришь?.. Людмила?..
Нет-нет, ничего такого у него даже не брезжит. Какая еще Людмила. Из какого Педагогического? Гораздо больше его беспокоит, что света по-прежнему не дают. Митяю он ведь так и не позвонил. И если Митяй теперь что-нибудь напортачит, вина будет на нем.
Впрочем, время еще имеется. Пока он ест – фактически, первый раз за весь день. Утром только кофе глотнул – сразу же помчался доделывать экспозицию, а когда с открытием выставки включился конвейер переговоров и встреч, было уже, конечно, ни до чего. Сжевал кусок пиццы, похожий на разбухший картон, запил чаем, пахнущим вываренными опилками. А как иначе? Волка что кормит? Зато стопка визиток, испещренных пометками, приятно оттопыривает карман. Свидетельствует: не зря провел время. Завтра, когда выставочная суматоха закончится, он их рассортирует по категориям, внесет в общий реестр, а затем начнется самое главное. Они запрутся с Забрудером у него в кабинете и, не торопясь, тщательно, взвешивая каждую мелочь, распределят данный реестр по приоритетам. Потом уж Забрудер сам, никому этого не доверяя, начнет связывать перспективные направления. Тут у него – талант. Если есть хоть что-нибудь стоящее, обязательно выловит.
Обо всем этом он рассказывает Марите. А заодно, чтобы снять напряженность, все-таки вызываемую темнотой, вспоминает про уникальный случай, который произошел у них на открытии. Это когда Рукаев, председатель соответствующего комитета, выступая, начал высказываться о том, что теперь мы можем наглядно представить себе имеющийся потенциал. Дескать, вот он – перед глазами. И в это самое время павильон «Ориона» у него за спиной, так это – пронзительно заскрипел и лег на бок. Все там, у них, сразу осыпалось. Представляешь?.. Главное, когда стенка зала открылась, обнаружилось, что на ней процарапано неприличное слово. Ну, не буду тебе говорить какое. Так это – достаточно внятно. Прочесть можно было с любого места. Жаль, что телевидение не явилось. А ведь сколько «Орион» бился, чтобы получить именно этот бокс. Куцаренко Гриша, главный у них, вьюном вился еще месяца за три до открытия. Кажется, по всем нужным кабинетам прошел. И вот результат: кронштейны, внешний крепеж, именно здесь не держат. Оказывается, недавно там протечка была, штукатурка, снаружи не видно, отстала от пола до потолка. В общем, теперь конец «Ориону». Рукаев им не простит…
Марита слушает его с удовольствием. А в ответ рассказывает душераздирающую историю о том, как некая Ленка Ермак, ну ты помнишь, наверное, я вас знакомила, совершая элементарный обмен, при котором, естественно, никаких подвохов не ждешь, неожиданно оказалась включенной в чужую цепочку. Представляешь? Картина какая? Клиенты уже оформлены, готовы переезжать, вдруг оказывается, что квартира занята другими людьми. Как? Откуда? Главное, что прежнюю площадь уже успели продать. Ленка – в истерике. Ей теперь придется выдирать это звено: обрубать концы, заделывать брешь. Своих денег вложить, наверное, тысяч сорок. Вчера весь день ее утешала.
Он немного не понимает сути. И Марита объясняет ему, что включиться в чужую цепочку – значит, фактически, проплатить постороннюю операцию. Цепочки знаешь какие бывают? По семь – по восемь позиций, сходу не отследить. А если еще с «карманами» попадется, вообще – безнадежно. Тут нужен особый нюх – учуять «карман». На этом многие залетают…
– А какое ты имеешь к этому отношение?
– Здра-а-асьте, – отвечает Марита. – А где я, по-твоему, припухаю? Уже два года в этом кручусь. Ты что? Я тебе чуть ли не каждый день рассказываю…
Выясняется, что, действительно, она уже года три, как ушла из своего института, устроилась агентом-риэлтером в «Игилайн». Фирма, конечно, не самая крупная, но и не самая мелкая… Ну?.. Мы это сто раз обсуждали.
Обсуждали? Он что-то такое припоминает. Впрочем, поручиться, конечно, нельзя. Когда усвистываешь из дома в семь, а приплюхиваешь обратно не ранее десяти, уже нет сил что-либо по-настоящему воспринимать. Голос не пробивается сквозь сутолоку дневной работы. Такой комариный писк, который немедленно испаряется. Тем более, если возвращаешься откуда-нибудь из Воронежа, из Красноярска. Четыре часа в самолете – все, ничего больше не соображаешь. В голове – только гул.
Марита, кстати, тоже удивлена. Причем тут Воронеж, причем тут Рига или Красноярск? Не понимаю, не понимаю. Откуда у сотрудника обычного исследовательского института такое количество командировок? Или в этом теперь заключается научный процесс? Ты ж – не звезда эстрады, чтобы ездить с концертами?
Он смотрит на нее в некоторой растерянности. А потом кладет вилку, коей вяло тыкал в салат, и, отделяя каждое слово, внушительно объясняет, что уже три года как перешел из своего института в фирму, занимающуюся организацией выставок. Современное научное оборудование, все такое. Возим достижения медицинской техники по городам и весям. Иногда выступаем как дилеры. Иногда просто сводим партнеров и получаем с контракта соответствующие проценты.
– Ты мне ничего подобного не говорил…
Глаза у Мариты – круглые. Он начинает злиться и повышает голос больше, чем требуется. У него проскакивает раздражение. Что с ней сегодня? Не помнит элементарных вещей.
– Ну, в самом деле… Я тебе чуть ли не каждый вечер об этом рассказываю…
Теперь они оба взирают друг на друга с недоумением. В квартире – необыкновенная тишина. Точно все провалилось в потусторонний мир. Пламя свечи потрескивает, и тени, продлевающие предметы, дергаются, как живые.
Продолжается это секунды две-три.
И потом Марита вдруг всплескивает руками и начинает смеяться. И смеется она так естественно, так легко, так откидывается к стене и судорожно машет ладонями, так пытается что-то выговорить и не может, что он тоже начинает хохотать, как безумный. Ведь действительно – ужасно смешно. Живут бок о бок, трутся, ничего друг о друге не знают. Смешно от того, что глупо. Глупо от того, что смешно.
– Так ты… риэлтер… оказывается?..
– А ты… значит… ты… выставки организовываешь?..
Марита уже совсем расползлась. Она смахивает с глаз слезы и в изнеможении, точно ослепшая, трясет пальцами. Отворачивается к окну и, видимо, чтоб успокоиться, несколько раз сильно, закидывая лицо, вздыхает.
Смех ее теперь похож на икоту. Впрочем, и смеха особого нет, скорее – подергивание, конвульсии, странные всхлипы, придавленные ладонью. С ней вообще что-то не то. Она тычет пальцем в стекло, указывая наружу – смотри, смотри…
Он, приподнимаясь, перегибается через стол.
Снаружи – тусклая темнота. Небо затянуто грузной дождевой дрянью. Не горит ни один фонарь. В доме напротив – желтые, помаргивающие размывы свечей. А через двор, огибая кустарник, отмеченный по краям мокрой листвой, неторопливо, словно совершая обход, бредет, переваливаясь, некий удивительный человек. Деталей во мраке не разобрать, но почему-то кажется, что голова у него большая, точно котел, плащ на спине топорщится, вздутый горбом, а руки, высовывающиеся из одежды, достают чуть ли не до земли.
Вот он останавливается напротив парадной, поднимает голову, вглядываясь, вероятно, в верхние этажи, и так – застывает, будто не чувствуя капель, падающих на лицо.
Все – в странном безмолвии.
Не слышно даже дождя.
– Что это?… – сдавленным, приглушенным шепотом спрашивает Марита.
Жизнь, между тем, продолжается. Продолжается, катится дальше, какие бы заторы ни возникали. Никуда от нее не деться – шуршит на паучьих лапках. Он это чувствует по дрожанию в сердце. Свет – не свет, выключили – не выключили, а ехать ему все равно надо. Если уж обещал Забрудеру присмотреть за отправкой, значит следует присмотреть. И если есть хоть малейший риск, что Митяй подведет, значит нельзя выпускать Митяя из поля зрения. В крайнем случае, самому съездить за ним, взять за шиворот, привести. Тогда еще можно быть в чем-то уверенным.
В таком духе он и высказывается.
– А как же я? – растерянно спрашивает Марита. – Мне тут оставаться одной – знаешь, тоже не очень…
От окна она уже отвернулась. Теперь стоит у стола, сжав кулачки, притиснув их к горлу. Чувствуется, что внутри у нее – колкий озноб.
– Подожди… Подожди…
Он объясняет, что, к сожалению, ехать придется. Специфика его нынешних дел такова: ни на мгновение оторваться нельзя. Если что-нибудь грохнется, потом будет не разгрести. А что касается «оставаться одной», то, честное слово, бояться нечего. Просто не отзывайся, запрись. Ну, какая-нибудь ерунда, сбой, кабель где-нибудь закоротило. Со всего района сейчас, наверное, звонят в аварийную. Покоя им не дадут. Вот увидишь, минут через тридцать уже наладят.
Уверенности в его голосе, впрочем, нет. Слова выпархивают и тут же, лишаясь сил, распадаются. Такая страна: может произойти все что угодно. И сутки будешь без электричества мучаться, и двое суток, и трое, и неделю, и месяц. Никого это не интересует.
И еще меньше уверенности остается, когда он распахивает дверь на лестницу. Он как-то не ожидал, что обнаружится там такой плотный мрак. Ничего, ни единого проблеска света. Не видно даже ступенек, идущих вниз. Шагнуть туда – все равно что нырнуть в сонную жуть. А ведь спускаться ему целых пять этажей. Это как? Оступишься – полетишь кувырком. И кроме того – пугающая глухота. Будто он действительно провалился в потусторонний мир. Никто не дышит. Никто ниоткуда не поднимается. И если постучать в любую из соседних квартир, никто не откроет.
А на площадке первого этажа, где темнота, вероятно, еще ужаснее, принюхиваясь, поворачивая сырое лицо, бесшумно топчется тот, кто брел через двор.
Как его миновать?
– Нет-нет-нет… Нет-нет… – пятясь назад, в квартиру, шепчет Марита.
Некоторое время они обсуждают, что делать дальше? Нельзя ли, например, спуститься вниз со свечой, а потом Марита, когда его доведет, поднимется с ней обратно?
Марита, правда, категорически не согласна. Она одна не пойдет. Нет-нет, ни за что! И потом, чем поможет свеча? Крохотный огонек, тонущий в стеарине, выглядит совершенно беспомощным. Что он против окружающей тьмы?
А как у нас с огнем вообще?
– Всего две спички, – напоминает Марита.
И добавляет, что коробок она все равно не отдаст. Не дай бог, свеча погаснет. Как ей тогда?
– Даже не думай, – заявляет она.
Он, впрочем, и сам не жаждет ступить в загробную темноту. Неизвестно, что там его ждет. Положение складывается безвыходное. Значит, ни добраться до места работы, ни даже позвонить и справиться, что там у них, он не сможет. А как же Митяй, которому все до лампочки? А как же Гриша Пислян, пылающий чрезмерным энтузиазмом? И как же, наконец, Лорхен, которая с половины одиннадцатого будет его ждать? Скольких людей он подведет! А с другой стороны, может быть, и бог с ними? Стыдно признаться, но в эти минуты он испытывает даже некоторое облегчение. Не надо никуда бежать, никуда торопиться, не надо договариваться ни о чем, ничего контролировать. Не надо никому улыбаться, пожимать рук, обмениваться визитками. Не надо, давать обещания, которые, разумеется, никогда выполнены не будут. В конце концов, у него форс-мажорные обстоятельства. А если так уж необходимо, чтоб кто-нибудь проследил за отправкой, пусть сдернут Забрудера. Хватит ему надувать щеки. Пусть снимет пиджак и займется делом. Порастрясет свои килограммы. В общем, ничего страшного, как-нибудь обойдется.
Марита тоже на глазах веселеет.
– Конечно, обойдется, – говорит она, запирая входную дверь на оба замка. – Поедешь завтра. Что они, не справятся без тебя? А мы, давай, хотя бы один вечер проведем вместе…
И вот, что ему в ней всегда нравилось. Света, конечно, нет, желтоватые, будто из воска, отблески проскальзывают по стенам. Казалось бы тоже – форс-мажорные обстоятельства. Однако для Мариты это значения не имеет. Грязные тарелки со стола тут же отправляются в мойку, возникают салфеточки, блюдца, узкие, точно игрушечные, мельхиоровые чайные ложечки, образуется симпатичные тортик, обсыпанный шоколадом, даже полбутылки вина, оставшегося с прошлого месяца. Ты же сегодня за руль больше не сядешь? И – два бокала, растягивающие по стеклу ниточки отражений. Вот что приятно. Приятно, что из ничего и сразу же – все.
Разговоры у них – под стать обстановке. Сначала Марита рассказывает ему о своей новой работе. Относительно новой, конечно, поскольку занимается ей уже больше двух лет. Странно сначала было: она – вдруг агент по продаже и обмену квартир. Лет пять назад ничего такого в голову бы не пришло. А что делать? Ты же знаешь, сколько сейчас платят за лекции. И кстати, опыт преподавания ей неожиданно пригодился: умеет внятно и коротко изложить клиенту суть сделки. Объяснить ему, чего же он хочет в действительности. Это ведь главная трудность: сами не знают, чего хотят. Бьешься с ним, бьешься, показываешь седьмой вариант, десятый, двенадцатый, круглые сутки бегаешь – язык на плечо. Все что-то не то. Физиономия – будто уксусом накачали… Потом он так же рассказывает о своей работе. Действительно, если б клиенты, знали, чего хотят. Втолковываешь ему, втолковываешь, дураку, язык до половины сотрешь, вроде бы втолковал, вдруг – нет, оказывается, надо иначе. Главное, на чужом месте – как? Сегодня я – в Выборге, завтра – в Риге, послезавтра вообще, хрен знает где – в Томске, Новосибирске, Владивостоке. Из самолета вываливаешься – башка вот такая. Не помнишь, куда и зачем, собственно, прилетел. Ничего, кроме гостиниц, не замечаешь. Гостиница – выставочный павильон, выставочный павильон – гостиница. Ну, еще – конференц-залы для прессы. Зато и деньги, конечно, не те что у ассистента кафедры…
Далее они ругают коммунальные службы. Ничего там со времени советской власти не изменилось. Никакие реформы не помогают. Как раньше брали плату неизвестно за что, так и теперь знают одно: каждый год поднимать тарифы. Вот мы уже больше часа без света, целый микрорайон. И что? Кого это волнует? Аварийщики, скорее всего, даже не выехали…
Впрочем, это не только у нас. Он вспоминает, что два или три года назад аналогичная ситуация возникла в Стокгольме. Закоротило кабель в туннеле: весь центральный район остался без электричества. Отключились обычные телефоны, сотовые, перестал работать водопровод. Естественно, никаких компьютеров. Больше суток шведские трудящиеся провели в первобытных условиях. Хуже всего, что хоть полиция и выслала на улицы усиленные наряды, а все равно – тут же начались грабежи. Вообще, считается, что мегаполис типа Петербурга или Стокгольма может продержаться без электричества не более десяти дней. После этого портятся на базах продукты, и это финал. К тому же, представляешь, без лифта на двадцатый – тридцатый этаж. А воду туда таскать? А дрова, если осень или зима? И где в мегаполисе взять дрова?..
– Ты меня не пугай, – говорит Марита.
Голос у нее вроде веселый, но под пленочкой беззаботности чувствуется нервозность.
Как будто проскакивают внутри слабые искры.
Он спешит сбавить тон:
– У нас всего пятый этаж. Конечно – легче…
А затем происходит следующее. Он объясняет Марите, что здесь, к счастью, все-таки не Стокгольм. Это там, если пробило кабель, то для починки требуется сложное оборудование, материалы. Специалисты нужны. Потому и возятся – сутки. Что ты хочешь, шведы – дикий народ. А у нас приедет бригада в ватниках, раскопают, закоротят горелое место вот таким проводом, замотают его как следует, законопатят – все, еще лет десять будет работать. И успокоив подобным образом не столько ее, сколько себя, добавляет, что в некотором смысле им повезло: Вали нет дома. Представляешь, какая бы началась суматоха? И, кстати, почему нет? Времени – уже девять часов…
Вот когда это происходит. Марита отвечает ему, что сегодня – четверг. А по четвергам – ты, вероятно, забыл – Валя после уроков ходит в музыкальную школу. Занятия там как раз до девяти вечера. Забирает ее Нина Петровна, отводит к себе, утром – в школу. Так удобней для всех.
В первую минуту он недоумевает. Почему «ее»? И почему в какую-то музыкальную школу? Он твердо помнит, что Валентин – кстати, точно, по четвергам – ходит в секцию информатики. Детский вычислительный центр «Галилей». Между прочим, сам в прошлом году и отвел.
У Мариты глаза – в половину лица.
– Какой Валентин!?. Ты что, не помнишь, сын у тебя или дочь!?.
Уже не искорки – температура горения. Пленочка распадается, выскакивает наружу темный огонь.
Голос у Мариты взлетает до потолка.
– Так ты действительно все забыл?..
А он как раз ничего не забыл. Как можно забыть то, что въелось до конца жизни? Стриженая мальчишеская голова, воздушный змей, кувыркающийся под облаками? Сосны в Старице, где четыре года снимали дачу, отправление электрички с Витебского вокзала? Приемник, который вместе разбирали на части, неуклюжий велосипед, поход через лес, на край света, к озерам…
Но ведь и Марита тоже ничего не забыла. Как можно забыть то, что навечно отпечаталось в памяти? Бабочка синего банта, покачивающаяся на макушке, карандашики, стирательные резиночки, аккуратно уложенные в пенал? Поход в театр, где вдруг вспыхивает на сцене сказочный мир? Первые неуклюжие звуки, извлекаемые из клавиш? И не в Старице дача у них была, а в Смоленке, и не с Витебского вокзала ездили, а с Балтийского… Да, да, да…
Она всплескивает ладонями.
– Ты что, в самом деле?.. Давай я паспорт тебе покажу… Свидетельство о рождении… Давай по документам проверим!..
Ее заметно трясет. Она снова стискивает кулачки и пристукивает ими по скатерти. Он не хочет никаких документов. А вдруг в разных паспортах окажутся разные записи?
Что тогда делать?
Тоже выставляет ладони:
– Не надо… Не надо… Пожалуйста, успокойся… Потом… Потом…
Мариту, однако, уже не остановить. Она вскакивает и опрометью бросается в комнату. Падает задетый бокал – катится по столу, прочерчивая на нем винную расплывчатую дорожку.
Он не успевает его подхватить.
Стекло ударяется о стекло и глухо звякает.
Вот как это все выглядит. Серая морось дождя, простершаяся из конца в конец мира, тесноты кухни, едва проступающие из мрака, тихо реющая над свечой бесплотная долька пламени. Непонятно, с чем это соотнести? Что случилось, откуда возникла эта картина? Будто и в самом деле оказываешься в другой вселенной. Или, может быть, не в другой, как раз – в подлинной, в настоящей? Просто раньше не было времени вглядываться. И когда вглядываться? Жизнь – тащит вперед, захлестывает быстрыми волнами. Только поворачивайся, только успевай подгребать. Некогда оглядываться по сторонам. Сейчас у него получается, предположим, штуки полторы в месяц. Пустяки, девочки в приличных конторах и то имеют побольше. Однако вполне реально в следующем году выйти на две – две с половиной, а через пару лет, если не хлопать ушами, на три или на четыре. Давно пора сменить «жигули» на что-нибудь соответствующее. Совсем другой прейскурант, если подъезжаешь к клиенту, скажем, на новеньком «форд-скорпио». И нужна собственная машина Марите. Что она, как мокрая мышь, бегает по всему городу? И обязательно – квартиру, квартиру! В конце концов, должен у него быть свой кабинет? Вот он пришел, весь серый, стертый, изжеванный, в башке – войлок, тело – как будто набито тряпками, еще нужно сделать уйму работы, а Марита, тоже изжеванная, сидит, уставилась в телевизор.
Где время, чтоб оглянуться. Из Петербурга – в Таллинн, из Таллинна – в Новосибирск. Быстрая, точно на киноленте, промотка кадров. Жизнь в этом смысле неумолима. Кто не успел – тот пропал.
Он это хорошо понимает. И ему вовсе не хочется, чтобы Марита демонстрировала сейчас свой паспорт. Зачем? Чтобы доказать правоту? А кому, если честно, эта правота требуется? Не надо никакой правоты. Правота только усугубит. Пусть все идет, как идет, как складывается, как сцепляется тысячами случайностей. Жизнь сама все наладит, все утрясет.
Это он тоже хорошо понимает. А потому решительно поднимается и направляется в комнату.
Хватит переживаний.
Пора навести порядок.
Впрочем, решительность его улетучивается почти мгновенно. В комнате так темно, что ни о каких громких речах и помыслить нельзя. Все речи, все уговоры, все отрезвляющие слова тут же безнадежно утонут.
Он в растерянности замирает.
Невозможно ничего разобрать.
Прежде всего – где Марита?
Кажется – вот.
Уткнула лицо в ладони.
– Не подходи ко мне!..
Голос у нее незнакомый.
Он никогда не слышал такого голоса.
Будто обрела речь сама темнота.
– Не подходи!.. Не прикасайся!.. Не трогай меня!..
Пораженный ее неприязнью, он делает шаг назад и тут же стукается обо что-то, чего раньше не было.
Болезненный удар в бок.
Он тоже готов закричать.
– Не прикасайся!.. Не подходи!..
Звучит лишь отчаяние.
Крик душной тьмы.
И в эту секунду в квартире зажигается свет.
Ведь, в сущности, ничего особенного не случилось. Так – завихрение, легкая турбулентность в потоке событий. Жизнь на мгновение оборачивается какой-то иной своей стороной, пронзает испугом и тут же возвращается в прежнее состояние.
В общем, ничего не меняется.
Зажигается свет.
Мир возникает в обыденных своих очертаниях.
Вот шкаф, о ребро которого он ударился, вот пухлый диван, вот столик с клавиатурой и монитором. А дальше, за перекрестьями рам, в провале двора – подсвеченная фонарями пятнистая лиственная мокрота.
Все – видено тысячу раз.
И тут же, торопясь вернуться в режим, включается холодильник. А вслед за ним, словно наконец прорвав немоту, взрывается телефон.
– Ну где ты там? – требовательно спрашивает Забрудер. И, не дослушав ответа, в строгой интонации извещает, что ждут только его. Если он в течение тридцати минут не появится, если немедленно, без отговорок, не предстанет пред ними как факт, то документы по спецификации груза оформит Гриша Пислян. Усвоил? В последний раз говорю! А это значит, что в Выборг отправится тоже он. На кого документы, тот и развертывает экспозицию.
– Уже выезжаю. Не брызгай на меня кипятком…
Марита в этот момент как раз выходит из ванной. Они сталкиваются в коридорчике, где он пытается одновременно и натянуть плащ, и подхватить «дипломат». Лицо у нее свежепромытое: розовеют скулы, кончик нежного носа, выпуклости на подбородке. Она замирает и смотрит на него недоверчиво, как на чужого. Вдруг – приникает и крепко-крепко, порывисто охватывает за плечи.
Вроде бы даже всхлипывает.
Он тоже растерян.
Ему мешает портфель.
Куда бы его поставить?
– Ну, ладно, ладно… Ну, перестань… Уже – все… – неразборчиво говорит он.