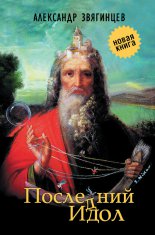Государственная недостаточность. Сборник интервью Поляков Юрий
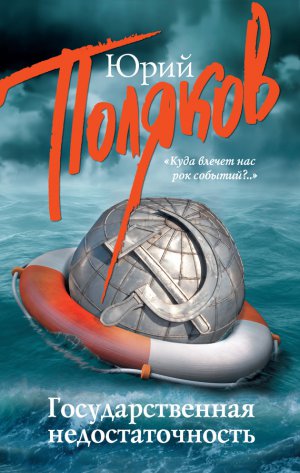
Как я был информационным поводом
В моем архиве хранятся газеты и журналы с сотнями интервью, которые я давал разным изданиям в течение без малого тридцати лет. Журналисты взялись за меня, едва я дал им веский информационный повод, опубликовав в журнале «Юность» повести «ЧП районного масштаба» и «Сто дней до приказа», прежде запрещенные цензурой. С тех пор люди с диктофонами навещают меня чаще, нежели друзья с бутылками хорошего вина или лучшей водки. В интервью и беседах речь идет о моих писательских, театральных, киношных, семейно-бытовых делах, но неизбежно разговор ширится, касаясь состояния отечественной культуры, бед нашего общества и даже поведения властей предержащих. Писатель в России традиционно вовлечен в политику, и если заявляет, будто она его не интересует, это примерно то же, как если бы он признался, что его не волнует половая жизнь человечества. Ну и что хорошего? Лично я книги такого писателя читать не стану. Политика – это зримые нам, пигмеям, трепеты и колебания Левиафана Истории. Как можно этим не интересоваться?
В начале 2004 года, готовясь к 50-летию, я собрал в книгу несколько десятков интервью, показавшихся мне наиболее внятными, острыми и концептуальными, а также минимально дублирующими друг друга. Впрочем, повторы в интервью неизбежны и порой весьма содержательны. Во-первых, новая мысль появляется в твоей голове, конечно, чаще, чем новая женщина в твоей жизни, но не настолько регулярно, чтобы насытить каждое интервью россыпью оригинальных идей. Во-вторых, если читать внимательно, можно заметить, как то или иное утверждение, повторяясь, меняется, обретает иные оттенки, смыслы, а потом вдруг вообще может превратиться в свою противоположность. Особенно опасно, по моим наблюдениям, постоянно возвращаться к вымышленным эпизодам своей творческой биографии (литераторы любят пофантазировать!). На втором-третьем повторе читатель уже догадывается: а писатель-то соврамши! Нехорошо…
Когда я выстроил интервью в хронологическом порядке, то понял: получился своего рода невольный дневник, искренний, местами изощренно откровенный, местами простодушно лукавый, наполненный множеством подробностей и деталей, через которые и можно понять Промысл, а также внутреннюю эволюцию автора, которая выражается не только в словах, но и в том, какие издания публиковали твои рассуждения. А поскольку два идейных стана российской журналистики относятся друг к другу со свирепостью разведенных супругов, обреченных жить в кошмаре коммунального соседства, можно сделать очень любопытные и далеко идущие выводы об извивах писательской судьбы!
Книга под названием «Апофегей российского масштаба. Интервью 1986–2004 гг.» была опубликована летом 2004 года, мгновенно разошлась и стала с тех пор библиографической редкостью. На встречах читатели нередко спрашивали: «Когда выйдет сборник новых интервью? Да и прежний переиздать не мешало бы…» Я, конечно, обещал, но, когда пишешь роман в полторы тысячи страниц, переключиться на составление какого-то компендиума былых дум то же самое, как оторваться от созидания новой космогонии для прибивания к стене семейно необходимой полочки. Но вот «Гипсовый трубач», к удивлению читателей, закончен, не за горами мое 60-летие, которое надвигается с той веселой неизбежностью, с которой когда-то приближались летние каникулы. И я решил выполнить давнее обещание – подготовить к печати мои интервью за минувшие десять лет, учтя при этом ошибки предыдущего издания.
Интервью, как я уже дал понять, – коварный жанр. Даже самый осторожный и уклончивый говорун в беседе с умным журналистом невольно пробалтывается и выдает то, что старательно прячет в своем творчестве или публичной деятельности. Иллюзия сиюминутности и необязательности заставляет человека в интервью быть гораздо искреннее, нежели он обычно себе позволяет. Кстати, именно поэтому редкий политик или труженик культуры отваживается, собрав свои газетно-журнальные откровения в книжку, выставить их на суд современников. Для иных общественных деятелей, особенно либерального клана, это равносильно политическому самоубийству, ибо гибкость, доведенная до беспозвоночности, мало у кого вызывает уважение. Да и мастерам искусств, припадавшим на протяжении жизни к грудям совершенно разных идейно-эстетических кормилиц, это опасно. Подобный невольный дневник может повредить репутации, лелеемой нынешними литераторами не хуже кредитной истории.
Но я не боюсь предстать перед читателем в развитии. Мои ошибки, заблуждения, метания, обольщения, разочарования (а их в собранных интервью достаточно) происходят не от желания приспособиться, прильнуть, встроиться, а от стремления разобраться в том, «куда влечет нас рок событий?». В сущности, тот путь, который за минувшие тридцать лет проделал молодой «прогрессивный» прозаик, пытавшийся лечить советскую власть с помощью агрессивной правды, прошла и вся думающая часть нашего общества. Мы поняли: если на наручниках выгравировано слово «свобода», они от этого не перестают быть наручниками. Мы все изменились. Правда, одни это сделали, ища истину, другие, выискивая выгоду. С годами у меня, кстати, сложилось мнение, что иногда заблуждения самый короткий путь к истине.
Готовя интервью к печати, я позволил себе лишь исправить ошибки и опечатки, сократить явные повторы, а также отредактировать очевидное мое косноязычие. Как писал В. Ходасевич: «Бог знает, что еще бормочешь, ища очки или часы…» К сожалению, должен отметить: материалы последних лет потребовали большей редактуры, нежели те, что вошли в «Апофегей российского масштаба». Увы, новое поколение журналистов считает, что интервью – это всего лишь расшифрованная, снятая с магнитофона речь – не более. Неверно! Устная речь, если только человек не говорит заготовками и трюизмами, а мыслит вслух, – всегда рыхлая, путаная, синтаксически неряшливая – и тащить всю эту вербальную нескладуху в печатный орган недопустимо. Но тащат! Современный молодой журналист – эпикуреец, он лучше сбегает на лишний пресс-коктейль, нежели посидит, упорядочивая и оттачивая записанный разговор. Впрочем, иногда журналист не виноват. Сам, будучи главным редактором, знаю, как начальство умеет гаркнуть: «В номер! И никаких «но»!»
Тут не могу не вспомнить одну историю, приключившуюся со мной в 70-е годы, когда я работал корреспондентом писательской многотиражки «Московский литератор». Мне поручили взять интервью у тогдашнего председателя столичного объединения поэтов Владимира Цыбина – человека могучего и сурового, перед которым наш главный редактор лебезил, как проштрафившийся автолюбитель перед гаишником. Мы побеседовали, а когда я вернулся домой и включил диктофон, выяснилось, что механизм «зажевал» ленту и от всего двухчасового интервью остались слова: «Современная поэзия это…» Ледяная молния ужаса перед неотвратимостью наказания пронзила мой организм. Оставался единственный выход – вспомнить все, что Цыбин говорил мне под запись. Память моя, тогда еще свежая, как простыня в хорошем отеле, не подвела. Я восстановил нашу беседу и, трепеща сердцем, понес на визу. Он, хмурясь, долго читал, несколько раз доставал авторучку, чтобы поправить текст, но, поколебавшись, снова убирал в боковой карман. Закончив и расписавшись на страничках, Владимир Дмитриевич внимательно посмотрел на меня и спросил: «Где вы так хорошо научились брать интервью? Обычно все тонет в ненужных мелочах и оговорках, одна путаница выходит, а вы взяли только самое главное! Молодец!» Я не стал объяснять, что, как говорится, не было бы счастья – несчастье помогло. Просто ненужное, мелкое, неяркое я забыл, а главное запомнил…
В идеале интервью должно быть именно таким. И мое редакторское вмешательство при подготовке этой книги как раз и свелось к ликвидации моей же словесной невнятицы, механически перенесенной журналистами на газетную полосу. Обычно я это делаю перед тем, как завизировать текст, но многие интервью у меня брали в командировках на бегу, даже на лету – и они выходили в свет без моего пригляда. Пришлось поменять, сознаюсь, иные названия, ведь когда в пятый раз натыкаешься на заголовок типа «Как слово наше отзовется…», рука невольно тянется туда, где военным положено носить табельное оружие. Остальное: противоречивые оценки, менявшиеся симпатии, политические обольщения, неудачные прогнозы, грандиозные творческие замыслы, оказавшиеся пшиком, – все это сохранено в неприкосновенности. Кроме того, после колебаний я решил включить в книгу небольшой раздел «Кое-что о непорядочной журналистике». Увы, бывает и такая, если корреспондент идет к тебе не только с диктофоном, но и с глумливым предубеждением. На этот счет у меня имеется печальный опыт, и я решил им поделиться. Уверен, выпускники журфаков, получая диплом, обязаны давать клятву «Не искази!». Впрочем, врачи дают клятву Гиппократа. И что?
И последнее. Всякая беседа – плод совместного творчества интервьюируемого и корреспондента. Вместе со мной в создании этой книги принимали участие десятки столичных и губернских журналистов, знаменитых и не очень, здравствующих и, к сожалению, уже покойных, к тому же работавших в разных редакциях. Одни издания продолжают выходить в свет, а другие давно закрылись, не выдержав рыночной изнанки свободы слова. Учитывая все эти организационно-правовые сложности, будет, наверное, правильно и справедливо, если весь наш общий гонорар за сборник поступит в Фонд помощи семьям погибших журналистов.
Юрий ПоляковПеределкино, июль 2014 г.
Интервью 1986-1991
Портфеленосцы комсомолу не нужны
–Тема нашей беседы подсказана вашей повестью. Читательские конференции, полемика в печати, острые письма – пишут «все возрасты» – все это говорит об одном: вам удалось нащупать болевые точки в жизни комсомола. Многих повесть задела за живое – и руководящих работников, и рядовых комсомольцев. Сразу условимся: не станем затрагивать саму повесть, поговорим о проблемах, обозначенных в «ЧП». Но прежде всего вопрос: откуда у вас знание специфики комсомольской работы?
– Как у тысяч ребят, моя юность, молодость и мой сегодняшний день связаны с комсомолом. Был секретарем комсомольской организации в школе, членом комитета – в институте, работал инструктором одного из столичных райкомов комсомола, шесть лет подряд меня избирали секретарем комсомольской организации Московского отделения Союза писателей. Пять лет входил в состав бюро райкома. Видно, тяга к общественной работе – от семьи: мать многие годы была секретарем небольшой заводской парторганизации, отец – коммунист со стажем. Отсюда, наверное, и знание.
–И заостренность, полемичность ваших суждений вполне понятна, Юрий. Ведь это разговор о личном, пережитом, наболевшем.
– Как это ни вызывающе звучит в тридцать лет, но ведь полжизни отдано комсомолу, комсомольской работе, а с годами видишь: что-то из комсомола ушло или уходит. Не говорю об экономике: заслуги многомиллионного комсомола здесь велики, очевидны, общепризнанны. Средний возраст городов, где создаются гиганты современной индустрии, – комсомольский. Сейчас – о другом. О стиле, формах работы.
–Но может быть, речь идет в вашей повести о «плохом», нетипичном райкоме?
– Пригласили меня недавно выступить на семинаре секретарей райкомов и горкомов – около трехсот человек собралось. Сижу и ловлю на себе осуждающие взгляды. И выступают некоторые довольно агрессивно: мол, сгустил краски, не все так плохо… Приводят примеры «хороших» райкомов, «хороших» секретарей, заворгов, инструкторов. Да кто спорить станет? Есть у нас настоящие комсомольские лидеры, прекрасные комсомольские работники – их немало… Но вот начинают говорить те же ребята о своих бедах, и получается, что как будто об одном райкоме идет речь – «плохом». Беды-то общие.
Сидишь на комсомольском собрании и слышишь: «Мы должны изучать интересы молодежи». От кого слышишь? От своих же райкомовцев. Взобравшись на трибуну, звонкими, хорошо поставленными голосами они «призывают», «мобилизовывают», «активизируют». Но, спрашивается, сами-то кто они?! Не молодежь разве?! Уж эти собрания!
Будто заасфальтированное поле – ни одного живого росточка. Выступления заранее обговорены, согласованы, отрепетированы. Восторженные рапорты, парадные слеты, бесчисленные постановления, пышные резолюции. Работа?! Подчас имитация таковой. Райкомовцы из простых хороших парней превратились в меру расторопных, в меру невозмутимых и осторожных чиновников. Я побывал на десятках читательских встреч, меня приглашали в самые разные молодежные аудитории, начиная с моего «родного» дэза и кончая редакцией газеты «Правда». И всюду, как я понял, в каждой комсомольской организации, велика она или мала, есть «хронически улыбающаяся секретарша», от которой никогда ничего толком не добьешься. Процветает своя Шнуркова – есть у меня такая «обреченная на формализм» героиня неопределенно-комсомольского возраста. Не придуман, не сочинен заворг Чесноков – работящий, энергичный, напористый парень, немного – для равновесия – изображающий из себя разгильдяя. Да, он справится, не подведет, не сорвет работу, ему дорого дело. Но не потому, что это дело, которому он служит, а потому, что это дело, которое служит ему. Такой Чесноков был в нашем райкоме. Удобно, судя по всему, чувствует он себя во многих комсомольских организациях.
–С момента публикации «ЧП» прошло почти два года. За это время было принято Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи». Состоялся XXVII съезд партии – его идеи, дух больших перемен проникли в массы молодежи. Не «устарели» ли на этом фоне проблемы, поднятые в повести?
– Безусловно, что-то начинает меняться. Постепенно складывается качественно новая обстановка в молодежной среде. Но сила инерции – увы! – велика. Никак не можем отказаться от надежды изобрести некую универсальную форму работы «посовременнее», позаковыристее. Захожу на днях в один райком и слышу, как третий секретарь спрашивает на ходу руководителя комсомольской организации НИИ: «Ты план мероприятий по перестройке составил? Другие уже подали!»
А вы говорите – устарело «ЧП районного масштаба»!
–Парадокс, в общем-то. В чем упрекают обычно молодых? В излишней самостоятельности суждений, независимости поведения, максимализме… И вдруг – бумажная суета, бумаготворчество.
– Об этом, собственно, моя повесть. Ведь что такое райком? Как бы застава между «первичками» и горкомом. Но непосредственно граничит застава с «первичками», а это – заводской комсомол, вузы, школы, ПТУ, их дела, учеба, работа, отдых, их проблемы, трудности. В общем, вся жизнь. Но только застава «наоборот», призванная не разделять, но сплачивать, связывать. И кто чем живет, кто чем дышит – райкомовцы должны знать. А они, райкомовцы, культивируют этакую респектабельность, не оправданную вовсе ни молодежным своим статусом, ни личной значимостью, – райком, где я работал, был в этом смысле, можно сказать, «образцовым». И вот уже инструктор – не молодежный вожак, а представитель. Вышестоящей организации представитель. Он рекомендует, координирует, согласовывает, «прорабатывает» вопрос. Его порой не оторвешь от телефонной трубки, а в заводском комитете комсомола, в рабочем или студенческом общежитии «вожака» не видят от мероприятия до мероприятия… И секретарь райкома, надежно отгороженный от рядовых комсомольцев полированной дверью рабочего кабинета, трибуной, стеклами персональной машины. Все работают, все кружатся в вихре неотложных дел. Самого дела нет. И уже не понимаешь: кто для кого существует – райком для молодежи или молодежь для райкома?
–Застава, если воспользоваться вашим сравнением, что-то вроде бюрократического заслона.
– По стилю, методам иной райком уже не райком, а, по крайней мере, ведомство. А слова-то какие появились в комсомольском лексиконе: «аппарат», «аппаратчик». И это не просто слова – по аппаратным качествам оценивают полезность, ценность комсомольского работника. Конечно, аппарат и должен работать как хорошо отлаженный механизм. Но не сам по себе. Кажется порой, отключи райком от «первичек», он будет так же функционировать: докладывать, рапортовать, получать грамоты, вымпелы, получать поощрения и взыскания.
–А каким работником были вы сами, если откровенно?
– Когда работал в райкоме? Типичным аппаратчиком! Не лучше и не хуже других. Тот же двухтумбовый письменный стол, те же бумаги, та же телефонная трубочка, прижатая плечом к уху. Текучка, заседательская суета, улыбчивый оптимизм и сдержанная торопливость. И, не вытравленная временем, стоит перед глазами картина: входит в кабинет четырнадцатилетний мальчишка – аккуратненький, наглаженный, – его сегодня должны в комсомол принимать. В комсомол! Всю жизнь должен он вспоминать этот день. А ты ему обкатанные, затертые слова говоришь. Одному, другому, третьему. И вопросы задаешь похожие. А они ведь все разные, эти мальчишки и девчонки, и почувствовать это ты должен. Но куда там при наших темпах: ведь цифра приема в комсомол – лицо любого райкома. Должен многих комсомольцев знать в лицо. А они – меня. Но если и прихожу в организацию – как «ревизор». Зарываюсь в протоколы, будто только в них ответ, как организация работает.
–«Люди, завернутые в резолюции, как в пухлые одеяла, мирно, спокойно почивают и думают, что они руководят организацией…» Согласитесь, будто сегодня сказаны эти слова Александром Косаревым. А ведь не сегодня – перед войной, когда генерального секретаря ЦК ВЛКСМ командировали в комсомольскую организацию «Трехгорки» для оживления работы.
– Да, пресловутая «аппаратная активность» – болезнь застарелая. Но лечиться от нее можно и нужно. Лечиться – делом! Пусть оно будет совсем небольшое. Как то, что из моей райкомовской практики. Отвоевали мы под крышей Центрального Дома учителя комнатушку. Стали собираться: молодые учителя, поэты, музыканты, художники, рабочие. Слушали музыку, читали стихи, разговаривали об искусстве. Люди стали друг другу необходимы, интересны, что-то зажглось внутри нас самих. Как знать, может быть, такой вот неформальный и вовсе «немасштабный» клуб способен оставить в душе больший след, чем претендующие на «всеохватность» акции, походы, смотры?
–В наших же силах, в конце концов, выбраться из-под «пухлого одеяла».
– Так-то оно так. Но вот приходит к тебе секретарь школьной «первички»: хотели на заработанные деньги купить палатки, спортивную форму, рюкзаки – не смогли, просят помочь. А как помочь ребятам, если, согласно новой инструкции о привлеченных средствах, сплошные «нельзя», «не разрешается», «запрещается». Вот залежалые на торговых базах мячи, застоявшиеся спортивные «козлы», какой-нибудь кубок с изображением аквалангиста – можно, берите. Через неделю-другую позвони тому же секретарю: давай, мол, готовь рапорт о спортивных достижениях. Знаете, что можно услышать? И про себя лично, и про весь райком комсомола…
–Если бы сейчас снова – в райком… С чего бы вы, Юра, начали?
– Не с чего – с кого, точнее сказать. С себя! Я не правомочен, да и не смог бы, дать далеко идущие рецепты и рекомендации, реально сознавая скромное место личного опыта в монолите опыта коллективного, но порассуждать можно.
Все силы приложил бы, чтобы бумаги, вернее, бумаг меньше было – на столах, в ящиках, в самом стиле работы, в душе, наконец. Бумаг уже стало заметно меньше. А вот работать с ними стал бы иначе. Не все направлял бы на места, не все ставил на контроль, часть официальных бумаг использовал бы в порядке информации. Попробовал бы выступать без «бумажки», глядя людям прямо в глаза. А то, если все время заглядывать в шпаргалку, да еще не всегда самим написанную, вовсе разучишься мыслить, рассказывать, разговаривать, уж не говорю – спорить. Поменьше бы сидел за «многоуважаемым» столом. Больше с людьми, не с телефонной трубкой дело имел. Какой у нас сейчас основной элемент комсомольского мероприятия? Доклад, содоклад, выступление. На собрании комсомолец – слушатель, на лекции – слушатель, и так все время: слушатель, слушатель. Когда же мы его, рядового комсомольца, слушать будем? В некоторых городах работают вечерние райкомы комсомола – почаще бы там бывал, чтоб услышать тех, кто годами только нам внимает. Организовывал бы время от времени часы, дни открытого письма. Короче, устроил бы в райкоме хороший «сквозняк», чтобы канцелярский дух выветрился изо всех кабинетов. Каждому мальчишке, каждой девчонке постарался бы сказать какие-то особенные слова, когда стал бы вручать им комсомольские билеты. Может быть, даже одеваться стал по-другому – почему непременно строгий костюм, галстук, тоже строгий? Не посольство все-таки, где обстановка требует протокольной сдержанности.
И если бы вы меня сейчас спросили, в чем лично я вижу для себя суть перестройки, повторил бы, наверное, сказанное и добавил: почаще представлять себя рядовым комсомольцем.
Беседовала Инна ДУЧИЦКАЯ«Собеседник», декабрь 1986 г.
Командировок в чужие судьбы не бывает
–Юрий Михайлович, ваша повесть «Сто дней до приказа» вызвала противоречивые мнения. Вы, конечно, знакомы с ними. Ваше отношение к этим суждениям? Какие выводы для себя, для своего творчества вы сделали из них?
– Прошло более полугода со времени публикации повести на страницах журнала «Юность», с которым меня связывает давнее и плодотворное сотрудничество. Но я бы не сказал, что страсти вокруг повести улеглись. Идут письма, в различных изданиях появляются статьи и дискуссионные материалы. Приведу лишь несколько названий, которые говорят о широком диапазоне мнений и оценок: «Лишь полуправда», «С правдой не в ладах», «Повесть учит правде», «О наболевшем», «Через замочную скважину?» и так далее.
Прослеживается такая закономерность: «гражданские» издания, как правило, поддерживают повесть, военные издания, скажем мягко, относятся к ней сложно. То же самое с письмами. Почта «Юности» говорит о том, что большинство читателей разделяют позицию автора и журнала – отрицательных писем буквально единицы. А вот если судить по письмам, опубликованным на страницах военных изданий, то можно прийти к выводу, что читатели этих изданий моей повестью резко недовольны.
В чем тут дело? Я много размышлял об этом, тем более что подобное случается со мной не в первый раз. Нечто похожее происходило в 1985 году вокруг моей повести «ЧП районного масштаба», посвященной тому «аппаратному недугу», которым болен наш комсомол. Тогда на меня обрушились комсомольские издания, и прежде всего «Комсомольская правда». Такая интересная деталь: даже сейчас, когда на «Ленфильме» экранизируется «ЧП районного масштаба», комсомольские функционеры города на Неве мешают этому делу. Они защищают честь мундира. Думаю, в известной степени позиция военных изданий по отношению к моей повести обусловлена теми же причинами.
–Хотелось бы узнать, не остыла ли ваша привязанность к военной теме? Чем она вас привлекает? Какие из новых ваших произведений читатель сможет увидеть в ближайшее время и в отдаленной перспективе?
– В своей литературной работе я часто обращался к военно-патриотической теме. В 1980 году за цикл стихотворений «Непережитое» я получил премию имени Маяковского. Это были стихи о Великой Отечественной войне, точнее, не о войне, а о том, как мое поколение, рожденное в 50-х годах, воспринимает эту войну. Циклы стихов об армейской службе вошли во все мои четыре поэтических сборника. В 1983 году была издана моя книжка «Между двумя морями» – о жизни и творчестве поэта-фронтовика Георгия Суворова, погибшего в 1944 году. Прежде чем написать ее, поездил по местам, связанным с жизнью поэта, встречался с его однополчанами, рылся в архивах. В результате обнаружил немало произведений Суворова, неизвестных или забытых. Раскопал даже полный текст его знаменитого стихотворения, которое заканчивается общеизвестными строчками: «Свой добрый век мы прожили как люди – и для людей».
Но при этом я никогда не считал себя литератором, пишущим только на военно-патриотическую тему. Вообще, на мой взгляд, в стремлении выделить для себя какую-то узкую тему есть известный журнализм в подходе к жизненным явлениям. Если автор пишет исключительно об армии, это свидетельствует, по-моему, не только о его преданности одной теме, но и об известной однобокости. А как говорил Козьма Прутков, «односторонний человек подобен флюсу. Полнота и того и другого односторонняя». Скажу больше: человек, всю жизнь пишущий об одном и том же (не обязательно про армию), рискует оказаться в плену собственных же идейно-художественных трафаретов. А читатель этого не прощает. Думаю, здесь кроется одна из причин, почему сегодняшние воины мало читают армейскую литературу.
Мои «Сто дней до приказа», наверное, потому и вызвали интерес, что написаны не по законам «воениздатовской» литературы. На армию, как на всякое социальное явление, можно взглянуть с разных точек зрения. И ничего тут плохого нет, ибо ничто так не вредит духовной культуре нации, как насаждаемое единодушие. Моя точка зрения – одна из многих. Возможны и другие, как, к примеру, в книгах С. Рядченко, Н. Черкашина, Б. Шереметьева.
В ближайшее время армейской темой заниматься не буду. Дело не в том, что убоялся критиков и недоброжелателей. Повесть «Сто дней до приказа» отразила мое знание армии на уровне небольшого личного опыта. Для маленького публицистически заостренного произведения этого, пожалуй, хватит. Но для широкого художественного исследования современной армейской жизни этого недостаточно. Я, между прочим, никогда и не претендовал на создание какого-то фундаментального, всеохватывающего произведения об армии.
Считаю, что каждый писатель по-настоящему пишет только о судьбе своего поколения, остальное – более или менее удачные модели. Моим ровесникам сейчас по 30–35. Армия для них важная, но в основном минувшая часть жизни. Мои же сверстники, пошедшие по военной стезе, сейчас уже майоры, а то и подполковники. Но их профессиональной жизни я не знаю, не знаю изнутри, а командировок в чужие судьбы не бывает. Писатель изучает жизнь, только пропуская ее через себя.
–В марте этого года в телепрограмме «Взгляд» вы говорили об Афганистане как «пронзительной теме нашей литературы начала 90-х годов». Что вы хотели этим сказать? Каков, на ваш взгляд – взгляд секретаря правления Союза писателей РСФСР, качественный уровень нынешней литературы о наших воинах, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, в целом произведений на современную армейскую тему?
– Я не только говорил, но и писал о том, что одной из самых пронзительных тем советской литературы ближайших годов будет афганская тема. Причем подлинные произведения напишут непосредственные участники событий: рядовые и командиры. Уверен – среди них есть люди с литературным талантом. Они станут писателями, и тогда мы узнаем художественную правду о той войне.
Я предвижу серьезные трудности, которые выпадут на долю этих авторов. И не потому, что кто-то специально будет стараться «прикрыть» их правду (хотя будут и такие), а потому, что художественно одаренный человек видит и выражает мир острее. А эта обостренность представляется кое-кому преувеличением, искажением и даже прямой клеветой на действительность. Ведь подчас именно такой была первая реакция на многие произведения о Великой Отечественной войне, которые ныне стали нашей классикой.
–Как известно, у художественной литературы много самых различных функций. Что бы вы могли сказать о роли и месте литературы в военно-патриотическом воспитании советской молодежи? Хотелось бы также услышать ваше мнение вообще о проблемах военно-патриотического воспитания.
– О том, что литература обладает огромным воспитательным воздействием, – спорить не приходится. Естественно, велик ее потенциал и в военно-патриотическом воспитании. Но, на мой взгляд, есть тут одна закавыка. У нынешнего воина представления о мире, в котором мы живем, о нашем обществе, о «заграничных» обществах гораздо сложнее и неоднозначнее, нежели, скажем, у его ровесника два-три десятилетия назад. Только белой и черной краской нынешний мир не изобразишь. А военно-художественная литература по старинке продолжает часто пользоваться этими двумя красками и еще несколькими оттенками.
Хочу подчеркнуть и другое. Важную роль в военно-патриотическом воспитании призвана сыграть наглядная агитация. Но она, по-моему, весьма слабо справляется с этой задачей. Если не сказать больше. Недавно пришлось мне побывать на боевом корабле. Вижу плакат. На нем изображен американский солдат, в окровавленных руках – автомат. И подпись: «Он стреляет в тебя, в твою мать, в твою невесту…» А тем временем проходила встреча на высшем уровне. Я спросил у моряков, как они относятся к этому плакату. Те в ответ лишь засмеялись…
Вот так, еще не начавшись, заканчивается военно-патриотическое воспитание. Потому что не учитываются морально-психологические особенности того поколения, которое служит сейчас в армии. Ведь не придет же в голову нынешнему командиру поднимать в атаку учебное подразделение словами: «Вперед, за Сталина!» А пользоваться символикой, средствами выразительности того времени – приходит в голову, еще как приходит!
Нужны новые подходы. Искать их заставит само время. Буду рад, если наблюдения непрофессионала в чем-то помогут профессиональным воспитателям советских воинов.
Вопросы задавал подполковник А. РУЧКИН«Агитатор» (Армии и флота), № 12,1988 г.
Что мы увидим из президиума
Имя писателя Юрия Полякова в последние годы приобрело широкую известность. Одну за другой его остросоциальные повести «ЧП районного масштаба», «Работа над ошибками», «Сто дней до приказа» опубликовал журнал «Юность». Путь этих произведений в печать не был легким, да и встречались они неоднозначно – каждая повесть послужила причиной бурных дискуссий. Первыми ополчились на молодого писателя комсомольские работники, занимавшие ответственные посты. Повесть «ЧП районного масштаба» была принята ими буквально в штыки. И все же – примета времени – Юрию Полякову за это произведение была присуждена премия Ленинского комсомола.
До сих пор не умолкают отголоски споров и о повести «Сто дней до приказа», рассказывающей о сегодняшних буднях Советской армии. Но ее путь к читателю куда тернистей, чем у прежних повестей. Об этом и о многом другом – наша сегодняшняя беседа с Юрием Поляковым.
– «Сто дней…» была написана раньше двух других моих повестей. Еще в 1982 году я предлагал ее в одиннадцать толстых журналов. Отовсюду получил прекрасные отзывы, но отовсюду – отказы в публикации. Всемогущее Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота было против повести, и ни один журнал не взял на себя в то время смелость ее напечатать. В следующем году начальную главу опубликовала газета «Московский комсомолец», но анонсом этот случай считать нельзя. Правда, впоследствии у меня с «Московским комсомольцем» и с его редактором Павлом Гусевым, который, кстати, консультировал меня при работе над повестью «ЧП районного масштаба», сложились дружеские отношения. Все мои повести «Московский комсомолец» так или иначе анонсировал – публикацией одной из глав. Так было и в позапрошлом ходу с повестью «Сто дней до приказа». Была напечатана глава, где рассказывалось о драке в казарме, и сообщено читателям, что повесть готовится к выходу в журнале «Юность». Еще до этого у «МК» и «Юности» сложился своеобразный тандем. Газета давала как бы затравку, а журнал вступал уже в серьезную борьбу за повесть. «Сто дней…» шли особенно трудно.
–Но все-таки эта повесть увидела свет. Будь у нас индекс популярности произведений, стоять бы «Ста дням…» в самом верху списка. И наверное, именно ее острейшая социальная направленность вызвала столько споров и нападок на автора, ведь впервые был так глубоко «копнут» этот зловещий пласт – дедовщина в армии…
– Интересно, что ребята, отслужившие в армии, строевые командиры мою позицию поддержали, а вот штабисты… Штабисты попытались устроить мне настоящую обструкцию. Сначала взялись утверждать, что все это клевета на армию, что дедовщина имеет место лишь в отдельных нездоровых подразделениях. Когда же широкая дискуссия доказала, что дедовщина существует повсеместно, с той лишь разницей, что в различных ротах она имеет либо острые, либо сглаженные формы, противники повести изменили тактику. Стали раздаваться утверждения, что повесть слаба в художественном плане.
–Литературы о современной армии предостаточно. Все было вроде гладко, появлялись типы солдат – нерадивых или службистов. Только вот животрепещущих проблем, которые нашли бы сразу такой социальный отклик, эти произведения не затрагивали…
– Об армии, как, впрочем, о школе и комсомоле, написано, пожалуй, больше, чем о чем-либо другом. Так что я не брался специально за острые, «скандальные» темы, как кое-кто посчитал. За самые обычные темы, даже заезженные… Но тут все дело в мировосприятии. Да, литературы об армии много, но ведь это все офицерская литература, написана и пишется она бывшими и нынешними офицерами, потому и взгляд на солдат – как на безликую массу.