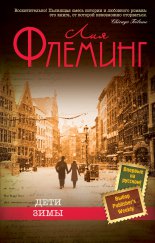Чем пахнет жизнь Клодель Филипп
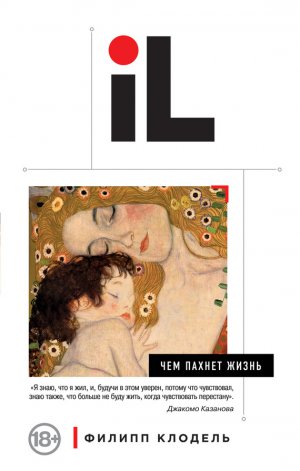
Philippe Claudel
Parfums
Copyright © Editions Stock, 2012.
© Хотинская Н., перевод на русский язык, 2014
© Издание на русском языке, оформление, ООО «Издательство «Эксмо», 2014
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес, 2014
Акация
Acacia
Климатическая несуразность: я знаю – есть деревья, покрытые снегом в начале июня. Этот снег густой и в то же время невесомый – пушистые грозди, которых вечерний ветерок касается так же легко, как гладят живот возлюбленной. Я качу на велосипеде по разбитой дороге, идущей под уклон за кладбищем Домбаля, города, где я родился, города, где я вырос, города, где я живу и сейчас, к заброшенному стадиону Соммервилле, где мы привыкли играть. Догонялки, вышибалы, полицейские и воры. Друзья ждут: Нош, Вагетты, Эрик Шошнаки, Дени Поль, Жан-Марк Сезари, Франсис Дель Фабро, Дидье Симонен, Дидье Фо, Жан-Мари Арну, Маленький Жан, Марк Жоне. Высокие акации застят светлое небо, смыкаясь в резной свод. Листья в форме античных монет. Шипы терновых венцов – для кого они? Я кручу педали, зажмурившись, откинув голову назад, упиваюсь запахом лепестков и искрящейся радостью, которую вновь приносит с собой каждая весна. Дни скоро станут длинными-длинными, как наша жизнь. Мы будем ждать вечера под вечно новое пение птиц и концерты лягушек. И, с изумлением уловив последнюю прохладу земли, освежимся ею. И туманы уйдут в чужие края, далеко-далеко, чтобы вернуться лишь в октябре. Небо расцветится розовыми закатами, окаймленными оранжевым и бледно-голубым, как на картинах Клода Желле, больше известного как Лоррен, – он родился в нескольких лье отсюда тремя веками раньше. Цветы акации пахнут медом и первоцветом, в них гудят пчелы, упившиеся и пошатывающиеся в теплом воздухе, точно крошечные мохнатые сатиры. А мы, маленькие представители людского племени, ищем на нижних ветвях тяжелые грозди бледно-кремового цвета. Мы срываем их, невзирая на царапины на пальцах и запястьях, и выступающие капельки крови – знаки нашего мужества. Укутав юных покойниц в салфетку, я качу домой, крутя педали что есть сил. Проезжаю мимо уснувших боен, где бычьи туши висят на крюках в холодильных камерах, размышляя о своей недолгой судьбе. Мама замесила тесто. Мы погружаем в него грозди, тяжелеющие в светлой лаве. Теперь – поскорей опустить их в кипящее масло, чтобы глубинный аромат не умер, но остался пленником под корочкой. Тонкой. Золотистой. Ночь за окном распахнула свой глаз цвета берлинской лазури. Кот у плиты наблюдает за нами, думая о чем-то своем. Уже поздно. Еще рано. Глаза блестят, губы жжет, а мне все равно – я кусаю хрустящую гроздь, полную цветов, улыбок и ветра. Я пробую вкус весны.
Чеснок
Ail
Сначала нож надрезает зубчик. Нож, чье лезвие отточено так остро, что похоже на очень тонкий серпик луны. Этот самый нож моя бабушка – которую все зовут Блошкой, несмотря на высокий рост, – ничуть не стесняясь, одним точным движением всаживает в горло кроликам, выпуская кровь, и я никогда не отвожу глаз, предпочитая это откровенное убийство лицемерной палке, которой у иных принято забивать животных. Мой отец тоже так делает. Я не пропускаю ни одной «казни». Особенно мне нравится момент, когда, сделав небольшие надрезы вокруг лапок, он разом, как носок, выворачивает шкурку, отделяя ее от тельца цвета слоновой кости с синевой. Из чеснока, чей очищенный зубчик похож на клык хищника, орудие убийства вырезает крошечные кубики, перламутрово-белые и чуть жирноватые на вид, которые не успевают распространить свои ароматы, потому что бабушка быстро-быстро ссыпает их в черную помятую сковороду на уже шкворчащий бифштекс. Взрыв. Дым, как в кузнице. Щиплет глаза. Кухня маленького дома номер 18 по улице Шан-Флери тонет в белых клубах. Я глотаю слюнки. Пахнет чесноком, горящим маслом, мясом, чьи кровь и соки, соединяясь с растопленным жиром, превращаются в восхитительную подливу. Я жду, в животе сосет. Я за столом. В руках вилка и нож. Белая полотняная салфетка повязана вокруг шеи. Еще не достаю ногами до пола. Мальчик-с-Пальчик, а сейчас стану сказочным Людоедом. У меня вся жизнь впереди. Бабушка выгоняет чад в окошко, выходящее на двор, и шлепает на мою клееную фаянсовую тарелку – я люблю ее растрескавшуюся глазурь и картинку, сцену охоты, – жареный бифштекс, который мы только утром купили в мясной лавке Пти-Мера на улице Карно. Кубики чеснока скукожились. Одни стали рыжими, другие коричневатыми, третьи – цвета карамели, а некоторые, удивительное дело, сохранили свою жасминовую белизну. По горячему золотистому мясу растекается их неосязаемое чудо. Творение свое бабушка завершает, мелко нарезая черными портновскими ножницами немного петрушки, которая сыплется на мясо, придавая ему аромат живой травы; потом смотрит на меня с улыбкой. «А ты не ешь?» – спрашиваю я. «Смотрю на тебя – и сама сыта», – отвечает она. Она умрет, когда мне исполнится восемь лет.
Самогон
Alambic
Что за домишко в Мабюзе – доски едва обтесаны, плохо пригнаны, местами почернели, словно их за долгие годы вылизал медленный огонь. Он стоит на выступе над Саноном, близ моста Пьера Эскюраса, каким-то чудом держась на высоком обрыве над самым течением. Внизу – зимняя вода, скудная, серая и мутная, длинные водоросли колышутся грязной шевелюрой, а неподалеку порт Большого канала, где стоят бок о бок баржи, точно большие рыбы, разбухшие от известняка и угля. В январе месяце домишко пробуждается от сна. Слышен скрип, непонятные шорохи, присвист пара и дыма, стук капель и бульканье, иногда – кашель или пение, свист сквозь зубы, а подчас и ругательства. Мы, ребятня, ошиваемся вокруг, раздувая ноздри и разевая рты, вдыхаем все, что сочится из этих стен, переполняя грудь, и даже не замечаем холода, от которого немеют пальцы и краснеют щеки. Невидимый перегонный куб и его хозяин, тоже невидимый, притягивают нас, мотыльков, кружащих у сорокаградусного солнца. Да, там, окутанное непостижимой для нас тайной, оно самое – солнце, в изгибах лабиринта раскаленной меди превращается в спирт. Солнце плодов, золотых и лиловых, мирабели, груш, слив и терна, собранных несколько месяцев назад у древесных корней, – они были такими спелыми, что попадали от своей сахарной тяжести и полопались под напором теплой мякоти, а потом их смешали в бочках, где они вовсе даже не сгнили, а слились друг с другом, перебродив в густое пенное сусло. В домишке над рекой разыгрывается последний акт. Плоть становится чистым спиртом. Аппарат разливает жидкость в бутылки и фляги, принесенные нашими отцами, но делится и с ангелами тем, что великодушно выпускает кривобокий домишко. Наверно, на небе хмелеют от этих паров, но здесь, на земле, мы – уже не ангелы, еще не демоны, – превращаемся, благодаря им, в шальных фавнов, выписываем зигзаги на велосипедах, смеясь просто так, счастливые, хмельные от этого сорокаградусного бриза, хмельные от жизни.
Возлюбленные
Amoureuses
Так чем же пахнут наши возлюбленные крошки[2], когда наши губы впервые встречаются с их губами и потом решительно не знают, что делать дальше? Мне 12 лет. Девочки на меня не смотрят, а мальчики смеются над моей худобой. Мое ветреное сердечко чуть не выскакивает из груди, когда мимо проходит черненькая Натали или беленькая Валери. Я пишу стихи и украдкой сую листки им в руки, с утра, в восемь часов, приходя в коллеж имени Жюльенны Фаренк. Клеопатра, Елена Троянская, Афина, Афродита, Диана, Нефертити: я умещаю в своих виршах всю программу по истории и мифологии. Еще я беззастенчиво граблю авторов из учебника французского: «Валери, под мостом Воров тихо течет Санон и уносит нашу любовь» или «Завтра с рассветом я в школу бегу, Натали, знаю, ты меня ждешь, быть вдали от тебя не могу»[3]. Но Натали вовсе меня не ждет. Чтобы выразить всю мою страсть, я придумал для Валери глагол «преобожать» – этакая превосходная степень от «обожать»: «Валери, я тебя преобожаю!» В ответ я получаю лишь пожатия плечами да брезгливые гримаски. Мои стихи кончают свой век скомканными в сточных канавах. Их бросают туда на моих глазах. Собаки и кошки их орошают. Стоять на стреме – только на это я и гожусь, мое дело – предупредить Франсуа, целующего Натали, или Дени, делающего то же самое с Валери, чтобы приближающийся взрослый не застукал их в узких переулках, что соединяют улицы Жюля Ферри и Жанны д’Арк. Я, покладистый маленький рогоносец, оберегаю покой романов, которые с моими возлюбленными крутят другие. Потом я спрашиваю их, чем пахнут эти поцелуи, каковы они на вкус, скопированные с тех, что можно видеть каждое воскресенье на экране кинотеатра «Георг», – а эти киношные поцелуи, столь же пылкие, сколь и застывшие, вполне могли бы сойти за рекламу клея «Момент». Это называют «взасос». Я не знаю, что это значит, но мне почему-то представляются войлочные тапочки, которые я ношу дома. Они старенькие, клетчатые и плохо пахнут. Познаю я, что это такое, через несколько месяцев: это будет не с Натали и не с Валери, а с Кристиной Френци. С толстушкой Френци. День рождения у Вагеттов. Мы едим торт. Запиваем газировкой «Sic», апельсиновой и лимонной, психоделических цветов. Кто-то ставит музыку, медленный эстрадный мотивчик, такой же сладенький, как наши напитки. Все топчутся, как могут. Многие девочки в шортах. Сидеть остались только мы двое, она и я. Она придвигается ко мне, берет за руку. Я не смею отказаться, и вот мы уже в обнимку. Мои руки коротковаты, чтобы обхватить ее всю. Мне немного стыдно. Что подумают Натали и Валери, которые обнимаются с моими друзьями, так близко, так далеко? Я закрыл глаза. И опять она сама приближает свое лицо к моему, ищет мои губы, находит их, целует. Шелковистые волосы пахнут тем же шампунем «Dop», что и мои, но и чем-то еще – растительным, сладким, засахаренным, это запах лакомства, кондитерской, запах травы, лугов, я не могу подобрать ему название, – но, не в силах оторваться, счастливо вдыхаю его в ямке ее шеи, на губах, и целую, целую эти губы, я уже и сам этого хочу. Забыта Натали, забыта Валери. Так им и надо. А когда после танца толстушка Френци делает то же, что все остальные девочки с мальчиками – усаживается мне на колени, и боль пронзает мои голые ляжки, придавливая редкие мускулы к костям, я не произношу ни слова. Стискиваю зубы. Вдыхаю запах ее затылка, щек, губ. Мы снова целуемся, и после этих поцелуев с зеленым душком засахаренного дягиля – наконец-то я понял, чем они пахнут – я еще много лет буду открывать стеклянную банку с цукатами, которые мама хранит на нижней полке кухонного шкафчика и украшает ими кексы и ром-бабы. Запускать в банку пальцы, брать засахаренные стебельки, сладкие и липкие, подносить их к носу и, зажмурившись, есть, сидя на холодном линолеуме; и вспоминать толстушку Френци, ее поцелуи, – но еще и Мишель Мерсье, чьи умеренно эротические похождения показывают по телевизору каждое лето, – и напевать медово-сладенький мотив, который свел нас: «Мы пойдем, куда ты захочешь, когда ты захочешь, и мы будем любить друг друга, даже если не станет любви». Будь благословен Джо Дассен – ведь он помог мне куда больше, чем Аполлинер и Гюго, вместе взятые.
Лосьон после бритья
Aprs-rasage
Я смотрю на отца снизу вверх, высоко задрав голову. Мы в подвале нашего дома, в ванной комнате. Перед ним, над раковиной, висит на стене туалетный шкафчик с тремя зеркальными дверцами. Поворачивая их, можно видеть вместо одного лица три, а иногда – и еще больше. Электрическая бритва скользит по коже, которую отец натягивает пальцами, разглаживая. Он проводит несколько раз по одному и тому же месту – и вот оно, наконец, совсем гладкое, в красных прожилках. Лицо молодеет под моим неотрывным взглядом. Уходит ночная щетина, белая или серая, пепел, которым присыпали его во сне, чтобы состарить и отнять у меня. Музыка бритвы – псалом. Молитва, состоящая всего из двух-трех нот на низкой частоте, монотонная песнь муэдзина. В ванной комнате всегда сыро. Пахнет остывшим хаммамом. Раздевалкой в бассейне. Окна нет. Чтобы проветрить, надо устроить сквозняк, открыв две двери – прачечной и летней кухни. Отец выдергивает вилку бритвы из розетки, сматывает шнур, убирает ее в туалетный шкафчик, на левую полку, и берет широкий и плоский флакон с зеленой водой. Mennen, для нас, мужчин. Мне-то еще далеко до мужчины. Он встряхивает флакон над левой ладонью, и жидкость щедро брызжет прямо в руку. Как в рекламе. Он быстро-быстро похлопывает мокрой ладонью по щекам, подбородку, шее, раз, другой, третий. И нас вдруг захватывают дерзкие запахи ментола и цитруса, особенную резкость им придает спирт, витающий в воздухе и пощипывающий ноздри. Но это развеивается быстро. Остается лишь душок, что-то от мелиссы, и лимона, и садовой мяты, которую я люблю иногда пожевать, так пахнет ее изумрудный лист и светлый отвар, и еще желтая цедра, и, кажется, перец. Мой отец, который зовет меня то Нономом, то Жюло, наклоняется ко мне. Подставляет горящие щеки, и я их целую. Ритуал. Они стали странно мягкими, нежными, ничего мужского. О чудо бритья и зеленой воды – из взрослого человека мой отец снова стал младенцем.
Вечеринка
Boum
Пусть ясный день за окнами выбелил фасады, а нам нужна ночь. Искусственная. Созданная своими руками из подручных средств. Мы молоды, лет по 16, не больше, и уже себя хороним. В подвалах. В заколоченных сараях. В затянутых брезентом гаражах. Мы ищем темных местечек, мертвых углов, диванов, продавленных уже до того, что их подлокотники служат нам ширмами. Спрятаться от всех. Спрятаться от себя самих, от своей боязни приблизиться к девушке, ощутить ее рядом, впритык, попытаться нащупать рукой ее бедро, груди, найти ее губы, но чтобы она не увидела этот пламенеющий прыщик на нашей щеке, на левой. Лучше вообще ничего не видеть. И не давать ничего видеть. Лучше и ничего не слышать, пусть наши «люблю» глохнут под децибелами, будь то MC5, «Рамоунз», Патти Смит, «Телефон», «Траст», «Клэш» или «Секс Пистолс». Потом всегда можно прикинуться, что мы вовсе их не шептали. Слепые. Глухие. Немые, или почти что. А в животе – клыки, терзающие нутро: осмелюсь – не осмелюсь, и даже первое спиртное не может их утихомирить. А потом – танцевать, пустить свое тело вразнос, в ритме ли, нет ли, танцевать до упаду, чтобы не лопнуть от всей этой энергии, которая в нас бродит, которая в нас бьется, чтобы изойти потом, и влагой, и драйвом в полутемной комнате, где уже нечем дышать и так хорошо задыхаться, ощущая всем телом этот жар, кислый, животный, отроческий, от футболок и рубашек, липнущих к коже, вязнущих в дыму сигарет… И чувствовать, как шибает дрожжами и хмелем, молодыми телами, духами девочек, накрашенных под Нину Хаген, Кейт Буш или Лене Лович, дезодорантами мальчиков, а порой и врывающимися нотками отработанного масла, бензина, смазки, уайт-спирита из гаража. Долгие часы напролет, в ожидании неизвестно чего, в эти жискаровские годы – чопорные, голые и пустые – на краю огромной бездны под названием «жизнь», в которую нас тянет: так бы и бросились живыми бомбочками, ничего о ней не зная, бешеные, разнузданные, мало чем заморачивающиеся, насквозь пропитанные мечтами и любовью, исторгающие из себя выпитое пиво и взрослый мир. А потом, позже, когда возвращаешься, шатаясь, с разбухшей от музыки и спиртного головой, с красными глазами, все это вновь настигает тебя – в липкой рубашке, которую снимаешь дома, грязный, пьяный, прокуренный, нацеловавшийся, еле живой, еще влажный…
Как наши губы и наши сердца.
Туман
Brouillard
Спящие лошади всегда кажутся мне большими трупами. Лежат на боку, ноги вытянуты, как будто ждут телегу живодера, которая отвезет их ко рву, где разделывают туши. Туман, сожрав их наполовину, превратил простых домашних коняг в фантастические существа. Я миную Сен-Никола-де-Пор, чья высокая колокольня разрывает дымку, цепляя своим белым камнем лучи неприветливого солнца. Мне вспоминаются рейтары Тридцатилетней войны, висельники Жака Калло, люди и животные, съеденные волками в долгие зиы, прекрасный роман Раймонда Шваба «Манжатт», который порекомендовал мне Ролан Клеман, – в годы моей учебы он, поэт и букинист, держал со своей супругой магазин «Вокруг света» в Нанси, на улице Мишотт. Так вот, лошади и туман, вдоль дороги, что ведет меня в Розьер-о-Салин. Тихонько кручу педали. Времени остается все меньше, а я не спешу. Туман – точно крышка чугунной кастрюльки: он держит в себе, под собой запахи земли, застигнутой врасплох юной осенью, травы, прихваченной утренними заморозками, животных, которые еще в полях, пустых лугов и мокрого асфальта. Большой флакон без стенок, непрерывный распылитель. Я втягиваю дух лошадиной шерсти, мощного дыхания, умиротворенного сном, их боков, попахивающих навозом, за которыми видны открытые глаза. И мне вспоминаются другие лошади: они тоже выходят из тумана странной романтической грезой. Арденнские, першеронские, булонские, на шкурах блестят капельки воды. Запряженные парами, они тянут бечевой низкие баржи. Я маленький. Их дыхание вырывается клубами, и я, проходя мимо, чувствую, какое мощное тепло исходит от напряженных, дымящихся мускулов и влажной шерсти тягловых животных. Я люблю туман, ибо через него всегда могу войти в потаенную глубину себя. Я иду под открытым небом, на лоне природы, от которой вижу лишь краешки, да и по ним уже прошлась, стирая, невидимая резинка – и мир становится простой проекцией души, проникновенной и чуть холодноватой гипотезой. Я один. До самого нутра – один, я замыкаюсь в этой мысли, как улитка в своей раковине. Есть в тумане, в его непроницаемой пелене, там и сям по необъяснимой логике просвеченной клочьями белизны, чуть мерцающей, словно лампочки горят где-то далеко – предощущение конца света, но безобидного, без роковых последствий и боли. Возгоняя «холодным способом» затаенные запахи, туман взламывает привычный пейзаж, и мы видим и обоняем его иначе. Вот, скажем, улица Элен, что берет начало почти напротив моего дома: в обычные дни – узенький проулок в два ряда шахтерских хибар, голый, мертвый, нежилые домики с заколоченными оконцами и запущенными садиками, короткий сток, сбегающий под уклон к ограде Казино и его музыкальному киоску… а в тумане он обретает фламандскую тайну, пахнущую замшелой черепицей, коксом, сажей, снастями, шерстяным пальто и дыханием реки – недалекого Санона, но еще и двух каналов совсем рядом, Большого и Малого, и здесь обоняешь точно так же, как видишь, мечтаешь, как улавливаешь мысль. Вспоминается Сименон[4], он здесь – весь его мир в дыму трубки, чей краснеющий огонек в руке одинокого прохожего различим метрах в двадцати; вот он идет в тумане, в неверном свете уличного фонаря, у которого собака, жирная дворняга с отвисшими сосками, поднимает ногу и тявкает, сама не зная зачем.
Корица
Cannelle
Я вырос в краю, где времена года сменяются, как отрубленные топором, резко и бесповоротно. И зима тут не на последнем месте: она закрывает год, как затворяют дверь в комнату, полную золотых безделушек и хрусталя. Зимой мечтают. Зимой поют. Зимой пьют и едят. Эти декабрьские пиры и перекусы, сдобренные эльзасскими винами, гевюрцтраминером и рислингом, и водкой – грушевой, мирабелевой, малиновой – заканчиваются, сказать по правде, только к Сретению, вальсом горячих блинов. Корица здесь – экзотическая гостья. Мы почти не используем ее в течение года, разве что изредка – в яблочном компоте или, в конце августа, в сливовом торте. Зато с первыми холодами она высовывает свою остренькую, с перчинкой, мордочку. Из больших стеклянных банок достают палочки, похожие на куски пергамента, порыжевшие и свернувшиеся от огня. Толкут их в порошок в ступке. Дар волхва. К нам в кухню приходит Восток со своими кортежами и миражами, рассыпая их по пластиковой мебели и старенькой клеенке. Печенье, пирожки, булочки, бриоши, шарлотки и эльзасские пироги – все усеяно корицей, и это божественно. Не выходя из кухни, мы погружаемся в глубь Европы и в глубь времен, перепачканные мукой лакомки-путешественники. Много лет мне хотелось изучить географию штруделя, этого изысканного рулета из тонкого теста с яблоками и изюмом – в его самом классическом варианте! А география эта, в сущности, обрисовывает границы бывшей Австро-Венгерской империи, ибо с тем же успехом, что и в Вене, штрудель можно отведать в Венеции, Триесте, Бухаресте, Варшаве, Праге, Будапеште и даже в Нью-Йорке, куда столько эмигрантов с руин и пепелищ бежали за новой надеждой на жизнь. Сказать по правде, из всех составляющих этого пирога меня больше всего волнует именно корица, одуряющая музыка ее аромата зимы и праздника, дозволенный дурман, способный сделать изысканным и утонченным простое французское тесто, придать ему изюминку экзотичным акцентом. Даже обычное красное вино, если его долго кипятить на краешке плиты, бросив туда сахар, дольку апельсина, бутон гвоздики и щепоть корицы, преображается благодаря ей в чарующего бесенка и обжигает руки, держащие стакан, в который его налили, согревая рот и горло, заливая пламенем желудок, рождая искорки смеха в уголках глаз и на щеках, счастливо порозовевших от холода на улице. Развязываются языки и начинают плести сказки и небылицы. Тасуются воспоминания, о жизни, об Истории, о романах, точно колода карт. Вдруг заходит речь о минаретах, о тундре, о принцессах-узницах. О караван-сараях, о маленьких лошадках и степях. О черном табаке, сломанных мечах, об Императоре и его промозглом замке, обмороженной коже и солдатах, оставшихся верными и утонувших в русской реке, когда все уже погибло и мир умер, а они так и не узнают об этом.
Погреб
Cave
Мои двоюродные бабушки Тирион, сестры бабушки со стороны отца, живут в Сен-Блезе; это маленькая деревушка в Вогезах, там всего одна улица. Мы зовем их «тетушками из Сен-Блеза», объединяя всех в античную триаду и почти забыв имена, которые помогли бы их различать: Берта, Катерина, Маргарита. Почему же и сегодня встают в моей памяти с болезненной четкостью их черты, их морщины, их волосы и чепцы, их черные, серые и темно-синие одежды? Я нежно люблю бабушку со стороны матери, но лицо ее совсем позабыл. А эти никогда не улыбающиеся старухи мне вовсе не нравятся, а между тем они расположились в моих воспоминаниях вольготно, как у себя дома. Незамужние, они живут втроем в большом семейном доме, задний скат его крыши спускается до самого огорода, чью границу до первых заморозков сторожат капустные кочаны. А дальше – лес, мутный бархат черных елей, мха и ветвей до земли. Нас принимают в кухне, скупо освещенной низким окошком и лампочкой под потолком, которую зажигают, только когда лиц уже не различить. Я у них – ставка в раздорах, мне непонятных, уходящих корнями в какие-то давние обиды: нас всякий раз угощают пирогом с мирабелью, початым, клеклым и безвкусным, на который я от души набрасываюсь, к вящему огорчению мамы – ведь она непревзойденная мастерица выпечки. И всегда-то одна из теток не преминет заметить: «Надо же, проголодался, бедный малыш!» – как бы пеняя ей, что она меня недокармливает и, стало быть, плохая мать. Потом меня отпускают погулять по дому. Я поднимаюсь в спальни, где кто-то спал в последний раз году этак в 1915-м. Открываю шкафы, обнаруживаю пропахшие нафталином шляпы-котелки, костюмы покойников, тонкие бамбуковые тросточки, засушенные букеты, раскрашенные фотографии. Этот музей канувших жизней кажется мне книгой без букв. Я смутно предощущаю, что мне придется однажды составить и записать этот алфавит. Мне, ребенку, позволяют вдыхать запахи мертвой пыльцы, вдовьей шерсти, сиротского белья, чтобы ребенок этот со временем связал их в канву и воскресил жизни, сгинувшие в войнах, болезнях и несчастных случаях. Спальни, чердаки, все, что наверху, журчит заупокойным пением, а вот погреб, чрево во всю длину огромного дома, – это поэма Ада. Я спускаюсь туда, весь дрожа, но никогда не дохожу до конца – да и есть ли у него конец? Тьма, через несколько метров – абсолютная. Этажерки, на которых лежат бутылки вина с серыми горлышками и стоят банки с соленьями, исчезают в ней вместе с каменным сводом. Холод становится осязаемым, и вот я уже ступаю ногами – не на каменный пол, нет, – на землю, словно вскопанную заступом могильщика. Меня обдает дыханием пещеры, тяжелым, липким, вязким от глинистой грязи. Пробирает озноб. Я останавливаюсь. Хочу пробыть как можно дольше в этой бездне. Мое сердце, маленький зверек в клетке, отчаянно бьется о прутья-ребра. Погреб манит чарами плесени и гнили, смутных испарений, это – ночной поцелуй сирены глубин, которая душит меня, обвивая щупальцами. Но страх сильнее меня, и вот я, развернувшись спиной к непроглядной бесконечности, бегу по узким коридорам к маме, бросаюсь, чуть дыша, в ее раскинутые руки под сухим и неодобрительным взглядом трех старых теток, две из которых, ворча, почесывают волосатые подбородки.
Гостиничные номера
Chambres d’htel
Мне знакомо много гостиничных номеров. Даже, наверно, слишком много. И то, что в детстве до крайности волновало меня, теперь – лишь легкий укол тревоги. Понравится ли мне этот номер, ключ от которого я только что получил и о котором ничего не знаю – какой в нем свет, цвета, мебель, запахи? Будет ли мне в нем уютно? И главное, главное – смогу ли я там писать? Ибо гостиничные номера уже много лет как стали моими кабинетами и лабораториями. Там я произвожу на свет свои рассказики. А еще – в поездах и в самолетах. В движении, стало быть, или в неподвижности, но в замкнутом пространстве и всегда – далеко от дома. Мне пять, семь, десять лет. Гостиничный номер означает каникулы. Он вмещает весь их размах и новизну. Все здесь пахнет не так, как дома, и, что я помню особенно четко, – запах мыла и чистых полотенец, которым, стоит только переступить порог, встречают меня эти номера в долине Отцталь в Тироле: обстановка скромная, лакированное дерево и пуховые одеяла предвещают уют, в котором я проведу несколько дней. Эта комната не моя. Она не знает меня и ничего от меня не сохранит. Я вхожу в это место, незнакомое, без чужой памяти, пространство абсолютной обезличенности, и мне должно бы быть в нем не по себе, но оно, наоборот, как-то успокаивает меня: я путешествую, я здесь только проездом. В гостиничных номерах нам следовало бы видеть метафоры наших жизней. Новое ковровое покрытие, постельное белье, выстиранное и выглаженное в больших прачечных, где используют одни и те же средства, эффективные и ничем не пахнущие – и это отсутствие запаха, в конечном счете, само по себе становится запахом. Тщательно продезинфицированная ванная, платяные шкафы, тоже не пахнущие ничем, иногда – цветы в вазах, но и те подбираются без аромата, ненавязчивые, чаще всего орхидеи. Запахи только в ванной. Гель для душа, увлажняющий крем, мыло. Вот я и вернулся к нему. И к тому впечатлению детства. В гостиничном номере мыло другое, не то, что дома. Иногда я ничего в нем не пишу. Комната не располагает, и я не пытаюсь понять: почему. А иногда пишу часами, забыв о собственной жизни и течении времени. Эта комната принадлежит мне лишь временно. Я оставлю здесь свой запах, как зверь на тропе или на лежке в кустах. Но завтра же, вскоре после того, как я съеду, все мои следы сотрут. Никто, войдя в эту комнату, не узнает, что ее занимал я. Как быстро мы здесь забываемся. Снова метафора. Иногда, заглядывая под кровать в поисках оброненных очков или ручки, я нахожу носок, пуговицу, обертку от жвачки. Да, и только тогда, по этим признакам, я понимаю, что комната знала как минимум еще одного жильца, о существовании которого говорят мне эти мелочи. Но я не детектив и не археолог, чтобы читать по этим следам. В некоторых комнатах курили. Миазмы табачного дыма въелись в ковры и занавески, в матрасы, в шкафы. Мыло и табак. Занятная смесь, но остывший табачный дым, в конечном счете, воняет всегда одинаково. Он ничего не говорит о том или о той, которые курили здесь. А, кстати – мужчина это был или женщина? Кто ночевал здесь вчера? Гостиничный номер – бесполая комната. Или же гермафродит. Она безразлична, вот что. Ей плевать. Отдается тому, кто платит. Как шлюха, что закрывает глаза и не целует в губы. Она наша на несколько часов, на одну ночь, когда мы будто бы единственные, она впитывает наши запахи, чтобы лучше лгать нам, а потом изгоняет их, как изгоняет и нас. Если она чем и пахнет, так это нашей быстротечностью и мимолетностью.
Уголь
Charbon
Мы топим дровами или углем. Больше, впрочем, углем, чем дровами, – его перед каждой зимой привозит нам грузовик от Обера. Десятки грязных джутовых мешков носят двое мужчин, чьи лица, как ночь – только белизна зубов и глазных белков придает им хоть какую-то человечность, и то жутковатую, это человечность убийц или пожирателей детей. Одного зовут именем северного бога, Один. Их руки – такими только шеи сворачивать – подхватывают мешки из кузова грузовика, движением поясницы грузчики взваливают мешки на плечо и медленным шагом спускаются с ними вниз, в погреб. Сделав дело, грузчики утирают пот со лба тыльной стороной грязной ладони. Отец угощает их стаканчиком красного, который они опрокидывают залпом, стоя, не произнося ни слова. Уголь в брикетах, квадратных или овальных, или просто россыпью. Куча угля соседствует с кучей картошки. Обе одновременно уменьшаются, неделя за неделей. По ним можно измерить, как идет на убыль зима. Из всех труб в городе валит густой черный дым, тяжело поднимающиеся в небо клубы почти не рассеиваются. А часто бывает даже, что небо их отторгает, прибивает к земле, а стало быть, к нам. Мы задыхаемся в удушливом тумане, и частички сажи оседают повсюду, на деревьях в саду, на развешенном белье, на наших волосах, на снегу – полной противоположности угля. Меня посылают в погреб. Я наполняю цинковое ведро занятной формы – прямоугольное основание сужается и округляется кверху. Поднимаюсь, держа его двумя руками. Плита ждет угля, как оголодавший зверь кормежки. Крюком открываю дверцу и ссыпаю черноту в ее красную пасть. Вырывающийся из жерла жар жжет кожу, а иногда и подпаливает немного брови. Как будто опалили поросенка. Плита марки «Зугланд» переваривает свой корм, урча от удовольствия. Она сыта. Я открываю ранец и принимаюсь за уроки на кухонном столе, весь в запахе вечернего супа. Мне хорошо. Я люблю читать и писать на кухне. Это лучшее место для меня, простое и без затей, никакого официоза. Здесь не надо выглядеть, не надо играть ни в какие социальные игры. Кухня знает наше истинное нутро. Она видит нас утром, с помятым после ночи лицом, и вечером, когда, после долгого дня, мы позволяем себе расстегнуть пояса и показать наши слабости. Поставщики угля постепенно исчезают: устанавливают центральное отопление. Революция. Тепло и чисто. Погреба больше не черны от сажи. Хозяйкам не надо гоняться за пылью. Из труб идет прозрачный, ничем не пахнущий дымок. Запах забыт. Закрываются шахты. В окнах новенькие стекла. Уголь уходит из нашей жизни. Минуло много лет, и вот я иду по улицам польского города Катовице. Февраль месяц. Очень холодно. Уже стемнело. Навстречу попадаются закутанные фигуры, спешат, опустив головы, лиц не видно под большими шапками, низко надвинутыми кепками. Скупо освещенные магазины. Не слишком заманчивые кафешки. Какие-то пьяницы бранятся с собственной тенью. Вдруг порыв ветра, налетевший сверху, разом сметает с крыш все, что на них застоялось, – и я уже окутан пыльным и едким дымом, не то зеленоватым, не то желтоватым, пощипывающим горло и ноздри. Уголь. Уголь, которым здесь, в краю работающих шахт, еще повсюду топят. Запах детства и бедности, запах печали, как будто в черных частичках сажи заключено горе, большое и маленькое, с последствиями и без, вечное и преходящее, пятнами оседающее на человеческих жизнях.
Падаль
Charogne
Au detour d’un sentier[5] порой вдруг вдыхаешь запах, звучный, сильный, осязаемый, взболтанный крылышками тысяч насекомых, для которых смерть – и промысел, и жизнь, и музыка. Вдыхаешь – и погружаешься в поэзию. Бодлеровскую, конечно же. Черную поэзию жизни и ее конца. Под открытым небом, вдали от всех погостов. Прекрасны небеса, плодоносящие деревья, цветы на живых изгородях. Зеленеет густая, приесанная трава, рыжеет земля, все поет, и вдруг ты натыкаешься на смерть. Дурманящую. Сладкую. Животную. Жуткую. Не такую уж и жуткую, впрочем. Скорее, досадную, как подгнившее рагу или остаток дичи, забытый на дне кастрюли. Часто – лишь запах, больше ничего. Останков животного не найти. А что, если так пахнет его призрак или наш страх? Много раз в лесах Серра, Фленваля, Юдивилье я искал трупы, почуяв их дух в ходе игры в полицейских и воров. Но кто здесь ворует? В выигрыше смерть, она забрала лису, прошитую дробью крестьянина, стыдливую кошку, ушедшую умирать подальше от хозяев, больную косулю, растерзанную бродячими собаками. А потом за дело берутся жара и тлен. Вздутое тело, газы, истечение соков. Остальное известно. Падаль, невыносимо запредельный цветок, скромна, как будто не смеет показаться на глаза. Скрытая. Неуспокоенная. Робкая. Что от нее остается – лишь яркая память. Падаль ни на что уже не похожа. Нечто бесформенное. Живое, устыдившись, укрылось в вони. Последнем своем пристанище. А потом подует свежий ветер с Вогезов, прольется дождик – и все кончено. Когда проходишь позже в том же месте, тебя встречают ландыши или боярышник в цвету, и только шуршат по мху осторожные шажки ласки.
Жнивье
Chaume
Иногда кажется, будто видишь большие головы с коротко остриженными волосами. Светлый ежик на сухой коже. По-военному. Конец июля, жара. Идет жатва. Косить – больше не косят. Все делает машина. Огромная, во всю ширину двухполосного шоссе, и по ночам пшеница, которую она жнет, освещается огнями межпланетного корабля. Когда все кончено, на месте моря колосьев остается лишь голая земля, лишенная своей пышной шевелюры. Лысина. Поля скошены. Через несколько недель их вспорют лемехи плугов, и, распаханные, они будут отдыхать в ожидании сева озимых. А пока корни срезанных стеблей еще привычно тянутся к влаге. Только немного жесткой соломы да не попавшие в кузов зерна прячутся в рытвинах, напоминая о том, что было. Прогуливаешься по дороге Трех Дев и, чуть не доходя часовенки Нотр-Дам-де-Питье, уже ощущая тень ее каштанов и журчание источника, идешь вдоль жнивья, пахнущего пекарней и теплым хлебом. Ветер над стерней вздымает в небо желтые вихри, которые в извивах света местами отливают серебром. Тучи. Маленькие безобидные циклоны. Кажется, будто попал в главу из Библии. Не успокоишься, пока вправду не найдешь Бога. Слетаются птицы, точно сухой дождь, сыплются большими черными каплями под взглядом акаций, выстроившихся колючими отрядами вдоль дороги. Птицы мародерствуют, отбирая у обреченного последние упавшие зерна пшеницы. Солнце припекает, нагревая пыль, стебли, растрескавшуюся землю, чудом уцелевшие колоски, одинокие, беззащитные перед клювами птиц и зубами грызунов. Тесто. Дрожжи. Опара. Мука и белый передник. Я закрываю глаза и переношусь к дверям Розы или Флорантена, двух булочных на улице Матье. Я рассекаю холодную ночь на велосипеде, мне навстречу движутся огни в скрежещущей музыке генераторов. Спешившись перед булочной, непослушными от холода пальцами толкаю дверь, открытую с пяти часов. Первая выпечка уже распространяет душистое тепло, багеты – мы зовем их дудочками – и фунтовые булки, именуемые здесь длинными хлебцами – рядком на полках или еще стиснутые в корзинах ждут первых покупателей. Это рабочие после ночной смены, старики и старушки, которым не спится, оттого что им одиноко, рыбаки, собравшиеся на утреннюю ловлю, проезжие дальнобойщики. Я засовываю хлеб между курткой и толстым свитером, поднимаю воротник и качу во весь опор обратно. Дом еще спит. Будет им сюрприз – свежий хлеб. Кузнечики и жаворонки, вместе или вразнобой, наяривают песню плохо заточенной пилы, силясь перепилить свет дня. Я миновал жнивье. Голое бугристое поле дрожит в жарком мареве. У каменной ограды за часовней я вкушаю тень, точно прохладное питье. Где вчера, где сейчас – все смешалось. И я, счастливый, кручу педали, еду домой, к нам, к кофе с молоком, маслу и клубничному варенью, а на груди у меня сладостный ожог, как будто кто-то засунул мне под куртку ломтик солнца.
Капуста
Chou
Селин – кажется, он – говорит о нем, как о запахе переваренной бедности. Капуста в супе на обед и на ужин, не сдобренная мясом, а этот запах неопрятных тел въедается в облупленные стены лестничных клеток, в подвалы и подъезды, в низкие потолки чердачных комнат, в затхлые привратницкие, заполняя каждую трещинку, словно ничего не склеивающий клей. Что-то вроде визитной карточки нищеты. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кем ты никогда не будешь. Я, ребенок, стыжусь запаха капусты, и этот стыд может сравниться только с удовольствием, с которым я ее ем. До отвала. Да. Капустный суп. Тушеная капуста. Кролик с капустой. Капуста с салом, маленькие кочанчики брюссельской капусты, припущенные на сковороде, сохраняющие почти сырую сердцевинку, сами по себе или с картофелем, долго томятся под крышкой, чуть прилипая ко дну жирной карамелью, вбирающей в себя все их ароматы. Мои волосы и одежда выдают меня после обеда, как выдает нас жареное филе мерлана по пятницам. Но в этот день пахнем мы все, и хозяин тоже. А вот с капустой я зачастую одинок, и все демонстративно зажимают носы, когда я прохожу мимо. Остывшая капуста просто убийственна. От нее всегда что-то остается. Следы преступления. Зависший туман. Это неумелый убийца, которому даже в голову не приходит скрыть улики. Так пахнут иные старики, которых никто не любит и не навещает. Запах обреченных. Он стоит в домах престарелых и в следственных изоляторах. Как будто капуста – обязательный атрибут мест заключения, только она и сопровождает горе и кары, сопровождает их жизни до самого конца, жизни сломанные, поднадзорные, жизни испорченные, задушенные, разрушенные – и умирающие. Капуста – неотъемлемая часть приговора. И даже когда ее нет и не было вовсе, она – как только ухитряется? – все равно пахнет, что ты с ней поделаешь, в непроветренных комнатах, в грязных носках, под мышками, под юбками, трусами, повязками. Запах, неистребимый даже в своем отсутствии. Такой, в общем, банальный, что другие запахи, подражая ему, самозванно им становятся. В сущности, она – ничто, и, наверно, поэтому так долго была пищей тех, кто сами никто и звать никак, и так прочно въелась в их кожу. Непопулярная. Отверженная. Изгой. Лузер. Не стоит внимания. Я надеюсь, что от меня еще долго будет разить капустой.
Сигара
Cigare
Ночь и тропики. Ночь густая, как тесто, и теплая, нет, больше того – обволакивающая: ночь стала одеждой. Для тел. Она окутывает праздного гуляку, шатающегося по бессонному городу. Гавана, Тринидад, Сантьяго-де-Куба. Ночные города, плотские ночи в брызгах музыки. Музыка везде. Входит, выходит, обвивает, манит, зазывает, ласкает. Музыка – и танец, ее грошовый наряд, танец, соединяющий тела в каждом, самом тесном баре, на любой, самой маленькой площади. Здесь пьют мохито, запрокинув голову. Ищут звезды в небе, но звезды – они здесь, рядом, в глазах, на губах, здесь черные плечи блестят от пота, здесь глотки мертвы, а взмокшие платья липнут к ляжкам. Я иду на улицы, чтобы допьяна упиться встречами, и пью, стоя в шумных зелено-синих барах или сидя на ступеньках закрытых церквей под белеными стенами. Кубинская ночь пахнет ромом, потом и сигарой, жаром импровизированных печей в бочках из-под машинного масла, где по-походному жарятся пиццы без томатов и оливок. Проходят девушки, громко смеясь, и дым тянется за ними, мечется, маня их запахом жареного какао, теплого шоколада, влажных листьев, тронутых огнем, старого алкоголя, выдержанного в благородном дереве. Сигары. Фонарики в ночи, эфемерные маяки для моряков без судна, они дарят пальцам, их берущим, и губам, их целующим, свое вытянутое тело, одновременно твердое и гибкое, теплое и свежее, растительное, живое, смертное. Пить, танцевать, курить, и снова пить, и снова танцевать, и курить до утра этот жар пламенеющего леса, затворившись в раю облаков, которые порой пахнут кожей и шерстью, женской и волчьей, и гумусом, и поджаренным хлебом А потом, когда свет зари разбавит сумрак ночи, точно капля лакрицы в стакане молока, выйти к бьющемуся о набережные морю. Вдохнуть его, закрыв глаза, устало раскинув руки, услышать, как стучит его пульс о волнорезы, и рассмеяться, вторя первому смеху ребятишек, которые бегут, голые до пояса, порыбачить.
Кладбище
Cimetire
Напротив нашего дома, по другую сторону шоссе, лежит обитель мертвых. Они покоятся под плитами из мрамора и гранита, из светлого известняка, посеревшего от времени и дождей, или в часовенках – это те, кто побогаче, но и их мошна не уберегла от последнего приюта. Соседство мирное, ровное, убранное цветами. Город в миниатюре, где есть и нищие кварталы, развороченные, осевшие или вовсе снесенные, есть и роскошные, ухоженные, почти кокетливые, и есть две-три элегантные аллеи, где скромно похрустывает под ногами гравий. Внизу – покойники, молодые и старые, где рассыпающиеся кости, где свежезахороненные во взрытую землю: она еще долго будет приходить в себя под охапками цветов, которые лишь на несколько дней переживут усопшего и тоже вскоре начнут гнить. Вот этот-то запах и преследует меня до сих пор, кисловатый душок растительного разложения, застоявшейся воды, что становится желтой или зеленоватой в стеклянных и каменных вазах, и эти груды поникших далий, вороха увядших хризантем, бегоний, гладиолусов, измученных ромашек, гвоздик и лилий с вонючими, покрытыми слизью стеблями. Цветы, которых покинули их яркие и чистые краски, как новобрачных наутро после свадьбы покидают их ветреные мужья, слились отныне в тускло-бежевую гризайль[6], отринув свои различия и свою природу. Компостная яма. Вот какое последнее пристанище определяют им близкие умерших, когда, скрепя сердце, убирают с места погребения, разочарованные их нетоварным видом, и безжалостно бросают в этот бетонный квадрат, который становится их могилой, и в котором, как всякий умерший, они еще некоторое время сохраняют форму своего тела – объединившего их букета. Но как далек от этих тошнотворных запахов растительной смерти, от которых к горлу подступает противно-сладковатая желчь, вдруг рождающийся легкий душок теплого камня, когда на граните старых могил в островках мха тончайшая пленка воды, греясь на жарком солнце, пахнет лесным родником, и стоит закрыть глаза – кладбище исчезнет под сенью небесного леса, где мертвые становятся ничем не пахнущими тенями, а их тела – неувядаемыми лучами света.
Парикмахер
Coiffeur
Парикмахерская папаши Анса находится на углу улицы Жанны д’Арк и дороги Узников. Дойти туда просто: прямо по улице Сен-Дон до этого перекрестка. Я хожу один и сразу по приходе даю парикмахеру пятифранковую монетку, пропитавшуюся теплом моей ладошки, которая сжимала ее крепко-крепко, – не дай бог потерять по дороге. Я присаживаюсь на один из четырех стульев и жду своей очереди. Папаша Анс стрижет, куря и пританцовывая. Это человек без возраста, в сером нейлоновом халате, маленький, худенький, с зачесанными назад серебристыми волосами, которые он часто приглаживает, а глаза всегда сощурены от дыма «Голуаз», не покидающего правого уголка его рта. Он кружит вокруг клиента вприпрыжку, с изяществом боксера, который силен игрой ног. Много говорит, разумеется, со взрослыми. Здесь только взрослые и есть. Все больше старики. И я. Но меня он как будто вовсе не видит, пока не подходит моя очередь: «Теперь ты, мальчуган!» Он усаживает меня в вертящееся кресло, поднимает его на максимальную высоту, нажимая на рычаг ногой, точно надувает гидравлической педалью матрас. Широким жестом тореадора или фокусника набрасывает на меня легкую накидку, под которой я исчезаю весь, кроме головы и шеи. Завершая приготовления, он отрывает от большого мотка, лежащего под зеркалом, ленточку крепированной бумаги, белой с розовыми прожилками, и обвивает мою шею этим эластичным воротничком, податливым – и в то же время жестким, приятно щекочущим подбородок. На полчаса я отдан на милость его ножниц, которыми он любит то и дело со свистом рассекать воздух, как будто, кроме моих волос, стрижет еще прозрачные кудри растрепанных призраков. Сигаретный дым образует надо мной подвижный потолок, перемещающийся вслед за его подпрыгиваниями. Мне нравится быть в его власти, я и до сих пор люблю полностью отдаваться рукам зачастую восхитительно разговорчивых парикмахерш, массажисток, остеопатов, педикюрш и кинезитерапевтов. Я слежу в зеркале за своей все больше похожей на птичью, по мере того как падают вокруг меня мои светло-каштановые пряди, головкой. Но самое большое удовольствие еще впереди. Закончив стрижку, папаша Анс разрывает креповый воротник, в котором я был похож на придворного Карла IX, комкает его, бросает в мусорную корзину и берет пузатый металлический флакон, увенчанный длинным тонким носиком, на другом конце которого висит большая, в мелких трещинках, резиновая груша. Все так же резво подпрыгивая вокруг меня, он нажимает на грушу, и из пульверизатора вырывается мокрое облачко холодных брызг, пахнущих розой и бриллиантином, и еще – чуть-чуть – старой псиной. Этот микроскопический дождик оседает крошечными капельками на моих остриженных волосах, на веках, на лбу, на сжатых губах, на шее, и я ёжусь под освежающим ливнем. Обряд, ежемесячное мирское крещение. Ты хорошо пахнешь. Ты красивый, говорит мне дома мама. И я ей верю. Есть возраст, в котором мы верим всему, что говорят нам наши мамы.
Солнцезащитный крем
Crme solaire
Моя мама боится солнца, для нее оно словно лютый враг, всегда готовый напасть. И я воспитан в этом постоянном страхе: ведь если, перегревшись, окунуться в холодную воду, можно и умереть! Боимся мы и ожогов, которые могут навсегда погубить кожу. Мне приходится дожидаться четырех – половины пятого, чтобы отправиться в бассейн, где уже собрались все мои друзья. На самом деле это просто купальня с проточной водой, не очень-то, по правде сказать, проточной, а мутно-коричневой – вода эта, ни больше ни меньше, из Мерта[7]. Несколько десятилетий назад на одном из его рукавов, выше Плотины, поставили бетонные стены, выгородив водоемы. На берегу – ряд кабинок, в которых можно переодеться. Есть касса, где покупают билеты, есть инструкторы по плаванию и, кажется – но я не уверен – даже буфет. Все это в тени высоких деревьев, тополей и ясеней, чьи верхушки, шелестя, поглаживают небо. Я сучу ногами от нетерпения: уже поздно. Мама заставила меня спать после обеда, это было невыносимо, и я, разумеется, не сомкнул глаз. За окном середина июля, стрекочут кузнечики и сверчки, нет конца каникулам. Я уже надел плавки, которые мама натягивает мне до пупка – они подчеркивают мою худобу. Сунул ноги в пластиковые сандалеты. Мама выдавливает в ладонь из оранжевого баллончика большую белую жемчужину, консистенцией напоминающую пену для бритья. Давит жемчужину о мою кожу. Мягкое прикосновение. Мама размазывает крем, вдруг ставший невидимым, словно чудом растворившийся, по всему моему телу. Я читаю надпись на баллончике: Ambre solaire. Похоже на название стихотворения, вроде тех, что я учу в школе каждую неделю, их написали Эмиль Верхарн, Морис Фомбер, Жозе-Мария де Эредиа, Поль-Жан Туле. Я закрываю глаза. Вдыхаю. Крем, жирноватый, с легким мускусным душком, пахнет турецким гинекеем. Как продолжение дневной жары, тепло близости, ласкающей руки. Много позже я открою купальщиц старика Энгра. Этот запах я отдам им. Наконец-то я готов. Вскакиваю на велосипед. Качу во весь опор. Ветер обнюхивает меня. Мне 10 лет. Жизнь – чудесный подарок.
Двухтактная смесь
Deux temps
Юность ведь бывает и всего лишь порой шума и дыма, вовсе необязательно – ярости[8]. В начале 70-х главное – погромче тарахтеть, чтобы все слышали. Мотоциклы, серые или голубые, с отполированными карбюраторами и свинченными глушителями, накачанные подручными средствами, рожки руля сведены так близко, что их почти можно удержать в одной руке, отчего каждый вираж опасен. Двухместное седло, лисий хвост над задним кылом, зеркальце в затейливом держателе. Низкий упор, чтобы зверь вставал на дыбы, как «Харлей». Тела сверху сливаются с формами «Gitane Testi», «Flandria», «Malaguti», миниатюрных гоночных снарядов, чей литраж не превышает 50 кубиков, а баки наполняются двухтактной смесью, бензином пополам с маслом, дважды щедрой субстанцией, которая при сгорании пахнет перегретым фритюром. Все любят танцы, вернее, танцульки – оркестры в блестках и бачках наяривают субботними вечерами в постройке скорой сборки, путешествующей по городкам и деревням, хиты французских полубогов рок-н-ролла и чудные попурри на тему «Друпи» и Майка Бранта, под которые становятся податливее и сердца девушек, и их руки. Vado via. Laisse-moi t’aimer. Qui saura?[9] Мы только смотрим издалека, мы ведь еще не вышли из возраста молочных зубов. Танцы, танцы перед нашими глазами, и уже круг мотоциклов, над которыми поработали местные умельцы, распространяет вокруг клубы дыма и грохот. Двадцатилетние парни носят длинные волосы, стрижки под Rubettes или, в лучшем случае, под Боуи времен Зигги Стардаста и Кейта Ричардса в «Изгнании на Мейн-стрит». Короткие кожаные куртки, тонкие свитера в обтяг до пупа, широченные брюки на ремне с большой пряжкой, бордовые ботинки с круглыми носами на высоких каблуках. Мольеровские шузы, как они говорят. Девушки в мини-юбках или узеньких брючках садятся на мотоциклы, и нам видны их ляжки. Они в сапогах, в атласных блузках с воротниками лопаточкой, веки у них зеленые, ресницы тяжелы от туши. Они курят «Fine-120» или длинные «Royal» с ментолом, а их дружки – «Голуаз». Наутро мы узнаем из газет о стычках соперничающих групп с применением ножей, а то и топоров или велосипедных цепей, возле танцплощадки или даже внутри. Мы ошиваемся вокруг, высматривая на земле следы крови. Но только вдыхаем почти выветрившийся запашок пива, мочи и рвоты. Летними вечерами так и носятся по дороге Соммервилле мимо нашего дома эти мотоциклы, с пронзительным треском и густым дымом, с глупым вызовом – сколько их уже расплющилось о ствол невозмутимого платана или под колесами грузовика… Я чую в горячих запахах этих нервных моторов дух взрослой жизни – так пытаешься по трепету рассвета предощутить, каким будет день. Мне и самому не терпится оседлать такой мотоцикл, почувствовать его гаражный смрад и ветер в волосах. Домбаль и сегодня еще хранит эту традицию ревущих малюток, распространяющих на виражах, в которые они входят круто, касаясь коленом земли, как на Гран-при, синий дым горелого масла. Мотороллеры сыновей сменили моцики отцов, получивших в наследство от той славной поры и потасовок лишь несколько ножевых шрамов, татуировку – глаза лани под скулой, три недостающих зуба, серебряную цепочку да понтовые сапоги. Живот, когда-то голый и плоский, выпирает из-под тренировочного костюма. Они стригут траву косилкой на квадратике лужайки за своим коттеджем. Порой наклоняются покопаться в моторе, который тарахтит и жрет слишком много топлива, потом разжигают паяльной лампой барбекю и жарят размороженные сосиски, запивая их бутылкой-другой пива, купленного в магазине оптовых цен. Толстуха-жена присаживается рядом на скамейку. В таком же, как правило, тренировочном костюме. Когда-то она была похожа на Жоэль, красавицу-певицу из группы «Однажды», умершую в 27 лет. Танцулек нет давным-давно, но они все еще слушают Джонни Холлидея. Бывает, в воскресенье, придя на местную распродажу старья – надо же куда-то ходить! – они вдруг наткнутся на Gitane Testi, примостившийся на тротуаре между двух ящиков со старыми пластинками и военными куртками. Остановившись, они смотрят на него. Он, оказывается, совсем маленький. А казался им таким большим. Как жизнь.
Общий душ
Douches collectives
Мои воспоминания о футболе связаны с грязью и холодом. Замызганные. Неприятные. Долгие тренировки по средам, под угольным небом, неотвязными дождями, в грохоте и копоти поездов, проходящих недалеко от стадиона, красно-бежевых дизелей, окутанных дымом, и рявканье нашего тренера, маленького, приземистого, как фокстерьер, мечтающего вырастить из нас Гердов Мюллеров, Паулей Брайтнеров, Йоханов Круиффов, Домиников Батенэ. Матчи проходят по субботам, но я в них не участвую. Я сижу на скамейке, бессменный, так сказать, запасной, всегда готовый тигром ринуться на поле, и верю лжи тренера, который говорит: «Клодель, я держу тебя в резерве, ты мой последний козырь!» Мои товарищи бегают, кричат, надеются, бьют по мячу, забивают голы, обнимаются. А я за чертой. Всеми забытый. Ненужный. Последний козырь никогда не в игре. Меня лишают праздника. Я убираю в сумку девственно чистую форму. Маме не придется ее стирать. Хоть ей повезло. Я утешаюсь, коллекционируя этикетки от «Панини» с портретами наших кумиров. Они самоклеящиеся и пахнут пластмассой. Два сезона я не пропускаю ни одной тренировки. Выкладываюсь на все сто. Выполняю все указания. Я хочу блеснуть, чтобы тренер меня заметил, чтобы и мое имя появилось в списке команды, который вывешивают в витрине кафе «Глобус» в пятницу вечером перед субботним матчем. Иногда тренер удостаивает меня фразы: «Опять удивил, Клодель!», которую я принимаю за похвалу, хотя на самом деле он высмеивает мою никчемность: я в очередной раз ухитрился забить в свои ворота. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март: поле становится топким, мы еле толкаем по нему мяч, точно каторжники свои тачки с камнями. В конце тренировки мы походим на варварских богов, все мокрые и в земле. Раздевалка не отапливается. Бутсы гулко стучат по полу. Мы снимаем форму, тяжелую, коричневую от грязи. Дыхание вырывается изо рта облачками пара. Пахнет животным жиром, камфарой, ментолом, арникой и полынью. Это «Бобровый бальзам», мы все им пользуемся, чтобы разогреть мышцы ног перед тренировкой. Мы не слышим друг друга. Крик, смех, толкотня, веселая ругань, беззлобные стычки, галдеж и пердеж, шуточки. Все нагишом. Направляемся в душевую, прикрывая двумя руками едва наметившийся член, смешную тощую улиточку – робкую, голую, стыдную. А другие, например младший Вуари, очень гордый собой, уже демонстрируют причиндал, как у больших, длиной с банан, волосатый, дерзкий и самодовольный, берут его в руку, всем показывают, крутят. Из ржавых душей бьет кипяток. Стены бетонные, пол цементный. Нас не видно в клубах пара, как в хаммаме. У всех одно и то же мыло – «Пальмолив». Пена стекает под ноги. Вдруг становится жарко, но, несмотря на запахи чистоты, всегда остается душок, истинный знак этого места, приглушенный запах сырого холода и мокрой плитки, старой постройки, давно не знавшей ремонта, стыков, разъеденных плесенью, и сладковатой испарины. Я прячу, как могу, свою маленькую пипиську. Намыливаюсь, мечтая о следующей субботе. Тренер выпускает меня на поле. До конца всего десять минут. Мы проигрываем 6:0. Я бегаю, пасую. Делаю решающие передачи. Исхитряюсь бить головой. Отбиваю как Жан-Мишель Ларке. Благодаря мне мы сравниваем счет. Забиваем еще и еще. Весь стадион выкрикивает мое имя: «Кло-дель! Кло-дель!» После финального свистка меня качают. Последний козырь наконец-то сыграл. Ну вот, скоро и моя фотография появится на этикетке «Панини».
Свежие простыни
Draps frais
В воскресенье вечером мама стелет на кровати свежие простыни, те самые, в которые весь день она ловила ветер, и больше всего на свете я люблю эти свежие простыни зимой, когда дыхание севера пропитало их, прихватило, даже приморозило, и они хранят какую-то неуловимую частицу этого ветра, снежную и ледяную, отчего еще шершавее делается зернисто-белая плоть их допотопного полотна. Засыпать один я никогда не любил. Даже в детстве мне не хватало тела рядом. Его тепла, его силы, его нежности, его сонного дыхания и биения его сердца. Я часто боюсь засыпать, боюсь худшего – не смерти, но забвения, бесконечного одиночества. Завтра снова в интернат, в огромный дортуар с блестящим полом, шкафчиками из дешевого дерева, узкими кроватями. Одного из двух старших надзирателей зовут Фиакр. Он терроризирует меня. Говорят, он бывший военный. Еще говорят, что он закоренелый меломан, играет на скрипке. Бывает, он бьет меня и других тоже поколачивает, просто так, без причины, когда пьян. Я плачу каждый вечер, тихонько, тайком от товарищей и воспитателей, мсье Фикса и мсье Боссю. Мне так тоскливо здесь, где все исходит нечеловеческой скукой, точно гноем. Но вечером в воскресенье, на свежих простынях, сон – отрада, потому что я погружаюсь в ночь, неся в себе этот запах раздолья, которым за день на свежем воздухе пропиталась ткань. И когда щека моя ложится на простыню, и ночник на тумбочке уже погашен, я будто вдыхаю бескрайние просторы Пруссии, России, Манчжурии, Монголии и Сибири, все сшитые вместе и плененные ради моего эгоистического счастья. Ведь не только запах чистого, выстиранного белья я чую, нет, это запах географии земли и ветра, дикий и необъятный. Запах целого мира сказок, басен, песен, картин, читанных и виденных мною, превращающих меня здесь, под крышей, в первые минуты сна, в кровати, застеленной свежими простынями, которые украсили когда-то цветами, узорами и арабесками терпеливые иглы моих бабушек, в блаженного небесного странника, беззащитного, но знающего, что хотя бы на время он не одинок и счастлив.
Москательная лавка
Droguerie
Помянем поименно почившие в бозе мелкие лавки: скобяная, галантерейная, шорная, фруктовая, требушная, конинная, бакалейная, семенная, молочная, шляпная, мелочная, трикотажная, сапожная, москательная. Время закрывает двери и снимает вывески, нигде не публикуя уведомление о кончине. Никто не приносит соболезнований. Да и кому их посылать? Нет ни слез, ни сожалений. Наоборот, все радуются тому, что в одном шумном месте теперь сосредоточилось столько разных миров. Я большой оригинал в нашу кочевую эпоху: так и живу там, где родился. Город совсем не вырос. Только размножились в освободившихся помещениях парикмахерские и отделения банков. Я, однако, знаю: за фасадами – призрачные лавки, которые по-прежнему продают немногочисленной клиентуре, скромной, как призраки, перламутровые пуговицы, нитки, конопляное семя, кожаные ремни, веревку метрами, рафию пучками, гвозди на вес, конскую колбасу, мушмулу, рубцы и вымя. Есть такие двери, которые стоит лишь толкнуть – и уличных шумов как не бывало! Тоненький колокольчик рассыпает нестройные нотки. В вас упирается взгляд из-под тяжелых очков. Москательщик в белом халате строг и деловит, и его родство с величайшими химиками всех времен для меня несомненно. Сама лавка и ее хозяин отбрасывают меня далеко назад, в те незапамятные времена, когда фармацевты еще назывались аптекарями. Москательная лавка – пережиток. Москательщик – пришелец из другого времени. Это место – обитель чистоты. Здесь найдешь, чем отчистить все, что только может запачкаться – кожу, дерево, железо, медь, латунь, плитку, стекла или засориться – канализацию, трубы, унитаз. Порошки, краски, растворители, пятновыводители, мыло твердое и жидкое, ядохимикаты, удобрения, гербициды, дефолианты, крысиная отрава, нитраты, сульфаты, хлораты, каустическая сода, негашеная известь, лаки, смазки, смолы, клеи – ничто здесь не съедобно, разве только для отчаявшихся игроков, решивших выйти из игры. Многие коробочки и бутылочки украшают черепа. Москательщик живет опасно, его клиенты тоже. В этой тихой лаборатории может случиться хаос, взрыв, интоксикация, смерть – внезапная, вполне промышленная и верная, или убийство. А ведь полки выглядят такими мирными. Царит порядок, и все очень серьезно. Мясник имеет право шутить, молочник вольничать, рыбник громко разговаривать и насвистывать модный мотивчик. Москательщик же обращается с языком, как со своими товарами. Он не повышает голоса и не трясет словами. Словно готовится свидетельствовать в суде. Это та же церковь, только иного порядка, по-лабораторному строгая, где ноздри морщатся от запахов моющих средств и раздуваются от соблазнительного духа клеев и лаков. Жирная мастика пахнет маслом, аммиаком, неподмытой промежностью; жидкое мыло, маслянистое, как медовая смола ели, отрицает свою вязкую сущность, облегчая ее нотками лимона. Ты окутан этой повседневной химией, в совокупной искусственности порошков и жидкостей, всякого-разного твердого и газообразного. И вдруг возникает чувство, что тебе приоткрылась изнанка мира – жутковатая, металлическая, бесчеловечная и потенциально смертоносная.
Церковь
glise
Мы вечно хотим подобрать ключи, даже если нет замка. Я всегда любил церкви. Я часто в них бывал в ту пору, когда верил в Бога, бываю и сейчас, когда больше в Него не верю. Нравится мне любопытный протокол их тишины. Нравится и их отгороженность от мира, даже в сердце самых шумных городов. Их стены удаляют – и от времени, и от хаоса вещей, и от безумия людей. Я, маленький, пою в церковном хоре и, пораженный красотой театра мессы, как пишет Жан Жионо, вдыхаю запах горячего воска, стекающего медленными слезами по бокам толстых свечей в серебряных горстях подсвечников, и пары ладана, едкие, густые, вьющиеся, когда они вырываются из кадильницы и успокаиваются потом, поднимаясь робким туманом ввысь, чтобы вопросить невозмутимые витражи. Белые стихари, сутаны, епитрахили, подрясники, кружева, пояса из атласа или из грубой веревки. Накрахмаленные одежды лежат в высоком шкафу в ризнице, он весь блестит от воска и пахнет одеколоном и лавандой. Ткани пропитаны этим запахом. Мы одеваемся молча, под птичьим взглядом тонкогубой святоши, нашей старшей – матушки Юлии. Свечи, воск, ладан, узорные ткани, сотканные набожными руками, каменные плиты, отмытые коленопреклоненными женщинами между двумя «Отче наш», винное дыхание священника после святого причастия, но главное – вера миллионов людей, все это испокон веков источает запах, такой особенный запах набожности, стойкий, глубинный, неистребимый. Этот запах несокрушимой веры в чудесную ложь, который живет уже две тысячи лет, многих в этой жизни поддержал и многих же убил.
Спящий ребенок
Enfant qui dort
Ничто не скажет нам лучше, кто мы есть и кем были, чем запах кожи погруженного в сон ребенка, который лежит, приоткрыв ротик, в своей кроватке, без страха, без боязни, не вздрогнет, потому что знает, что мы здесь, рядом и готовы разогнать потемки, рассеять их, уничтожить, если понадобится. Помню: моя дочь еще совсем маленькая, и я, бывает, прихожу в детскую, потому что мне чудится ее стон или, может быть, плач, и мысль, что она может страдать, пусть даже во сне, так мне невыносима, что я, пробудившись от хрупкого отцовского сна, иду к ней. Она спит всегда на спине, согнутые ручки подняты по обе стороны лица, ладошки раскрыты, пальчики растопырены, щечки такие круглые, а длинные ресницы опущены, точно тончайшие ставенки над прекрасными, невидимыми сейчас глазами. Я долго сижу рядом и смотрю на нее, как смотрят на чудо, не вполне в него веря, не веря до конца, что оно реально и связано с нами узами, которые ничто никогда не разорвет, даже смерть, хоть она и многое может. В полутьме я вижу, как тихонько вздымается и опадает ее грудка, опадает и снова вздымается, и глаз не могу оторвать от этого движения, которое означает жизнь – со всеми ее надеждами и всей ее хрупкостью. Я прикасаюсь к ее рукам. Веду пальцем по щекам, по лбу, по тонким черным волосикам, теплым и шелковистым, наклонившись, бесшумно целую в шейку. Я словно уже почти сам – ребенок, который спит, голенький, прижавшись к матери, тоже голой, на прекрасной картине Густава Климта «Три возраста женщины», запечатлевшей момент обыденной и тесной близости, высокой и животворной человечности, запечатлевшей и сладкую теплоту вспотевшей кожи, и безмятежность самого крепкого сна, того сна, в котором ничего не может с нами случиться. Это – как ослепительное падение в самый естественный из запахов, запах жизни с ее лепетом, когда вся она – мягкость, вскормленная ласками и молоком, улыбками и песенками, руками, что берегут, успокаивают и защищают. Запах начала времен, нежной плоти, кремов и талька. Запах раннего детства, бережно хранимого, кроткого, лепечущего, мирного и безмятежного, которое, увы, покидает нас слишком быстро – когда мы выходим на дорогу, всаем на ноги, начинаем свой самостоятельный путь, и вскоре ничего больше не остается от нас прежних, маленьких, слабеньких, доверчиво спящих в руках и улыбках тех, кто произвел нас на свет.
Хлев
table
Мы живем в тесной близости с животными: кролики, куры, утки, кошки, собаки, гуси, а то и индюки – в садах, во дворах, в кухнях, где подрастают в тепле цыплята и утята. А подальше, но все равно так близко – коровы, свиньи, лошади, овечки и ягнята, козы, ослы, мулы и лошаки, быки и волы, в полях и на фермах. Фермы. Совсем рядом с нами ферма Пуле, на улице Матье. И другие, не намного дальше, Гийомонов, Русселей, Деанов, прямо в городке, в его пределах, внутри него. На улицах натыкаешься порой на коровьи лепешки и конский навоз, их быстро прибирают, чтобы положить под гортензии и розовые кусты. Проходят стада. Зрелище из незапамятных времен. В окрестных деревнях, Соммервилле, Фленвале, Боземоне, Кревике, Макси, Арокуре, животным вольготно. Растут у дорог навозные кучи. Так измеряется достаток – по объему отходов. Смешанный запах соломы и экскрементов говорит о зажиточности и богатстве. Люди и животные вместе. Кормятся. Знаются. Молоко, которое мы пьем, рождается из худшего, что можно видеть, обонять, осязать. Двери хлева для меня подобны церковным вратам: за ними тайна и тишина, едва нарушаемая вздохами и неспешными движениями, теплым дыханием, поэзией ладана – там, сытого пережевывания – здесь. Благоговение. Таинство причастия свершается в полутьме. Пахнет яслями, конечно же, кисловатый душок новорожденного смягчается дружелюбным дыханием осла и вола. В глубине хлева видны лишь спины животных, их мерно покачивающиеся хвосты, длинные хребты с выступающими позвонками, тяжелые бока – дремлющие лодки. Иногда они шевелятся, выпуская наружу теплый дух, пахнущий утробой, кислым молоком, коровьей лепешкой и пережеванным сеном, славный перебродивший запах жизни и усталости, отдыха и дойки, шерсти, навоза и слюны. Тут же, конечно, и мухи, бесстыдные, раздражающие, они жужжат вокруг скотины, привлеченные ее испарениями. Потом вдруг сядут на потолок и замрут. Забежит, мяукнув, кошка, вылакает розовым язычком лужицу молока на земляном полу. Этой сцене и этим запахам тысячи лет, а мы созерцаем ее и вдыхаем их. Как будто человечество вдруг окаменело. Закрыв глаза, мы становимся древним народом Месопотамии, Нила, Аттики.
Эфир
ther
Им убивают котят и усыпляют детей. В легкости его имени таится неуловимый обман, его небесная поэзия смертоносна. Мне пять лет. Я держусь за мамину руку, и мы идем по коридорам Центральной больницы Нанси. Навстречу – медсестры и монашенки в чепцах. Там и сям за открытой дверью палаты видны лежащие фигуры, торчат под неестественным углом перебинтованные руки и ноги. Хрипы. Пахнет лекарствами и мокнущей кожей. Женщина, стоя на коленях, моет тряпкой бежевые и черные плиты. Я увижу ее много лет спустя на картине Сезанна. Мы огибаем ее, как будто играем в классики. Нам указывают палату. Две кровати рядом. Я буду спать с мамой. Счастье. Ближе к вечеру приходят люди в белых халатах, один, самый большой и самый старый, с лицом, как груша – ну прямо Людовик XIV среди придворных, – щупает мне горло, велит открыть рот, высунуть язык, разговаривает мудреными словами со своими подданными, которые стоят вокруг него, глядя ему в лицо снизу вверх. Я сижу на краю кровати, болтаю ногами. Похлопав меня по щеке, он говорит, что я ничего не почувствую. Утром мне не дают завтрака. Забирают меня у мамы. Кладут на кровать на колесиках, и я еду по длинным коридорам, глядя в потолок. Вдруг становится холодно, круглые лампы беспощадно слепят, точно множество арктических солнц, люди в масках и колпаках, этакие белые гангстеры, суетятся у замысловатых аппаратов и начищают стальные инструменты. Я узнаю голос Людовика XIV, который снова говорит мне, что я ничего не почувствую и что я уже большой мальчик. Дважды ложь. Приближается еще один лжец, держа в руках металлическую маску. Он говорит, что сейчас я спокойно усну. А я не хочу спать. Откуда ни возьмись еще один предатель крепко прижимает меня к кровати. Металлическая маска накрывает мое лицо, отрезая меня от мира. Тошнотворный запах резины заполняет рот и ноздри, и сразу следом – пары эфира, я и не знал, что такое бывает, яростно химическое, ледяное! Я стал котенком. Меня хотят усыпить. Насовсем. Я вырываюсь. Зову маму. Мой голос, полный слез, бьется о стенки маски. Отвращение, огромная пустота и тьма. С тех пор я знаю, что эфиром пахнет смерть. И не перестаю готовиться к бесконечному апноэ.
Костер
Feu de camp
Нас разделили на отряды, мы носим форму и каждое утро поднимаем флаги. Слишком широкие шорты, небесно-голубая рубашка, завязанный узлом галстук, свой для каждого возраста. Мы спим в старых бараках, когда-то в них жили несколько лет беженцы из деревни Мартенкур, чьи дома разрушили немцы. По утрам у нас кружки по интересам – лепка, роспись по эмали, плетение, выжигание, моделирование, резьба, макраме. За обедом мы едим промасленную жареную картошку, переваренные макароны, жесткие стейки, склизкую фасоль. Сон после обеда обязателен. Мы притворяемся, будто спим. В коридорах шепчутся вожатые. Потом – прогулка, цепочкой или парами, на голове – завязанный узлами на углах носовой платок, на поясе жестяная фляжка. Идем долго. Перекусываем на обочине дороги среди маков и васильков, на полянке, у ручья или в тени лип на деревенской площади. Едим хлеб с вареньем, фруктовое пюре, сырки «Веселая корова», плиточки твердого, шершавого на вкус шоколада. Отгоняя ос, пьем мятный сироп и лакричную водичку. Дважды в неделю устраивается большая игра. Команды называются именами животных – Бобры, Выдры, Медведи, Волки, Лисицы. Мы ищем следы в лесу Сен-Жан у Эшского брода, находим флажки, разгадываем загадки. Вечерами собираемся все вместе – сумерничаем. Один вожатый играет на гитаре, другой на губной гармонике. Мы поем «Ах, бутылочка, хороша бутылочка», «Сантиано», «Дай-ка хлебнуть ему рому». Иногда разыгрываем пьески, в которых высмеиваем директора или медсестру. Кто-то паясничает, кто-то показывает фокусы, кто-то рассказывает страшилки. Спев последнюю песню, «Свежий ветер, утренний ветер», чтобы успокоиться, мы молча расходимся по дортуарам. Гасят свет. Все в постель. Ночь. Я могу, наконец, поплакать. Да, я ездил в лагерь каждое лето на целый месяц, с четырех до тринадцати лет, и всегда мне там было плохо, как будет плохо и потом, в первые годы в интернате. Время совсем не идет. Какая-то несокрушимая свинцовая плита. Я так скучаю по маме. Я не понимаю, зачем она отсылает меня так далеко от себя. Я до сих пор этого не понял, а у нее спросить не решился. Беда, наказание, но есть здесь все-таки одно большое чудо – костер. Мы готовим его всю смену. Он растет, похожий на стенные часы без стрелок. В ход идет все – ненужные доски, сушняк, старые пни, деревяшки, хворост, собранный в лесу, гнилые балки, отданные крестьянами, сломанные ящики. Сооружение день за днем вздымается к небу, становится Вавилонской башней из чего попало, и мы лихорадочно следим за его ростом. Когда наступает долгожданный вечер, мы одновременно возбуждены и серьезны. Ужинаем молча, потом – это почти церемониал – собираемся по отрядам и размещаемся вокруг костра, усаживаясь по-турецки на траву, которую сгущающиеся сумерки уже «усыпали свежим жемчугом», как мог бы написать Андре Арделле[10]. Мы ждем, чтобы ни один закатный отсвет на западе не нарушил момента, и с наступлением темноты вожатый зажигает факел из просмоленной тряпки. Когда тот занимается огненными языками, он бросает его в костер, и огромный конус загорается весь, от основания до вершины, вздымая рыжее и лимонно-желтое пламя к темному небу. Я готов часами сидеть у этого огня: пусть он греет меня, окутывает, пропитывает, потрескивая, мою кожу, одежду, волосы своим запахом горящего дерева. Я глаз не могу оторвать от падающих поленьев, рождающих тучи искр, красных, золотых, светло-желтых, и пляшущих языков, вырывающихся огненным снопом – такие я увижу много позже а картинах Монсу Дезидерио[11]. И мне кажется, что запах этого огромного костра, с его яростным жаром и раскаленным нутром, вселяет в меня восторг первобытных людей, которым он давал свет и добычу, которые варили на нем пищу, грелись, закаляли свое оружие. Я вдруг смутно ощущаю, под звездами, к которым улетают пламенеющими мухами красные искры, свою принадлежность к очень-очень древнему сообществу. Огонь извивается и пляшет для меня. Мое тело сохранит дикий запах дыма, раскаленных углей и горячей золы, и я буду вдыхать его долго-долго, как принюхивается зверь в надежде на новую жертву.
Сено
Foin
Как надышаться золотистым? Ведь запах имеет цвет. И формы. Лежащее сено, охапки, кучи, стога, вязанки, параллелепипеды и цилиндры, словно выложенные пролетевшим космическим кораблем. Под жарким солнцем, час за часом, уходит влага. Печь под открытым небом жарит мир на медленном огне, не сжигая. Как хорошо читается этот путь в перемещении теней, которые Моне пишет колодцами черноты под лепными боками стогов сена на своих картинах. Механически вращаются лопасти вокруг своей оси, добродушно гудит веялка, сено взлетает, переворачивается и снова ложится на землю, где вдруг обнажаются норки сверчков и медведок, открываются подземные пути полевок. Работают и люди, ведь когда участок слишком крут или узок, трактору не пройти. В ход идут большие деревянные грабли с толстыми зубцами, легкие в руках. Ими перетряхивают траву, которая уже, за один жаркий день, изменила цвет – зелень уступила место бронзе. Взбивают ее, точно густую шевелюру. Заливается в небе жаворонок, рассыпает отливающую голубизной июньскую трель. Прилечь иногда на сено, отдохнуть, поцеловать, кого любишь, вдыхая этот запах прекрасной агонии, дух зерна и пыли, в которой уже засыхают хрупкие травинки, такие, как майский ландыш, называемый еще amourette[12], прилипающие к нашему поту. Раскинуться и уснуть на этой огромной постели, мягкой и колкой, пока ее не собрали, не погрузили, не набили ею под завязку сеновалы и сараи. Работают люди, и среди них – мой отец: я так и вижу его близ Мениль-сюр-Бельвитт, в вогезской глубинке, он насаживает охапку на вилы и поднимает ее без видимых усилий как можно выше, сжимая рукоятку вытянутыми руками, чтобы тот, кто стоит на самом верху уже почти полностью нагруженной телеги, мог подхватить ее и уложить. А позже, в уже не столь добрые месяцы, я люблю пробраться порой, как вор, в огромное, иногда двухэтажное, освещенное лишь светом, просочившимся между черепиц, помещение сеновала на ферме. Вновь найти там эту плененную золотистость. Залезть наверх, под самые балки, и упасть в сваленное сено, как в большие теплые руки – только потревоженный толстый кот порскнет прочь. В пыли, оставленной сеном в воздухе сараев, и на их сквозном полу из широких досок я, вдобавок, в свои одиннадцать лет, делаю новые открытия. В красивейшем ущелье Стретюр, горной долине, местами смахивающей на тирольскую, что соединяет Фрез с Жерарме. Мы, кочевой лагерь, останавливаемся на ночлег, где придется, прося пристанища у крестьян. Спать на сене, среди товарищей, укрываясь вместо одеяла этой легкой сухой травой, полной запахов усмиренного простора, выкопать в ней уютную норку и утонуть, не противясь, в ее бездонном чреве. Увы, через несколько часов я стою, задыхаясь, в ночном холоде, под надменным оком Бетельгейзе и Веги из созвездия Лиры. Что с моими легкими? Их нет. Ловлю ртом воздух, но не могу вдохнуть. Я – как выброшенная на берег рыба. Не могу дышать. Сейчас умру. Я и не знаю, что это – первый приступ астмы, которая больше не оставит меня, неудобная спутница жизни, непредсказуемая и мучительная. Но ей же я обязан, несмотря ни на что, после жестоких приступов долгими безмятежными часами, когда лежишь в постели, вымотанный, ослабший, один, вдали от всех, и в эти часы читать и писать – высшее наслаждение, под стать хрупкому чуду возвращения к жизни.
Навоз
Fumier
Землю надо кормить, если мы хотим, чтобы она, в свою очередь, кормила нас. Раз в два года, в марте, мой отец покупает грузовик навоза у Робера Домжена, крестьянина из Соммервилле, который привозит его сам и сам выгружает на откос за нашим домом. Черная лавина скользит с мягким шелковистым шорохом и замирает, дымясь. На несколько дней наш дом пропитывается животными запахами мочи, экскрементов и забродившей соломы. Все это произвели утробы стада, всю зиму простоявшего в стойлах. Дни прохладные, ночи еще холоднее, и над теплой горой лениво вьются дымки-фумаролы, как будто там, внутри – огонь, робкий, подспудный, делает свое дело, не показывая пламени. Я распахиваю настежь окна, чтобы мощный дух вошел во все комнаты. Он как будто рассказывает мне о моих предках, они ведь почти все были крестьянами, из Лотарингии и Морвана. Отец орудует заступом. Я ношу ведра, толкаю тачку. Куча тает на глазах. Я устал, но горд собой. Насаженный на вилы навоз ложится в разрытую землю, где большие дождевые черви, бесцеремонно извлеченные из своего темного жилища, разматывают, силясь уползти, кольца розовых тел. Отец закапывает ров. Не видно больше навоза, только желтоватые гнилые соломинки торчат кое-где из разрытой земли толстыми белобрысыми волосками. Холод земли, ее плотная сырость, ее тяжелая чернота поглощают органику, душат ее. Запахи смешиваются, уничтожая друг друга. Дымки иссякают. Мы стоим над утробой, бесшумно переваривающей обильную трапезу. И я, протягивая отцу носовой платок в клеточку, чтобы утереть лоб, и наслаждаясь этой минутой – мы, двое мужчин, вместе сделали дело – не удивлюсь, если услышу сейчас из-под земли отрыжку, гулкую, басовитую, как благодарность нам от подземных богов, сытых и довольных копрофагов.
«Голуаз» и «Житан»
Gauloise et Gitanes
Все мы – либо «Голуаз», либо «Житан». Так же, как – либо «RTL», либо «Европа-1», либо «Пежо», либо «Ситроен», либо перно, либо рикар. Старики курят самокрутки, те, кто помоложе – темный табак, а мы, дети – сушеные листья рябины, которую называем курительным деревом и мучимся от нее жестокими поносами. Мой дядя Деде курит «Голуаз». Он работает на соляной шахте в Варанжевиле. Здесь говорят просто «работать на соли», и все понимают. Меня его профессия завораживает, потому что трудится он под землей. «Вот прямо там», – сказал мне однажды дядя, показывая пальцами с зажатой в них тлеющей сигаретой на пол под моими ногами. Кто так обильно вскормлен мифологией, как я, – тот непременно окружит кого-то из родни или соседей, ежедневно спускающихся в Преисподнюю, священным ореолом. Дядя Деде дымит, как паровоз, даром что шахтер. Я всегда видел его с пачкой «Голуаз» в кармане или в руке, с сигаретой во рту, с неизбывным глубоким кашлем. А домик, в котором он живет, номер 34 по улице Луи Бюртена, бывшей Школьной, вдвоем с тетей Жанин, хранит днем и ночью едкую и раздражающую память о темном табаке: мебель, ковры, занавески, одежда, волосы, дыхание, кожа – все пропитано запахом «Голуаз». Я люблю этот запах, потому что люблю тех, кто им пахнет. Когда дядя с тетей приходят к нам выпить аперитив, мама, стоит им уйти, распахивает настежь окна. Пепельница полна до краев, в гостиной вольготно висит клочковатый туман, никак не желая выветриваться. А мне хочется, чтобы эта душа «Голуаз» осталась подольше, потому что она словно дразнит запах нашего дома своим чужеродным присутствием и напоминает мне об этих отрадных часах, когда Толстяк и Уточка – это прозвища дяди и тети – приходят в гости, нарушая течение нашей повседневности, которая иногда кажется мне слишком чинной. Люди этого поколения – подопытные кролики поневоле: они прокуривают свои легкие с завидным упорством, не расставаясь с мягкой голубой пачкой, украшенной галльским шлемом, а на работе, часто сами того не зная, вдыхают высокотоксичные вещества и газы. Дело их, так сказать, табак, и без дурной игры слов. Курильщики «Житан» отличаются от курильщиков «Голуаз». Обычно они из разных социальных слоев. Чиновники, люди промежуточных профессий, мастера, учителя и инженеры курят первые – тоже темный табак, но его дым кажется мне жестче, агрессивнее, он не такой медлительный, он гуще и как-то суше, почти надменный, я бы даже сказал, в сравнении с пухлым, добродушным, симпатично грубым дымом «Голуаз». Пачка из твердого картона, прямоугольная, вытянутая в ширину – «Житан». Мягкая и вытянутая, наоборот, в высоту – «Голуаз». Аббат Тувенен курит «Житан». Одну-две пачки в день. Как и кюре Бастьен, и аббат Сильви-Лелижуа. «Житан» – знак сана. Сигареты, так мне кажется, продолжают магию ладана. Мне нравятся эти священники. Особенно аббат Тувенен. Я его очень уважаю. Вера его истова, но он не носится с ней, как с писаной торбой. Он играет на гитаре. Он молодой. Худой. Простой. Бедный. Улыбается мало и всегда грустно. Я до сих пор часто думаю о нем, хотя видел его в последний раз в 1975 году. Как я узнал из короткого некролога в «Эст репюбликен» несколько лет назад, теперь он курит свои «Житан» где-то рядом с Богом.
Гудрон
Goudron
В тягучие часы лета на узких дорогах среди спелой пшеницы солнце вылущивает из кромки асфальта, между серых камешков, черные, цвета нефти, ручейки, блестящие, маслянистые, липнущие к колесам машин и велосипедов и, уж конечно, к подошвам бродяги. Пахнет дробленым камнем, порохом, камфарной смолой и йодом – несуразность в этих местах, далеких от моря, если, конечно, забыть о том, что миллионы лет назад оно покрывало здесь все, и горы, и долины, а теперь оставило после себя лишь ракушки, превратившиеся в камни, тяжелые и ломкие, которые поднимают на поверхность нематериальным тралом лемеха плугов. Бесконечный день между Арокуром, Бюиссонкуром, Ремеревилем и Курбессо, я гуляю, где вздумается. И счастлив. Или я, дисциплинированный скаут, иду в цепочке по дорогам Мартенкура, Жезонкура, Маме, Рожевиля, Арну, Корсье, подхватывая ритмичные и глупые песни, в которых поется о пиписьках, о деревянных ногах и о том, как правильно ходить. Ручейки гудрона покрыты испариной от жары, сверчки и кузнечики настраивают свои крылышки. Из облаков, белых, круглых, пузатых, им отвечают жаворонки. Начинаешь мечтать о журчанье родника. Высматриваешь вдали, где-то близ Сен-Жана, рощицы, похожие на больших синих овец, лежащих на боку. Дышишь в полные ноздри. Подхваченная ветерком оса вязнет порой в пузырчатых лужицах на плавящемся шоссе. И умирает одна, даже не пытаясь вырваться из ловушки – знает, что это конец. На деревенских колокольнях, расплывающихся в жаркой дымке, часы бьют три, и бронзовое эхо теряется, цепенея, в равнодушно чистом небе. А бывает еще гудрон в железных бочках. Он жидкий. Он ждет рабочих, алжирцев или португальцев, которые черпают его большими ведрами и заделывают выбоины на дороге. Все это сложено возле нашей начальной школы. Мы присматриваемся к содержимому. Цвет и запах лакрицы. Слабо тебе бросить туда камень? Меня провоцируют. Я принимаю вызов. Дураков берут на слабо. Гудрон брызжет черными каплями, красиво. Из бочки течет. Земля в пятнах. Преступление. Я убегаю. Я уверен, что меня арестуют. Прихожу домой понурый. Мама чувствует: что-то случилось. В дверь звонят. Я вижу в окно два кепи. Полиция. Бегу в свою комнату, прячусь под одеяла. Живо представляю себе суд и тюремную камеру. Как страшно бояться! Тебя будто совсем нет. Будь ты проклят. Но я слышу смех. Полицейские – просто сослуживцы отца, зашли поздороваться: маленький Бюртен, который однажды выписал штраф на собственную машину, перебрав аперитивов, и большой Туссо с носом, как у де Голля. Я спускаюсь на цыпочках. Мне еще немного страшно. Как знать? Может быть, это уловка, чтобы наверняка арестовать вандала, испортившего бочку с гудроном. Но нет, фургон уезжает. Пора обедать. Мама уже накрыла на стол. Намыливая руки, я вижу на левой черное пятно. Жирное, липкое, не отмывается, только расползается, словно свидетельствуя, что я виновен.
Виновен.
Розовый песчаник
Grs rose
Низкие вогезские домики в долгих осенних днях, мало света и холод, омытый дождем. Глупый дождь. Назойливый. Ничто его не остановит, ни желоба крыши, ни зонты, мгновенно промокающие на кладбищах, когда мы убираем цветами могилы к Дню Всех Святых. Сель-сюр-Плен. Сен-Блез. Шатас. Объезд наших умерших. Турне хризантем. Мы едем по пустынным долинам, в которых дремлют деревушки у подножия густых лесов из черных елей. Брызжет из фонтанов мутная вода. Красноватая. В кафе приспущены шторы. Никакого движения. И я тоже не смею шевельнуться в доме бабушки Клементины, мамы моего отца – слишком красивое имя для женщины без улыбки, без ласки. Мы сидим в кухне, здесь она принимает гостей, здесь же ест, дремлет, час за часом коротает день и жизнь. Ее комнаты я не видел и никогда не увижу. В последний раз я поцелую ее на смертном одре в доме ее дочери, тети Ненетты, сестры-близняшки моего отца. Мне скучно. И так холодно! В доме не топят. Еще рано. Только начался ноябрь. Падают листья, ложатся на землю под деревьями, точно кающиеся грешники. Маме тоже скучно, она все больше молчит, а отец со своей мамой не обращают на нас внимания, им есть о чем поговорить: наследства, старые обиды, чье-то проданное имущество, сплетни, семейные истории, замешанные больше на ненависти, чем на любви. Я закрываю глаза. Пытаюсь распознать запах этого дома, словно так смогу его полюбить. Сырость, затхлость, плесень, газеты с густой типографской краской, которые не выбрасывают, чтобы было чем подтираться, душок соломы, белье, никогда до конца не высыхающее. Мертвый дым. Черствый пирог блекнет в черной форме. Логово, пещера, да и только. Не хватает лишь мхов, сталактитов, натеков, летучих мышей. Я, спелеолог, ужасаюсь – не дай бог здесь жить! – и все же, все же мне почему-то нравится раковина, вырезанная из цельного куска розового песчаника, этой плоти Вогез, всегда мокрая, потому что из крана, весело журча, подтекает вода. Это все равно что иметь в доме родник, вода как будто сочится прямо из земли. И этот песчаник цвета губ юных девушек, вот так вечно намокая, дарит коснувшемуся его – ласку, а пьющему – запах, почти цветочный, сладковатый, лесной, тонкий, весь – легкость, несмотря на плотную, грузную массу едва тронутого временем камня, и свой возраст, в котором его рождение неотделимо от рождения мира.
Гимнастический зал
Gymnase
В гимнастических залах скрыт недооцененный эротический потенциал. Особенно в стареньких, где пыль и плохая вентиляция, ветхие снаряды, хлорозный свет и обшарпанные раздевалки, и все это вместе, неизвестно почему, создает атмосферу, благоприятствующую накалу любовного желания. Папаша Жорж – наш учитель физкультуры. Мы учимся во втором классе лицея Биша в Люневиле. Он много курит, сам давно уже не бегает, а помещение, которое он делит с коллегами, похоже на подсобку пивной. Я думаю, он досконально изучил вопрос, и его манера держаться «плевать на все» – не последний урок, который он нам преподал. Во всяком случае, некоторые из нас, не из числа, кстати, любимцев хронометра, хорошо его усвоили. Классы в лицее смешанные, но на уроках физического и спортивного воспитания девочки – отдельно, а мы – отдельно. Кружева с холстиной не смешивают. Иногда, однако, мы занимаемся в одном и том же зале. Они в одном углу, мы в другом, по очереди прыгаем через одних и тех же коней, висим на одних и тех же брусьях и кольцах, на канатах, на шведской стенке, падаем на одни и те же маты и кувыркаемся на одних и тех же ковриках. Наши юные напряженные тела то и дело задевают друг друга. Мы смотрим на девочек, которых так хорошо знаем, новыми, девственными глазами. Мы вдыхаем их запах, когда усилие покрывает потом их лбы и подмышки, туманит взгляды томной усталостью, делает движения чувственно-медлительными, а дыхание жарким, будто бы провоцирующим нас. Их щеки рдеют. Девушки в цвету? Нет, девушки в огне, и этот огонь нас воспламеняет. Пусть от папаши Жоржа пахнет пивом, перно и табаком, пусть в зале нечем дышать от запахов пота, ног, немытых тел, пусть со всеми этими ветхими канатами и ковриками – их пористая резина, как ни странно, воняет гуммиарабиком – помещение выглядит каким-то советским, но это нчуть не мешает мне трепетать при виде ляжек Коринны Рему, усеянных с внутренней стороны легчайшим сфумато волосков, золотисто-рыжей грации Кароль Равайе, незабываемой, не по возрасту развитой груди Мари Марен, гибкого, как спинка выдры, лобка белокурой Изабель Леклерк, который коротенькие темно-синие шорты не скрывают, а скорее подчеркивают. Я упиваюсь. Коплю все: хихиканья, касания, разрезики, белый или розовый промельк трусиков, выглядывающих порой, когда раздвигаются «ножницами» ноги прыгуньи в высоту или расходятся ягодицы в шпагате, согнутые коленки взбирающейся по канату – вот она прильнула к нему, обняла и продвигается по-змеиному, выгнув спину, тихонько покряхтывая, вверх, к небу гимнастического зала, а я слежу за ней, раскрыв рот, не в силах оторвать глаз, в мозгу мутится от прилива гормонов, член тверд, как римский мрамор. Гимнастические залы остались для меня старыми товарищами. Они знают. Есть такие, кто, входя туда, зажимает нос и морщится. Я же закрываю глаза. Я ищу девушек. Моих девушек. Я, если честно, до сих пор слышу, как они смеются, бегают, поддразнивают и подбадривают друг друга, но больше их не вижу. Они скрылись за поворотом времени, а я – я удаляюсь.
Жареное сало
Lard frit
В глубине нашего сада, возле курятника, мой отец иногда устанавливает самодельную коптильню: свернутый цинковый лист, увенчанный сверху трубой. Он подвешивает внутрь длинные полоски сырого сала и засыпает вниз еловые опилки, которые горят медленно, без огня, с голубоватым дымком, вроде того, что поднимается от костров дровосеков в осенних ельниках, окутывая верхушки больших деревьев. Вогезские леса, вогезская шутка: «Кого ты больше любишь, папу или маму?» – «Я больше люблю сало!» Нужно много дней, чтобы хорошенько прокоптилось. Отец снимает полоски – они скрючились, затвердели, сменили свежий бело-розовый цвет на глухие темные оттенки, шкурка стала кожей, а если поднести их к носу, запах мяса смешивается с диковатыми ароматами смолистой хвои и дыма. Взять острый ножик, разделочную доску, отрезать от шмата сала два ломтика толщиной в полсантиметра, разогреть сковородку, бросить на нее маленький кусочек масла, подождать, пока растопится, и положить ломтики плашмя. Музыка и наслаждение. Кухня полнится аппетитным потрескиванием, а от сковородки валит густой дым, пахнущий горячим жиром, поджаренным мясом, сосновыми шишками, паленой шерстью. Сало преображается на глазах, жирные части становятся прозрачными и брызжут соком, а постные прожилки меняют цвет – темно-розовый, фиалковый, красный до сиенской охры, если продлить жарку еще на несколько секунд. Снять с огня. Положить два ломтика на деревенский хлеб. Спрыснуть бутерброд кипящим жиром. Съесть горячим. Это готовит мне мой отец. Любая диета осудила бы этот рецепт, а жаль. Ведь это один из путей к минутам полного счастья. Запах жареного сала и жареного лука или оба вместе вызывают у меня немедленное слюнотечение и блаженство, продолжающееся, когда я ем. Это и не еда, а так – перекус. На скорую руку, без затей, без церемоний, около 10 утра – будто показать нос условностям. Например, по возвращении с рынка, в четверг, когда, задержавшись у открытого фургона папаши Хаффнера, фермера-колбасника, выращивающего свиней в Монтиньи, недалеко от Донона, совсем как в детстве – у витрины магазина игрушек перед Рождеством, я выкладываю на кухонный стол мои сокровища – галантин из голов, кровяную колбасу, белую колбасу с грибами, копченое сало, свиное рыло, сардельки, сосиски, ножки в сухарях, окорок, филейчики – и, отдавая должное жертвенному животному и жрецу, беру сало, нюхаю его, отрезаю два ломтика, достаю хлеб, сковородку, все, как делал мой отец для меня, и со стаканчиком сантене от Боржо готовлюсь отслужить ту мессу, от которой не откажусь никогда в жизни.
Овощи
Lgumes
Звякнет колокольчик, стоит только толкнуть дверь лавки в конце улицы Жанны д’Арк, недалеко от пересечения с улицей Матье. И тут же попадаешь в огород, втиснутый в пространство размером с носовой платок. Много народу здесь не поместится. Да, впрочем, толпы никогда и не бывает. Меня посылают сюда весной за пакетиком семян или за четвертушкой тыквы в сентябре, а то и за пучком порея, если его не хватает, за тремя пупырчатыми тыковками, чтобы навести красоту на буфете, за молодой морковкой, связанной в пучки веревкой из рафии – это когда запаздывает наша, – за салатом, еще мокрым от росы. Здесь пахнет супом, но до того, как он сварился, когда руки хозяйки собрали все овощи, очистили их от землистой кожуры, порезали, высвободив их дух, их соки, дыхание репы и порея. Удивительная похлебка, холодная и без мяса. Лавка Венсанов – большой котел, под которым еще не развели огонь. Мать – сгорбленная старушка, маленькая безобидная ведьма, серая землеройка, такая худая, что жуть берет, и морщинистая, как слоновья кожа. Сын – огромный, кровь с молоком, такой красный, словно его вот-вот разорвет. Так, собственно, и случится однажды. У него лицо Минотавра. Хорош, как будто пришел прямиком из мифов. Жаль, что у него два глаза, а то был бы Полифемом. Я узнаю его в иных рисунках Пикассо, написанных одним росчерком, исконных и примитивных. Говорят, он пьет. Часто торчит в «Двух Колесах» и в других бистро. К ночи засыпает, где упадет, прямо на земле. И что с того? Все, что продается в лавке, рождено от земли и от их четырех рук, рабочих, растрескавшихся, от их мужества и терпения. Их огород – длинные черные делянки за кладбищем. Овощи растут рядом с покойниками, которые дарят им немного своей памяти: картошка, капуста – красная, белая, савойская, кочанная, брюссельская, свекла лиственная, свекла обычная, артишоки, репчатый лук, спаржа, помидоры, репа, сельдерей, лук-шалот, чеснок, щавель, редис черный и белый, салат-эскариоль, салат-латук, салат-ромен, цикорий, эндивий, рапунцель, всевозможные травки букетиками в аметистово-синей вазе, кервель, петрушка, эстрагон, тимьян, розмарин, лук-резанец, шалфей, чабер. Натюрморт – nature, но не совсем morte[13], по-фламандски щедрый и душистый, большая корзина живых и сказочных запахов, меняющихся по ходу смены времен года до осенней сахаристой роскоши: к овощам присоединяются фрукты, и те мало-помалу уступают им место. Когда мамаша Венсан умрет, сын переживет ее ненадолго. Он рухнет в одночасье, как поваленный дуб. Лавочка еще несколько месяцев будет хранить свою витрину, заставленную растениями в горшках, которые со временем засохнут и погибнут, потому что некому больше их поливать. Продается. Куплено. Новые владельцы заложат витрину кирпичной кладкой. Не видно больше ничего, что было. Большое ателье Буссака напротив, где работало больше тысячи швей, теперь превращено в ряд разгороженных квартир с садиками, в которых красуются стол, четыре пластиковых стула и барбекю. А чуть повыше – киноконцертный зал имени Жанны д’Арк, закрыт окончательно и бесповоротно. «Лицо города меняется, увы, быстрее, чем сердце смертного». Бодлер, снова он. Решительно, понимавший все о вещах и людях.
Дом детства
Maison d’enfance
Я сижу за кухонным столом, сегодня у нас 17 ноября 2011. Температура за окном – несколько градусов выше нуля. Моросит. Серенький день, я люблю такие. Через пару часов стемнеет. Дом пустует уже больше двух лет. С тех пор, как умер мой отец. Из дома вынесли часть мебели, вымыли полы. Повсюду еще валяется полно вещей – тут и мебель, и открытые коробки, кучи посуды, пластиковые мешки, которые начали чем-то наполнять, да так и бросили, лекарства, бумаги. Кровать отца исчезла. Он сломал ее, когда упал однажды утром, встав выпить кофе. Брошены щетки и швабры. Пылесос как будто скучает, один заняв всю гостиную. Дом похож на покойника, его уже начали готовить к похоронам, да и оставили, без особой причины, не то что побрезговали или забыли, а просто нашлись другие дела. Я долго не решался прийти писать этот текст сюда, за этот самый стол, где ребенком делал уроки, в эту кухню, которая мало изменилась с тех пор, как мы здесь ели, играли в монополию, в желтого карлиа, в лошадок, в бакалавров с моими сестрами Брижит и Натали и родителями. Сегодня в этом доме очень холодно. Он не отапливается. Никто здесь больше не живет. Это дом умершего, и моему отцу в его могиле, по другую сторону шоссе, меньше чем в двухстах метрах отсюда, должно быть, не намного холоднее, чем мне. Подняв взгляд, я вижу за окном пейзаж моего детства. Сады на месте, но теперь они предоставлены сами себе. Тех людей, что усердно их возделывали, давно уже нет на свете. Я произношу вслух их имена, чтобы они не канули в забвение: большой Окар, мадам Каур, мадам и мсье Монен, мадам и мсье Эрбет, мсье Мелин, мсье Лебон. Наши соседи – Моретти, Клоды, Рипплинги, Фино. Вот. Все тот же пруд, луга, течет Санон, Большой канал, а за ними, вдали – Рамбетан, исчезающий в тумане и в небе. За узкой дорожкой кто-то оставил трейлер. Неуместное бело-желтое пятно. Интересно, какого путешественника он здесь дожидается? Но быть может, его забыли нарочно, ведь бывает же, что хозяева пытаются потерять свою собаку, когда она им надоест. Я обхожу комнаты. Вошел я через гараж, отомкнув три засова, которые отец в свои последние беспокойные дни поставил на дверь. Я узнал запах бензина, сточных труб и домашней мастерской, масла, кожи, ремней. На верстаке – написанная прямо на дощечке фраза Эйнштейна «Порядок – добродетель посредственностей», которую он сделал удобным для себя девизом. Вот я и снова у себя, на знакомой территории. Но больше – ничего. Поднимаюсь наверх, кухня, спальня, гостиная. Открываю ставни. Иду на чердак, заглядываю в комнату старшей сестры, и вот она – мансарда, которую отец оборудовал, когда мне исполнилось 13 лет. Моя комната. Моя обитель, которая после моего ухода отошла младшей сестренке. Стены и потолок обшиты еловыми досками, из них же – письменный стол, зеленый ковер на полу. Мне здесь нравится. Напоминает приюты в горах, о которых я мечтал и в которых буду часто бывать позже. Здесь я познал первую эрекцию. Здесь впервые дрочил, представляя себе груди учительницы немецкого в четвертом классе. Здесь выкурил первую сигарету. Здесь смотрел год за годом по старенькому черно-белому телевизору киноклуб Клода-Жана Филиппа и, стало быть, здесь, под этой крышей встретился с Жаном Гремийоном, Жюльеном Дювивье, Эрнстом Любичем, Фрэнком Капрой, Федерико Феллини и другими. Угрюмый холод пропитал все комнаты, и я глубоко вдыхаю, сморкаюсь, чтобы прочистить нос, закрываю глаза, но не чувствую никакого запаха, никакого. Ничего. Дом больше ничем не пахнет. Отец ушел и унес с собой то, что было его знаком. Он умер, и запах дома умер вместе с ним. Мне холодно. В первый раз я пишу здесь после стольких лет. Прошло, должно быть, лет тридцать. В первый – и в последний. Скоро дом продадут, отремонтируют, перестроят. Здесь будут жить другие люди – со своей жизнью, своими мечтами, горестями, тревогами и покоем. Они будут любить друг друга, спать, есть, мыться, ходить в туалет, мастерить, плакать, смеяться, растить детей. Мало-помалу дом, как податливый воск, приспособится к ним и запомнит их запахи. Я знаю, что, проезжая мимо на велосипеде или в машине, не стану на него смотреть. Просто не смогу. Направляясь в Соммервилле, предпочту повернуть голову направо, к кладбищу, к умершим, к отцу. Грустно, когда ничего больше не чуешь в воздухе. Грустно здесь, в холодном доме, который потерял свой запах, как Петер Шлемиль – свою тень. Я думал, что расчувствуюсь. Даже расплачусь, у меня ведь вообще глаза на мокром месте. Но нет. Я просто удивлен. Недоумеваю. Не знаю: я ли изменился или дом. Но мы теперь друг другу – как чужие. В конце концов, я сам виноват. Никто не заставлял меня сюда возвращаться. Сейчас я уйду. Закрою ставни, двери, погашу свет, запру все три засова. Я вернусь в жизнь. Здесь мне нет больше места. Сейчас я это понял. И чихнул. Если побуду еще, то простужусь. Как у нас говорят, насмерть.
Смерть
Mort
Смерть долго оставалась домоседкой. Люди умирают у себя дома, лежат там несколько дней, а потом выходят за порог в последний раз. Смертное ложе зачастую – то самое, где человек родился, видел сны, любил, провел все свои бессонные и безмятежные ночи. Первого покойника я увидел в 14 лет. Вернее, покойницу – мою бабушку со стороны отца, которую я не очень любил. Наверно, поэтому вид распростертого тела и поджатого рта меня мало тронул. Помню, мне было скорее интересно. Еще немного – и я наклонился бы поближе, поднес бы к пергаментной, воскового цвета коже лупу или линзу микроскопа. Только коснувшись губами ее щек, я вздрогнул. Смерть настигла меня. Лицо холодное и твердое на ощупь. Выглядит как человеческое, но эта жесткость, это равнодушие – камень. От страха я пролил несколько слезинок, которые, наверно, истолковали иначе. А не так давно уже и на щеках моего отца мне пришлось запечатлеть поцелуи. Мои четырнадцать лет далеко, я уже не считаю покойников. И больше не боюсь. Отец лежит в морге, который, впрочем, теперь называется не моргом, а «похоронным бюро» – наша эпоха любит лгать. Бархатные занавеси, приглушенный свет, негромкая музыка, цветы. Запах смерти другой, не тот, что в комнате умершего, где его еще можно узнать, вдохнуть. В морге все мертвецы одинаковы. Все пахнут туберозой в цвету, кондиционированным воздухом, косметикой. Мой отец, как и другие до него, как мой дядя Деде, стал советским. Брежневским. Я едва его узнаю. Отретушированное лицо для официального портрета и мавзолея. Желтое. Напудренное. Разглаженное. С причесанными бровями. В общем, ложь и ложь. Целуя его, я больше не нахожу его запаха. От него пахнет женщиной и лекарством. Своеобразная смесь формалина и рисовой пудры, тонального крема и камфары. Похоронное бюро – это одновременно будуар кокотки времен Второй империи и филиал фармацевтического предприятия. Смерть путает карты. Она даже забегает вперед. Упреждает нас. Моя мама-то свою подготовила. Заранее оплатила. Предусмотрела все до мелочей. Служащий давеча излагал мне это по телефону. Про цветы, про музыку, про гроб, про сохранность тела, ведь неизвестно, в каком состоянии найдут мою маму. Мама стояла рядом с ним, еще живехонькая, и слушала, как он говорит про ее будущий труп. Я был зажат. В пробке. А они вдвоем пили шампанское. Он принес бутылку, чтобы спрыснуть контракт. Решительно, смерть продумывает все-все. Она умеет жить. Идет в ногу со временем, меняет туалеты. Не чурается новизны. Мы ее понимаем. Ей тоже, должно быть, скучно. Всегда выигрывать – какая же это игра?
Мюнстер
Munster
Нелегал. Изгнанник. Зимой и летом за окном, будь то снег или дождь. А на вид – ничего особенного: маленький, круглый, мягкий, то ли желтый, то ли оранжевый, подернутый местами белой или серой плесенью. Разрезанный, открывает поначалу меловую мякоть бледных нормандских утесов, которая легко крошится под ножом. Со временем размягчается, даже течет, становится охряным и блестящим, а корка сморщивается, точно щеки чересчур напудренной дамы. Моя мама не терпит его присутствия в холодильнике и ужасается, когда отец, у которого это любимое лакомство и прустовское пирожное «мадлен», тайком, как партизан, приносит в дом головку. «У тебя нет вкуса», – говорит он ей. А она ему отвечает: «Ты прав, иначе бы я не вышла за тебя замуж!» Мама не любит, а значит, и мы с сестрами тоже. Вот почему я так нескоро распробую этот сыр, как и козий, и бараньи мозги, и ножку – распробую и полюблю. Я слепо следую маминым вкусам и осуждаю вместе с ней извращенные вкусы отца, любителя вонючей еды. Я изображаю ужас. Зажимаю нос, гримасничаю, делаю вид, будто меня сейчас вырвет. Мюнстер стареет за окном, бездомный клошар, притулившийся у открытого ставня под надменным оком термометра. Когда в конце обеда отец встает, чтобы пригласить его к столу, мы выбегаем из кухни с громкими криками, как те глупые несговорчивые парламентарии, что иногда шумно покидают зал заседаний Национального собрания. Так что отец в одиночестве окутывается парами «этого» – неназванного, неназываемого, чему нет места ни в доме нашем, ни в языке, и о чем легенда, распространяемая его недругами, говорит: мол, для остроты на него мочатся, что неправда, ведь откуда возьмется у сыровара столько мочи? Выгребная яма, навозная жижа, дерьмо, пердеж, прокисший крем, гнилой зуб, нюхать его невыносимо, но во рту он отдает все самое лучшее, что имеет. Вдохнешь его – приговор, попробуешь – помилование. Под наружностью Квазимодо, гадкого утенка, паршивой овцы он – принц, но соизволит явиться, только когда его захотят оценить. Как часто мы ошибаемся – и в сырах, и в людях.
Зонтичные
Ombellifres
Ну вот и святилище. Стало быть, подобает склонить голову. Как перед королевой. Королевой лугов и полей, буйного июньского разнотравья. Какой запах взять с собой на необитаемый остров, где ничем не пахнет? Конечно, все те, о которых я пишу, но особенно один – тот, что непостижимыми узами связывает меня с познанием мира. Детство мое прошло в постоянном ослеплении: природа сопровождала каждую из моих метаморфоз, открывая мне тайны. Тайны птиц, рыб, грызунов, цветов, деревьев, скал, вод. Тайны дней и времен года, облаков, метеоритов, туманов и созвездий. Сколько надо узнать, сколько получить! Я впитываю. Закрыв глаза, иду по некошеному лугу. Конец июня, дождливо и тепло, почти жарко. Школа позади. Большая теплица накрыла поля, храня в своей испарине-кормилице берега Санона и Рамбетана, первые фермы Соммервилле, крыши которых угадываются вдали. Солнце за легкими облаками не хочет клониться к закату. Мокра уже высокая трава. С каждым моим шагом она сохнет, обтираясь о мои ляжки и оставляя на них теплые капельки, которые мягко стекают в сапоги. Я глажу траву руками. Закрываю глаза. Не хочу ничего видеть, только чуять. Вода. Весна. Запахи сырой земли, которой не терпится принять молодую зелень. Я ищу. Я знаю: они совсем близко. В который раз уже я хочу стать жертвой их чар! Это сирены полей. Они манят прохожего своим зеленым укропным духом, и бедняга потом и думать забудет обо всех других травах, ибо его не отпустит их тминно-пряный аромат, в котором можно распознать редкие приглушенные нотки аниса и гвоздики. Зонтичные, ombellifres. Их имя, такое женское и так резко заканчивающееся мужским слогом – сезам этой сказки. Я шепчу его на ходу. Повторяю. Ombellifres, ombellifres. Высокая головка, увенчанная маленькими цветочками, словно уже собранными в букет – эгретка модницы, которую я увижу позже в опаловом стекле и рыжих инкрустациях Эмиля Галле[14], а запахи ее разматываются в воздухе, точно шнуровка тех замысловатых корсетов, в которые были закованы когда-то нетерпеливые тела молодых девушек и более тяжелые, томные, упоительные тела их матерей.
Штаны для рыбалки
Pantalon de pche
Корочка хлеба, агатово-твердая в середине, но крошащаяся по краям, коротенький обрывок черного шнурка, сморщенный и ломкий, оказывающийся при ближайшем рассмотрении высохшим тельцем земляного червя, щепотка глины, превратившейся в пыль, конфетка-драже, растаявшая и снова затвердевшая, чья шоколадная глазурь из коричневой стала серой, крышечка от пивной бутылки, скомканный носовой платок с прилипшими к нему рыбьими чешуйками, утратившими перламутровый блеск, початый моток лески – выдерживает 800 г, дюжина маленьких свинцовых грузил, пробка от масла – красно-желтая, поломанная, завернутые в фольгу остатки бутерброда с ветчиной, на диво сохранные, хоть и несъедобные, конверт со счетом «Электрисите де Франс» и квитанция об оплате, которую я так и не отправил, несколько мертвых личинок – продолговатые, темные, затвердевшие, они похожи на мышиное дерьмо, три жвачки с хлорофиллом, треснувший тюбик от лекарства, рулончик розовой туалетной бумаги, «Государь» Макиавелли в старом школьном издании, простой карандаш, длиной сантиметра три, весь искусанный, камень величиной с утиное яйцо – совершенно плоский, идеальный для пускания «блинов» по воде, список покупок: «Макароны, сливочное масло, салат-ромен, спички, сироп, 3 свиные отбивные на косточке, лампочки 60 ватт, соль для оттаивания, не забудь яйца!» – уже не помню, купил я все это или нет, резинка, оберточная бумага из-под наживки «Шарло», сохранившая анисовый запашок. Инвентаризация закончена. У штанов четыре кармана спереди, просторных и глубоких. Цвета у них нет. Наверно, давным-давно, от рождения и в молодости, они были цвета хаки или салатового, хотя салатовый, кажется мне, не очень подходит штанам для рыбалки, но, помнится, на рыбалку я носил их не всегда, это стало для них второй жизнью, чем-то вроде активной пенсии или поздней профессиональной переориентации. Они все в безобразных пятнах неизвестного происхождения и вообще грязные. С чего бы им, впрочем, быть другими-то. К тому же они еще и подмерзли, потому что я их не стираю и держу в неотапливаемой сараюшке в глубине нашего сада. Когда я влезаю в них после нескольких месяцев летаргии, они жесткие, как плащ бретонского моряка, и в этой их несгибаемости мне порой чудится упрек. Но я люблю их такими – неподатливыми, нестираными, набитыми черт-те чем, свидетельствующим одновременно об их предназначении и о рассеянности хозяина. Кто-то может подумать, что они воняют. На самом деле – ничего подобного, и мне самому это странно, если учесть, что им довелось пережить по моей милости и что в них можно найти. Мне как-то случилось даже забыть в кармане дохлую рыбу. Я нашел ее через несколько недель, высохшую и почти ничем не пахнущую, с потухшими глазами, похожую на кинжал. Так чем же пахнут эти рваные, штопаные, потертые, набитые всевозможным хламом штаны? Это удивительный дух мукомольни, подсобки мельницы, размолотого зерна и отрубей. Но настоящий их запах другой – запах счастливо заходящегося сердца. Запах простора, жизни без границ, свободы, вдали от всего, от всех, на берегах речек, в таинственной беседе с водой и ее зеркалами, с ее глубинами, эхом отвечающими моим собственным глубинам. То мутным, то прозрачным.
Бассейн
Piscine
В холодный зимний день, часов в пять, когда дневной свет уже отступает и растворяется во взвеси опилок и пепла, вдруг хочется пойти в Круглый бассейн Нанси-термаль. Проходишь стеклянные двери, и влажность с серным душком окутывает тебя с головы до ног всеобъемлющим болезненным поцелуем. Покупаешь билет у кассирши, сидящей в стеклянном аквариуме, и невольно вспоминаешь о горькой участи золотой рыбки. Идешь по узкому коридору и слышишь гулкие отзвуки под куполом, далекие и очень легкие, а еще – голоса, не такие, как в обычной жизни, и плеск воды под руками пловцов и играющих детишек. Входишь в кабинку. Одну за другой, словно кожи, снимаешь слои одежды, вешаешь на вешалку. На улице мороз или снег, а ты голый. Что-то в этом есть шаловливое, этакое противотечение, дарующее скромное чувство свободы и фрондерства. Натягиваешь плавки и выходишь через другую дверь, ибо кабинки здесь – пограничная зона без таможни между двумя очень разными странами: одна, выложенная плиткой, – темноватая и сухая, другая – текучая, полная света, льющегося с высокого стеклянного потолка и касающегося голубой воды, отливающей зеленым, бежевым и серым по краям бассейна, под балюстрадой из огненного песчаника, добываемого в Рамбервилле. Изгиб и исцеление. Потому что бассейн круглый, а вода в нем термальная. Здесь не столько плавают, сколько плещутся. Смеются, болтают, щебечут. Здесь встречаются два края жизни: старики и еще – младенцы, познающие эту жидкую теплоту и ее ласку на руках матерей. Воздух как будто шелестит в этом нефе без алтаря, а слова и лепет вздымаются из огромного круглого чрева, в котором плавают люди, грезя о невидимом источнике, о земной расщелине, из которой бьет эта благодатная вода с лекарственно-гнилостным душком, чуть раздражающим капелькой хлорки – она пьянит, отгоняя чувство дремоты. Здесь всегда теплее, чем в других бассейнах, и можно плавать подолгу, не боясь замерзнуть, пребывая в самом сердце воды, в относительной невесомости, где душе легко воспарить, предавшись отдохновению, мечтам и смутной тяге к сочинительству. Нанси забыт. Ты уже в Будапеште или в Праге, где-то далеко в сердце Европы, и в другом времени. Быть может, совсем незадолго до большой бойн, еще в эпохе королевских семей и фиакров, и в абразивных парах воды можно дотянуться рукой до игроков в шахматы и пузатых курортников, рассуждающих о Тройственном союзе, покуривая «тоскани».
Писсуар
Pissotire
Писсуар нынче придется еще поискать. В городах Франции давно отменили право мочиться бесплатно. Некий столп градостроительства вспомнил рецепт императора Веспасиана. Мочеиспускание вновь обложено налогом, и надо бросить монетку, которая, конечно же, не пахнет. К тому же эти безобразные автоматические кабины, двери которых закрываются за вами с рыком гильотины, не имеют ничего общего с отхожими местами, украшавшими прежде парки, скверы и тротуары. Уединение в них драматично. Ты закрыт, не видишь дневного света, не слышишь посвистывания соседа, пристроившегося по тому же делу. А писсуары нравятся мне своей допотопной архитектурой – из кованого железа, тонкие, почти светски щеголеватые, сплошные мягкие изгибы или каменные, толстостенные, иногда из грубого бетона, зато надежные и нерушимые. Мочишься в них и слышишь шаги прохожих. Слышишь шум города, покинутого на минутку. Перебрасываешься с кем-нибудь парой слов. Некоторые изливают здесь еще и душу – кто в недвусмысленных, кто в маловразумительных граффити. Запомнилось, в частности, таинственное «Бубенчик, твоя россыпь моя». Иные назначают друг другу свидания, кадрятся, иногда даже занимаются любовью, яростно и поспешно. Это один из аргументов благонамеренных умов для закрытия писсуаров. Бьющие оттуда запахи меня не смущают, как и грязь внутри. Ведь, входя туда, прекрасно знаешь, что идешь не в цветочную лавку. Застарелая моча, экскременты, крезол и жавель – миазмы, выражающие весь наш жалкий удел. Здесь получаешь урок морали с минимальными издержками. Вдыхать все это – акт смирения и покаяния. Наш мир мечтает быть ничем не пахнущим, стало быть, обесчеловеченным. В предшествующие нашему века пахло все – и дурное, и хорошее. Мы объявили на запахи охоту, истребляем запахи наших тел, запахи наших городов, как преступников, слишком часто напоминающих нам, что наши выделения портят воздух. Помню, мальчишкой я захожу в уличный писсуар – там воняет. Я не удивляюсь и не смущаюсь, вовсе нет. Это зеркало, особенное, чуть кривое. Я узнаю, кто я есть. Иногда там вдобавок храпит клошар, наполняя тесное пространство запахами дрянного вина, немытого тела и черного табака. Я представляю себе, что это спустившийся к людям бог, замаскировавший свою истинную суть под лохмотьями. Превращался же Зевс в лебедя и в быка. Так почему бы не встретить его под личиной бродяги, на грязном полу уличного писсуара, блаженно храпящим в унисон с гудением мух? Но теперь мы ведь упразднили и богов.
Гроза
Pluie d’orage
Стукнуть кулаком по земле, как стучат по столу. Уже так давно назревает разрыв. Шли дни за днями, вязкие от нависшего неба и свинцовой жары, исчез в дымке горизонт, обессилел ветер, нервничают животные и люди. Даже ночь не приносит прохлады, изнемогая, как и день, под шкодливыми щупальцами влажности, вольготно, точно у себя дома, расположившейся повсюду и в любой час. Открываются настежь окна – без толку. А потом вдруг, за полдень, небо на севере, в стороне Сея, как будто натягивается и скрипит. Видны вспышки, еще приглушенные, словно какой-то шепчущий апокалипсис. Внезапно темнеет. Мне вспоминаются Страстные пятницы, когда мы всматривались в тучи: как-то они помянут Распятого на Голгофе? Грохот, свет, ярость. Топор молнии обрушивается на иву у пруда. Когда только успела?! Дерево расколото надвое, трепещет, обнажив белую плоть сверху донизу, словно светлое бедро выглянуло из разорванного чулка. Снова молния, на триста метров левее, ударила в опору электропередачи. Истерические зигзаги. Эфемерный автограф артиста-мегаломана. Молодые телки на лугу возле Пуле, сбившись в кучу, кидаются всем скопом к реке, но далеко не убегают – тупо останавливаются как вкопанные на косогоре, и больше ни с места. Шелест. Нарастающий. Это дождь, он уже накрыл полосатой завесой высокий берег Рамбетана и бежит дальше поднимающимся приливом, окутывает рощицы у Большого канала, заливает поля, подбирается к нашему дому, плещет в садах за ним. Кот ныряет под плоский камень, подпирающий дверь крольчатника. Падает капля, другая, первыми приглушенными нотами, возле курятника. И вот уже главные силы – частое косое войско безжалостно рубит лепестки последних тюльпанов, рвет нежные листочки вишен, глумится над пионами, заставляя склонить сливочные головки и прибивая их к земле, усеянной миллионами крошечных, величиной с ноготь, кратеров. Первобытная сеча. Обстрел. Водопад. Вода рассекает воздух, освежая его. Пасть чудовища дышит нам в лицо жарким дыханием тропиков. Крошечные речки катят свои бурые воды по аллеям и окутанные паром моря образуются у корней малинника. Чуть-чуть знобит – и поневоле улыбнешься, вдыхая здесь, где не достанет тебя гроза, дух этой сечи: перегной, болото, торф, соки растений, сладость венчиков лилий, чьи лепестки от слез выглядят как лохмотья, шерсть потревоженных животных, хором мычащих вдали, суп из земли, взболтанный трепетом зеленой лаванды, которая запахла, раззадоренная грозой, невесть откуда взявшаяся смола… и ветер, наконец-то налетев, берет свое, перемешивает все это с последними каплями дождя и гонит к востоку, где еще тишь да гладь в этот час, вороха клочковатых туч и раскаты грома.
Рыба
Poisson
Гольян. Пескарь. Линь. Голавль. Уклейка. Подуст. Сом. Форель. Карп. Лещ. Окунь. Судак. Щука. Язь. Красноперка. Тело рыбы гибкое, гладкое, содрогающееся, точно от электрических разрядов. Вода вливается в него и мягко выгоняется слизью, оставляющей в руке рыболова запах родника и кресс-салата, свежести и сладковатой ракушки, водорослей и морского простора, даже если эта рыба плавает в пресной воде. Надо хоть раз вдохнуть этот запах, чтобы чуть-чуть приблизиться к тайне рыбалки. Вот ты сидишь на берегу – и вдруг взмывается над водой бьющееся тельце пойманной рыбы! Усмирить ее. Не слишком крепко сжимая пальцами, уложить, если нужно, на траву, отцепить как можно осторожнее тонкий металлический крючок от ее раскрытого рта. На вас смотрит круглый глаз, окаймленный золотом. Он осуждает вас, он полон укора. Блестит, как и вся рыба – драгоценный камень, да и только. Рыба – такая утонченная, изысканная в красновато-золотых бликах, в причудливых переливах зеленого, голубого и серого. Много лет я мечтал об этой встрече и об этом запахе. И все никак. Я часами сидел, так и не поймав ни одной рыбки, на берегу Мерта, Малого канала, пруда Понсе или у Горловины на Саноне: из этой большой сточной трубы вытекала кровь с боен, расположенных выше по течению, в зданиях которых теперь расквартирована пожарная часть. Густая кровь быков, лошадей и свиней, ярко-алая или бурая, текла в реку, окрашивая воду на несколько метров. Карминно-красные облака клубились, постепенно рассеиваясь в зеленоватом течении. Рыбы плавали в крови убиенных и лакомились ею. В дни больших забоев место здесь дорогого стоило, и надо было встать спозаранку, чтобы занять территорию, где закинуть удочки. Здесь-то я и поймал наконец первую плотву – красненькую, как у нас говорят. Плавники – киноварь. Гибкая чешуя. Запах водорослей и глубины. Первое чудо. Поэма влажной чешуи. Серебряная рыбка, которую я долго, с бьющимся сердцем, нюхал, как зверь обнюхивает другого зверя, без стеснения и стыда.
Мазь
Pommade
Мое детство – сплошные болезни. В другие времена из меня, наверно, получился бы очень миленький покойничек, едва крещеный и сразу же похороненный в тесноте белых могил с гипсовыми ангелочками на нашем кладбище. Я выжил благодаря успехам медицины. Знал, какой век выбрать. Я часто бываю у доктора Иоахима Мейер-Бисха: у него красивое лицо мыслителя, серьезные очки, а передние зубы чуть приподнимают верхнюю губу, как у чудесного актера Жана Буиза, с которым я незнаком и до сих пор об этом жалею. В приемной его кабинета уютно. Мне здесь нравится. Кожаные кресла липнут к седалищу. На полках только книги с непонятныминазваниями. Невидимое радио играет симфонии и сонаты. Его руки щупают мой лоб, живот, грудь. Он слушает сердце и смотрит горло, но никогда не трогает мои яички, не то что врач с работы отца, который проверяет, могу ли я ехать в летний лагерь. В этом возрасте очень важно, чтобы яички опустились туда, куда им положено, иначе в лагерь нельзя. Родителям возразить на это нечего. У доктора Иоахима Мейер-Бисха немецкое имя, но он совсем не страшный. Ничего общего с немцами, которые убили братьев и кузенов моего деда в 1915-м, разорили наши фермы и депортировали, загнали в газовую камеру и сожгли маминых подружек, сестер Лазарович, и всю их семью, кроме одного брата в 1942-м. Доктор одет в белый халат, застегнутый на все пуговицы, но, когда он приходит к нам домой – это если у меня высокая температура и я не могу выйти, – на нем костюм, галстук и пуловер с треугольным вырезом. Я так и вижу его ручку с золотым пером, его кожаную сумку, из которой он достает стетоскоп и бланки рецептов. Он ни добрый, ни злой. Он – Доктор. У него большая семья, которую он возит в огромном «Мерседесе». У мсье Гориуса, аптекаря, тоже есть «Мерседес», но семья у него вряд ли большая, потому что в его машине только два места. Однажды мсье Гориус предложил мне выбрать между сиропом от кашля и мазью от геморроя: на то и другое вместе у меня не хватало денег. Такую дилемму Корнелю не пришло в голову положить в основу ни одной из своих пьес, а зря: что важнее – счастье горла или спокойствие ануса? Мазь, надо полагать, была для отца. Я ушел с пустыми руками. Мама была вне себя. Мы сменили аптеку. Мазь. Само это слово уже лечит. Я люблю мази. Люблю тюбики и баночки темного стекла, в которых их держат пленницами, их жирную маслянистость, иногда чуть липковатую, их цвет бледного грима, а больше всего их запахи – эвкалипта, камфары, горчицы. Мама подходит ко мне, садится на край кровати, расстегивает мою пижаму. Берет кончиками пальцев немного мази, согревает ее и бережно, нежно втирая, размазывает по моему тощему, кожа да кости, торсу. Я сразу чувствую благодатный ожог, и острый дух леса, полного запахов смолы и ментола, разливается по комнате. И от этого аромата, от теплого укуса мази, проникающей до самых моих забитых мокротой бронхов, от ласкового присутствия мамы, от этого бездельного дня – ведь я в очередной раз не пойду в школу, смогу читать досыта, и дремать, и мечтать, и видеть маму каждую минуту в эти дневные часы, когда она обычно бывает одна, – я уже чувствую себя лучше.
Тюрьма
Prison
Тюрьма – закрытый котел, в котором томятся тела и души, мечты, терзания и муки. В ней проводят недели, месяцы, годы. В ней едят. В ней спят. Учатся. Забывают. Переживают. Разлагаются. Падают и поднимаются. Испражняются. Дрочат. Иногда даже совокупляются. В ней пытаются убить время. И все же тюрьма не чудовищна. Мы ее сотворили. Она создана по нашему образу и подобию. В сущности, она для человечества – то же, что квинтэссенция для запаха: концентрированный абсолют. Почти двенадцать лет я по несколько раз в неделю бывал в тюрьме, давал уроки. До 2000 года. С тех пор она живет в глубинах моего существа, моих чувств, да и моего разума, живет и не уходит. А я и не пытаюсь ее изгнать. Она из тех мест, что имеют свой запах: в больнице пахнет чем-то замороженным, в доме престарелых – прозрачным бульоном и недвижными телами, в спортзале – ногами, потом и пористой резиной ковриков. Вот и тюрьма – из таких. Дурак сострит: мол, в ней спертый воздух. В общем-то, так и есть. Скажем, скорее, запертый. Это состояние, по сути, полная противоположность человеческому – ведь мы по жизни кочевники, странники, скитальцы, свободные люди. Тюремный мир и сам принцип застенка порождают поведение, только им свойственное, патологии, которых нигде больше не встретишь, и специфические запахи. Все здесь притушено, приглушено, придушено. То, что за пределами тюрьмы обретает свободное устремление, за этими толстыми стенами застаивается, за высокими окнами, в тесном зарешеченном пространстве. Зажатые, приниженные, замедленные – запахи жизни в тюрьме теряют октаву. Они тускнеют, они не могут звенеть как должно. Едва попав сюда, они размываются, рассеиваются. На них давит патина старых стен, липкие, сколько их ни мой, полы, уныло облупившаяся краска, тщетно подновляемая каждую весну. Как и люди, которым эти запахи принадлежат, они больше не стремятся приодеться и прилично выглядеть. Они отрекаются от собственной природы и, смирившись, становятся однообразными. Вот что, наверно, лучше всего характеризует запах этих мест, призрачно присутствующих в нашем мире: запахи перестают быть собой и отличаться друг от друга. Они забывают себя. Сдаются. Запах тюрьмы – согбенный запах.
Пуловер
Pull-over
Одежда хранит память о тех, кто ее носил, – хранит и вдруг расстается с ней, без предупреждения, грубо, что в порядке вещей. Да, предательства неодушевленной материи бывают порой куда хуже тех, в которых повинны люди. Мы носим на своих телах ткани, шерсть, меха, которые знают нас до тонкостей, вдыхают нас и становятся на нас похожими, в их складках мы оставляем запах нашей кожи, ее отпечаток и ее дыхание. Так я храню старый пуловер, который носил мой дядя Деде, когда приходил в наш дом делать ремонт. Десять часов в день работы бок о бок, пыль, строительный мусор, известь, раствор, синие «Голуаз» и пиво на всех. Это уже второй дом, в котором мы работаем вместе. Первый мы отремонтировали втроем. Мой тесть Яшу был за прораба. Мы с дядей – разнорабочими. Счастливые воспоминания. Яшу скончался несколько лет спустя. Однажды утром я, сварив кофе, как обычно, жду дядю. Он не придет: он умер ночью. Его пуловер лежит на стремянке. Почти живой. Усталый. Местами порванный. С двумя пятнышками свежей известки, въевшейся в волокна ткани. Я зарылся в него лицом, словно обнял любимого человека, и заплакал. Дядя – вот он, здесь, живее живого, в холодном запахе сигарет с приглушенными нотками дешевого лосьона после бритья, цементной пыли, обойного клея, – рожденный алхимией, которую невольно впитала одежда. Выбросить пуловер я не могу, носить тоже. Убираю его в шкаф на самый верх, но часто извлекаю оттуда, чтобы потрогать, вдохнуть и так вновь обрести дядю, которого очень любил с детства, ведь я вырос на его глазах, он был мне как второй отец, но свободный от всех отцовских забот и тревог, и поэтому легче и веселее отца. Пережить утрату – все равно, что бросить пригоршню жизни в глаза смерти. Знаешь, что она ослепнет лишь на краткий миг, но от этого легчает. И можно жить дальше. Однажды я подношу пуловер к лицу – и ничего. Все выветрилось. Дяди больше нет. Это просто старая тряпка, без памяти, без души. Я все же его храню. Он по-прежнему там, наверху, поближе к небу, в шкафу на чердаке.
Затхлость
Remugle
Тесные ряды учеников под косым дождем, в самые унылые месяцы детства, октябрь, ноябрь или март, когда нет снега, все мокро, хоть выжимай, и холодно. Отменяется прогулка в интернате в среду после обеда, когда непогода ливнями обрушивается на Люневиллуа. Что поделаешь, не пройтись к Жоливе, Шантэе, Птит-Фурасс и Меонкуру, не побыть хоть немного на природе, не посмотреть на луга, на изгибы реки, чтобы было чему сниться, не увидеть бело-черные шкуры коров, их вымя, полное теплого молока, не вдохнуть запахи открытых сараев, их сено-соломенного нутра. Не разглядеть вдали вырисовывающуюся над цепью Вогез синюю трапецию горы Донон[15], компаса моего сердца – через нее я познаю свои корни, она успокаивает меня и радует. Мы покидаем интернат под добродушным взглядом мсье Шапото. Надзиратель ведет нас в муниципальную библиотеку, притулившуюся к башням из песчаника церкви Святого Якова. Там мы проводим, кажется, три с лишним часа. Жан-Кристоф Вембуа по прозвищу Титька, который по своей воле уйдет из жизни в девятнадцать лет, Эрве Лельевр, Янник Вейн и другие. Склонив головы, читаем или дремлем, кто как. В тишине, приглушенной рано сгущающимися сумерками, покрывающими читальный зал глазурью серого света. Под ногами – широкие половицы без лака. По стенам – книги, большие и маленькие, старинные и современные, жмутся друг к другу, как зябкие соседи. Я читаю до мух в глазах. Не замечаю времени. Не помню, где я, сколько мне лет. Переворачиваю страницы, вдыхая запахи старой бумаги, свежей типографской краски, обложек, припорошенных пылью – и пылинки, взлетая, пляшут под абажурами ламп. Тяжелые тома пахнут сыростью, их редко открывают, и они, видно, обижаясь на это, исходят крошечными слезами. Наверное, здесь, в этой допотопной библиотеке, в глубокой тишине, среди отсутствующих лиц моих товарищей и их заскучавших тел, охмелев от затхлости – ведь именно так называется запах старых книг, но я узнал это много позже – я и вошел в чудесную страну фантазии с ее тысячей тропок, вошел, да так и не покинул ее больше. Я сам – как книги. Я весь из книг. Я, читатель и сочинитель, здесь живу, это и есть моя суть.
Пробуждение
Rveil
Я покидаю ночь с изумлением ожившего. Проходит совсем немного времени, и этот обыденный момент уже кажется мне недолгой, но отчего-то вдруг затянувшейся милостью. Я боюсь, что это кончится, и, как-нибудь вечером, погасив свет и поцеловав ту, кого люблю, я, сам того не зная, совершу эти привычные жесты в последний раз. Нет, это не страх умереть, скорее – ужас не жить. Ведь для меня это означает – блуждать одному по незнакомым дорогам, либо по тропам смерти, никому не ведомым, а мне представляющимся тупиком, из которого меня не вывести моим отмершим чувствам и безвозвратно угасшему сознанию, либо по дорогам жизни, но в отсутствие любимой – жизни убогой, рассеченной по живому, кровоточащей. Поэтому, когда я просыпаюсь, мало-помалу обретая свое место в еще скованном сном мире, в сердце утра и нарождающегося света, мои руки, точно намагниченные, тянутся коснуться лежащего рядом тела, и я ощущаю тепло этого тела, медленный ритм его дыхания, оно ведь еще погружено в сон, не подозревая, что я уже проснулся – я придвигаюсь, прижимаюсь теснее, кожа к коже, впитывая ночную теплоту, запутавшуюся в складках простыней и в более тонкой легкой ткани ночной сорочки, окутывающей его, оставляя открытыми плечи, руки, начало груди, на которой мои пальцы ощущают жизнь и биение крови. Вот они, мгновения высшей близости и любви, которой не нужно слов. Запахи тел двух любящих, проживших вместе, но, увы, поодиночке, каждый в своем сновидении, ночные часы, сродни тем, что витают в волшебных сказках, где принцессы, спящие вековым сном, ждут поцелуя своих принцев. Я вдыхаю тепло замершей жизни, исполненной сна, который расслабил тело, разгладил его, точно кусок мягкого шелка, высвобожденного из ящика комода. И я хочу – еще прежде, чем любимая откроет глаза, прежде, чем увидит меня, улыбнется мне – заключить ее в объятия, вдохнуть запах ее кожи и волос, ощутить наше с ней общее бытие в мире, залог того, что это пробуждение станет новым началом нашей любви, возрожденной зарей долгой гармонии.
Реки
Rivires
Наши босые ноги на краю плотины, мы, счастливые пацаны, нависаем над водопадом и глохнем от грохота. 10-скоростные «Пежо» – наши велосипеды – ждут нас, пристегнутые двойными замками к ограде трансформаторной будки. Выше течет Мерт, точно сытый удав, неспешный, тучный, раскинувшийся между боками Запруды и Вороньим островом. Здесь глубоко. И мы представляем себе всех очарованных и безучастных утопленников[16], влачащих свой жребий в этих водах. Дальше – странное бетонное сооружение, что-то вроде пологой горки шириной с кровать и длиной около тридцати метров. Вода здесь быстрая и мелкая – едва лижет нам икры – колышет зеленую бороду длинных водорослей, придающих ставшему прозрачным потоку искристость горного ручья. Мы ловим рыбу в пенных бурунах, оглушающих нас и окатывающих дождем брызг, от которых пахнет тиной и теплой водой. Посудомойка. Ниагара. Замбези. Приключение, да так близко – рукой подать. А вечером мы возвращаемся, еле живые от усталости, с сеткой, полной красноперок и уклеек, такие гордые, будто всю семью прокормим нашим уловом. Край воды, живой и мертвой. Реки да каналы окружают мой город и пронизывают его, а когда-то они затопляли его каждый год в конце зимы, выплескивая на улицу Сольси Питу, где жила моя тетя Полетт, и на улицу Мулен широкие илистые ручьи, по которым жители добирались домой на лодках. С каждым местом в моей памяти связаны свои «мэтры». С горловиной Попей – папаша Фраш, открывший мне Санон. Медам Ги и Поли – единственные женщины-рыбачки в Домбале – с Понсе, папаша Берже – с Большим каналом, папаша Идон – с Малым и тонкостями ловли на конопляное семя, мой дядя Деде – с заводями Мерта. Для рыбной ловли необходимы терпение и смекалка. Прежде чем закинуть удочку, надо уметь вчитаться в воду, почуять ее, измерить ее пульс, прикинуть глубину, разгадать ее козни и ловушки. Я – влюбленный, не знающий недостатка в возлюбленных. С завязанными глазами я мог бы назвать их поименно, лишь чуя их дыхание. Тина и душок дизельного топлива – у канала между Марной и Рейном, сухой тростник, миазмы нечистот, черный ил – у Понсе, неуловимая зеленая свежесть Малого канала, дух влажной земли на высоких глинистых берегах Санона, то сладкая, то горьковато-соленая истома Мерта, возле которого растет солец-трава – мы едим ее сырой, как дикий щавель. Я люблю союз полей, лесов и вод. Реки успокаивают меня и окрыляют. Вода с ее грезами, наверно, лучше всего подходит моей переменчивой натуре – ведь и для меня самого моя суть неуловима, она утекает сквозь пальцы. Я помню, какое это было счастье пожить в городах, окруженных реками: Фюме в Арденнах – мертвый город, когда-то славившийся шиферным карьером, окаймленный Мёзом у подножия лесов, Безансон, надевший обручальное кольцо Ду, Страсбург и быстрый Иль. Быть может, во мне живет древняя память об осадных страхах, заставляя парадоксальным образом ценить эту естественную защиту, эти бурные, богатые рыбой рвы, за которыми город спит спокойно. А еще я думаю – и не раз имел случай в этом убедиться – что эти реки, не подавая виду, приносят мне какими-то внезапными дуновениями от их течений вести из родного, на время покинутого края. В эти странные мгновения смешиваются географии сегодняшнего дня и памяти, и у меня нет больше возраста, и кто-то играет со мной через эти обостренные чувства, заставляя одновременно печалиться о том, что я здесь, и порадоваться, что я могу, за тысячу миль от места моего рождения, собрать эти фрагменты запахов и, как терпеливый археолог черепки, склеить свою давнюю прерванную жизнь.
Класс
Salle de classe
Чернила оставляют на наших пальцах полицейские метки; на перемене холодная вода из крана на бетонной галерее смывает их синими каплями. Мы пишем, высунув языки от усердия, затянутые в блузы, которые нам с каждым месяцем все теснее, локти ровненько лежат на парте, смоченное слюной перо скользит по бумаге в клетку. Нажим, тоненько. Сосредоточенные жесты средневековых переписчиков. Мел, блуза, аспидная доска, перо «Сержан-Мажор», розовая промокашка, чернила в фаянсовой чернильнице, вставленной в деревянную крышку парты. Мифология коммунальной школы делает нас идеальными моделями для воскресных Дуано[17], а мы вдобавок упоенно нюхаем, а то и едим маслянистый белый клей, пахнущий свежим миндалем. Мсье Франсуа курит сигареты, изящно проводя рукой по своим серебристым волосам. Вызывая нас к доске, он становится в позу монарха. Я боюсь до жути, даже когда знаю ответы. Такого страха я никогда больше в жизни не испытывал. Разве что, может быть, немного позже, в четвертом классе, с мсье Геталем, никогда не улыбавшимся учителем математики: у него лицо совершенного нациста, седые, стриженные почти наголо волосы и невыносимо стальные глаза, как у Лоуренса Оливье в «Марафонце», хотя на самом деле в неучебные часы он, наверно, очень славный человек. Когда мы «плаваем», мсье Франсуа встает и подходит к нам. Он берет двумя пальцами тонкие волосы у виска и тянет вверх, медленно-медленно, по мере того, как мы все больше запутываемся. Больно. Бль нарастает, усиливается. Привстать на цыпочки, чтобы хоть чуть-чуть ее ослабить. Попытаться взлететь. Пол в классе из грубых досок, их моют каждую неделю водой с жавелем. Дерево бледное, истертое, выщербленное башмаками не одного поколения учеников. В доски въелся запах хлорки, но они еще пытаются напомнить о своей природе робким душком древесины – точно далекое, почти замершее эхо дерева, из которого их сделали. Случись мне еще и сегодня увидеть где-нибудь такой пол – в заштатных деревенских кафе, в храмах – ноги сами собой приподнимаются на цыпочки, а пальцы машинально поглаживают виски.
Ель
Sapin
О жителе Вогез говорят, что он человек лишь наполовину, а наполовину – ель; так посмеиваются над его нравом колючки и молчуна. Вдали от еловых лесов я живу замедленно. Чувствую себя вырванным с корнем. Мне не хватает их круглогодичной зелени, их раскидистости, глянцевитого запаха смолы и безобидных иголок. Мой отец до войны был лесорубом, крестьянином, рабочим на химзаводе. После войны жизнь заставила его пойти в полицейские, но леса свои он не забывал никогда. В них он дома. Темные леса, полого поднимающиеся к утесу Суа, руины замка Пьер-Персе, перевал Шапелотт, где было столько боев в Первую мировую, что там до сих пор повсюду их следы. Отец рубил лес в долине Плена, речки, богатой форелью и гольянами, у старой римской дороги вдоль берега, под сенью Донона, на вершине которого стоит храм из песчаника, посвященный Веледе. Это один из самых больших хвойных лесов во Франции. Никуда здесь не деться от елей, старых и молодых, черных, огромных, почти по-каролингски величественных, рядами выстроившихся вдоль тропинок. Пикник. В малолитражку загружаются корзины, одеяла, складные стулья, спиртовки, салатницы, шары для игры в петанк и ракетки для бадминтона. Едем недалеко. Мы возвращаемся в места моего детства, к ручейку в сердце леса, куда ведет дорожка из розового песка. Наш уголок. Солнце прячется за густыми ветвями. Тень пахнет растительными соками и мхом. Если опустить пальцы в ручеек и долго там держать, они синеют от холода. Там же хорошо наскоро охлаждать вино и пиво. С нами часто приезжают дядя Деде с тетей Жанин и другая моя тетя, Полетт, которая, на моей памяти, всегда была вдовой: ее муж Ненесс погиб до моего рождения, его убило током в мастерской на соляных копях. На фотографиях формата 6 9 с зубчатыми краями мы позируем, рассевшись вокруг раскладного стола. Улыбки, майки, раздутые желудки. Ели окутывают нас своими низкими ветвями. В этом мире покоя гудят пчелы, ползают слизни, высятся фараоновские муравейники, пролетают сойки, роняя порой белое с серой каймой перышко, которое я втыкаю в волосы. Я раскапываю мох, он даже в самые жаркие летние дни хранит немного влаги снизу, в торфяной ноздреватости. Вырываю зеленые подушечки и кладу их себе на колени. Здесь я могу хоть весь перепачкаться, валяться в папоротниках, для смеха вымазать щеки черноземом, пахнущим корнями вереска. Мне все можно. Я глажу стволы елей. Ладони становятся липкими от смолы, похожей на слезы. Отколупываю душистые кристаллики, точь-в-точь – конфетки от кашля, слипшиеся на ранах дерева. Дятлы долбили стволы своими злыми клювами. Зеленые дятлы, пестрые дятлы, большие сильные птицы. Время стоит. Я слышу смех взрослых, у них – триумф пищеварения. А я ем, что найду: плоды бука, лесную малину, чернику, ежевику, молодые почки. Мне хочется быть косулей. На обратном пути я засыпаю в машине и вижу лесные сны, закутавшись в одеяло, на котором еще надолго останутся еловые иглы и кристаллики песка.
Томатный соус
Sauce tomate
Мы живем запасами. Огород дает овощи, сад – фрукты. Птичий двор и крольчатник – мясо и яйца. Остальное покупается два-три раза в год, в колоссальных количествах: половина свиной туши, которую разделывают, солят, коптят, замораживают, превращают в сосиски, паштет, колбасу; а еще – сахар, рис, чечевица, макароны, как будто завтра война. Запасать – акт выживания, неподвластный разуму рефлекс у нас в Лотарингии, этом половике Европы, о который все армии мира когда-нибудь да вытирали свои сапоги, а то и зады. Мы едим свежее летом, а весь остаток года – из банок. Банки «Парфе» стоят рядами на полках в погребе. Неподвижный парад. Безупречный строй. Эти прозрачные урны не делают секрета из своего нутра: горошек, фасоль, морковь, крольчатина и курятина в желе, репа, кислая капуста, бобы, огурчики, вишня, смородина, малина, томатный соус. Летние работы – сбор и заготовка, дел много: обрубать головки или хвостики, резать, давить, извлекать косточки, чистить, варить. Из сухой земли, покрытой бесплодной с виду светлой коркой, растет буйная зелень – это фасоль, высоченная, поддерживаемая длинными палками, которые мы называем шестами. Ниже – карликовый лес помидорной рассады. Еще ниже – ползучие, скромные – кабачки и тыквы. Поливать – тоже работа, дважды в день, на заре и в сумерках; полив раскрывает сокровенность посадок, как будто их окатили голенькими, и вода, растекшись по ним, пропиталась их запахами. Тут особенно помидорная рассада проявляет ароматические таланты – словно вдруг попадаешь в сад провансальского кюре, тогда как салат источает едва уловимую свежесть, огурчики – острые пролетарские запахи, листья фасоли – испарину джунглей. Урожай. Помидоры, налитые, местами лопнувшие под напором плоти, круглые, бокастые, большие и поменьше – все хороши, все сложены в плетеные корзины. Во двор за домом, в прохладную тень северной стороны, отец выносит большую горелку и, поставив ее прямо на землю, соединяет с газовым баллоном. Мама моет жестяные кастрюли, такие большие, что в них можно сварить меня. Я наблюдаю сверху, облокотясь о подоконник открытого окна кухни. Ацтекская резня: у мамы руки в крови. Ее нож режет, рубит, кромсает, крошит мякоть, обнажает ячейки и зернышки. Помидоры плачут соком. Мне представляется месиво, и хочется погрузить в него руки. Кастрюли полны. Все шепчет, плещет, бормочет, кипит. Мама помешивает деревянной ложкой, пробует с пальца, приправляет, напевает «Que sera sera»[18]. Отец, аккомпанируя ей свистом, устанавливает стерилизатор, цинковый котел, похожий на цилиндр для ярмарочного великана. Помидоров больше нет. Осталась только их кровь, перемешанная, единая, горячая, ее пары поднимаются ко мне – упоение. Сладость и солнце. Конденсат лета. Половником мама наполняет банки, которые подает ей отец, он же надевает каждой на горлышко резиновое кольцо, закрывает и помещает в стерилизатор. Парит сарыч над нашими головами – математический полет в поисках теоремы круга. Потом я буду играть с поливальным шлангом и сделаю радугу. Потом пойду на рыбалку. Потом, когда вернусь, вылижу еще теплые кастрюли. Потом – «Que sera sera»!
Мыло
Savon
Блок идеальной формы. Большой зуб зверя, он один уцелел из сгинувшей челюсти – если его поскрести, он оставит под ногтями немного своей эмали и пульпы. Что-то неуловимое, скользкое, убегающее в воду маленькой запруды для стирки, которую оно уже окрасило светло-молочным оттенком. Женщины перебрасываются репликами. Старые, волосы у них желто-серые и собраны в пучки. Все женщины старые, когда ты ребенок, но эти еще старее, они родились в начале ХХ века, их жизнь прошла в кровавых мясорубках войн. Запруда пахнет баней, чистотой прозрачных пузырей, которые вздуваются порой под ударами валька и сразу лопаются прямо у меня в пальцах. Я барахтаюсь в воде маленькой рыбкой под взглядами стирающих женщин, весь в брызгах. Их руки выкручивают простыни. Утирают пот со лба. Они смеются, тараторят, сплетничают, ни на минуту не прерывая работы. Плавать я не умею. Мои ноги упираются в земляное дно запруды. Я их не вижу. Не вижу своего тела. Его съело растворившееся в воде мыло. И запах – простой, первобытный, чуть холодноватый, почти больничный – наполняет меня, словно я тоже подлежу стирке. Бабушка вытаскивает меня из воды. Легко поднимает. Я ничего не вешу. Я еще совсем маленький человечек, и она вытирает меня полой своего синего халата. Я стучу зубами. Кожа покрылась пупрышками и дрожит. Я обнюхиваю себя. Я стал мылом. Бабушка одевает меня. Бегу на солнышко. Щурю глаза. Как славно окутывает дневное тепло! Рядом – мост Воров, такой узкий, что двоим не разойтись. Как раз тут вода из запруды выливается по чугунной трубе в Санон. Длинная белая полоса, точно Млечный Путь в галактиках водоворотов. Жидкий предмет бесконечного любопытства удивленных мальков, которые устремляются туда, резвятся, бьются – нервно, неуправляемо, весело – и умирают в нем, и остаются только неподвижные чешуйчатые былинки, которые уносит течение.
Женское лоно
Sexe fminin
О чем думают мальчики при виде девочек? Конечно же, об этом. Наше человечество двойственно, две равные тайны присматриваются друг к другу, соприкасаются, смешиваются, никак от этого не меняясь, – или совсем чуть-чуть. Хоть мы и едина плоть порой, наши тела все же различны. Мужчина – жар и огонь, женщина – влага и холод, согласно древней теории телесных жидкостей, ложной, конечно, но такой мило поэтичной. С детского сада я хочу узнать, что находится у девочек между ног, и выдумываю игры и фанты, чтобы иметь возможность засунуть пальцы в ситцевые трусики моих подружек. Моя пятилетняя рука гладит мягкую округлую выпуклость, разделенную посередине бархатистой вертикальной линией – у этой границы неведомой страны я, из осторожности или из страха, предпочитаю остановиться, не продолжая своего исследования. Жоэль, Кристина, Вероника, сладкие спутницы, пахнущие кремом «Нивея», теплом детской кожи и стиральными порошками, которыми пользуются их матери: «Паик», «Корал», «Ариэль». Потом – долгая пустота. Стыдливость, не столько моя, сколько моих подруг, да и раздельное обучение в начальной школе, отдаляют нас друг от друга. Коллеж вновь объединяет нас, но мы уже другие. Мы, мальчики, козыряем на школьном дворе своей силой, девочки же шепчутся, собравшись в кружок, и кидают на нас насмешливые взгляды. «Пахнуть девчонкой» становится для нас оскорблением, и мы передаем из уст в уста шуточки, разумеется, никогда и никем не проверенные, о запахах их лона, что-де сродни морскому приливу, несвежей рыбе, розовым и серым креветкам. Брезгливые мины напоказ – ко всему прочему у них, оказывается, время от времени течет кровь из той самой щели, о которой мы помним разве что нечто самое смутное. Сабина в оранжевом купальнике, которого раньше не носила. Первый выход в бассейн. Мальчики и девочки переглядываются, пытаясь разгадать друг друга. Нам пока козырнуть нечем. У нас, мальчишек, подростковые, еще бесполые тела, а у многих девочек уже растет и набухает грудь. Нырнуть, выйти, всем по очереди. Сабина ныряет и выходит из воды. Ее мокрый купальник больше не оранжевый. Он стал прозрачным. Над ляжками проступил каббалистическим знаком черный треугольник. Она замечает это и, сконфузившись, прикрывается обеими руками. Слишком поздно. Мой рот так и остался открытым. Ошеломление. Мы помним точно, в какой миг происходит наше посвящение. Еще и сегодня он стоит у меня перед глазами во всех подробностях. Он стал путеводной нитью в поиске, по сей день не исчерпавшем своих услад. Нерваль и Готье исколесили Европу в погоне за светлыми волосами. Я же посвятил годы открытию женского лона. Не столько в поисках истоков, не столько чтобы познать то, что Поль Клодель назвал охотничьим термином, потому что, думается мне, его не любил, не уважал, да и не знал толком – нора рода, сколько для того, чтобы вновь и вновь очаровываться нюансами формы, сладости и запаха. Ибо ни одно лоно не похоже на другие, у каждого свое благоухание, и поцелуи, запечатленные на нем, как дар или утешение, словно пытаются приручить спящую красу, что живет там, в незабываемом запахе, который у разных женщин походит на древесину кедра, поджаренный хлеб, неуловимую кислоту цитруса, мускус меха некоторых диких зверей, молоко, солод, карамель… но все это смягчено фоновыми нотками, шепотом запахов: они хотят, чтобы их ощутили и прониклись ими, и потому требуют прильнуть ноздрями и губами, поцеловать и вдохнуть, закрыв глаза, с коленопреклоненным смирением молящегося перед богиней. Пальцы и губы, что грезят на женском лоне, еще долго-долго хранят память о его запахе, словно он не хочет умирать, как не хотим умирать и мы сами, разве что, быть может, в самом прекрасном сне между женских ног.
Водоочистная станция
Station d’puration des eaux
Никто больше не перепрыгивает через сточные воды. Персонаж рассыльного, именуемый saute-ruisseau[19], приказал долго жить. Его встретишь теперь разве что в романах Бальзака. Мир его праху. Слово благополучно почило. Канализация победила его. Клоака. Изобретение, кстати, послужившее сколько для гигиены тела, столько же и для вреда душе: задуманное ради санитарии, оно способствует лицемерию, ведь мы так любим скрывать. Лгать самим себе. Производим все больше отходов, но прячем их под ковер. Сточные воды. Нечистые, грязные, мутные, тухлые. Свидетели обвинения. Все наши жизни можно прочесть в этой жиже, но кто и когда осудит их? Город облегчается в трубы и исторгает отходы далеко за своей чертой, в сточные водоемы, свои отхожие места – и сам же отворачивается, зажимая нос. Бассейны без пловцов и инструкторов. Под открытым небом. Посреди красивых, ухоженных лужаек. Что делают с водой на очистной станции – простому смертному неведомо. Он может разве что увидеть сквозь решетку – хотя любопытные здесь редки – пузырящуюся грязь, похожую на забродившее сусло. Цвета здесь могут отпугнуть и самого отважного: комковато-коричневый, бурый, болезненно-бежевый, поносно-охряный, кишечно-серый. Патологическая, тревожная палитра, как будто жизненный прогноз целого мира под вопросом. Без сомнения, это должно ужасно вонять. Да ничего подобного! Не всяк монах, на ком клобук – цвет цветом, а запаха нет. Надо просто суметь разглядеть в чертах Чудовища душу Красавицы. Кому это под силу? Всем нам, если сможем забыться. Лагуна. Испокон веков лижет стены гибридная вода – полупресная, полусоленая. Подточенные фундаменты облезлых palazzi[20] со стрельчатыми окнами. Замшелые мосты. Кирпич набережных – века сделали его губчатым, точно больные кости. Сваи на причалах, выкрашенные приливами и водорослями, acqua alta[21], затопляющая в ноябре неровные мостовые piazze[22] и набережных, висконтиевская жара в августе, которая золотит юные тела, улыбки матерей, пляж Лидо. А еще, утоляя жажду, город по ночам пьет прямо из каналов; туманы, ветры, морские птицы, голуби-рантье. Chiese, vaporetti[23]. Маленькое перманентное искусство кино. Декаданс продолжается – а значит, его уже надо называть как-то иначе. У любого государства по одному посольству в каждой зарубежной стране. У Венеции же их повсюду – по тысяче. Светлейшая республика, любившая пригоршнями бросать золото, чтобы ее помнили и порой за нее умирали, не поскупилась и здесь: каждая водоочистная станция – ее тайная миссия. Вы это знаете – и ладно. Паспорт и визу выдают всем, кто захочет, не заставляя ни ждать, ни тратиться. В любое время года. Персонал здесь так скромен, что его просто нет. Сколько раз, остановившись возле моего Малого канала, я вдыхал аромат Венеции в запахах сточных водоемов. И сколько раз на Большом канале Города дожей или на его улицах вспоминал я водоочистную станцию Домбаля, и мой городок, да и весь край, где родился и вырос: что ближе сердцу, чем родная глушь?[24] География – столь древняя наука, что умеет порой и слукавить. Она играет с нами в игры. Тасует места, как тасуют карты. Вот дамы – королевы – встречаются с валетами. Те тушуются, краснеют, опускают глаза долу и, вдыхая их ароматы, предаются мечтам. А дамы не возражают, потому что, в конце концов, что знаем мы о будущем? Кто будет завтра королем? А кто – никем?
Земля
Terre
Я люблю рыть ямы. Люблю закапываться. Это хорошо делать весной или осенью. Летом я предпочитаю рыбалку, да и земля все равно сухая и твердая. Она мне не поддастся. Я разве что поскребу ее, не более того. Другое дело – март или ноябрь. Копай досыта. Эта тяжелая земля уже пропиталась водой настолько, что ее можно рыть. У меня есть инструменты. Прежде всего, мои руки. Еще – заступ, лопата, мотыга, лом. Я рою. Рою в нашем саду, перед посадками, после сбора урожая. В «ХХ веке» Бернардо Бертолуччи два мальчика засовывают свои членики в мышиные норки, и кто-то из них говорит, что «трахает землю». Я же хочу закопаться в нее весь. Исчезнуть в ней. Не умереть, нет, просто спрятаться на время. Познать ее. Побыть в ее чреве. Укрыться. Земля в наших садах черная, не такая плотная, как красная глина Рамбетана или берегов Санона. Она поддается, почти не сопротивляясь. Я нахожу черепки, головку глиняной трубки, камни, обломок штыка времен Франко-прусской войны, мышиные кости. Я роюсь часами в запахах земляного нутра. Часто обнюхиваю свои руки и стены ямы, в которую мало-помалу погружаюсь. Иногда даже пробую землю на язык и, выплюнув, еще долго ощущаю во рту, между зубами, ее частички и вкус разных металлов. Закончив, я в ней и остаюсь. Сижу, подтянув колени к подбородку, под рукой кое-какие припасы – плитка шоколада, кусок хлеба, фляжка с водой. Я не скучаю. Мне спокойно. Я в своей норке. Много позже я прочту «Нору» Кафки. Но я-то здесь – в самом деле один! Никто не роет рядом. Мне не страшны соседи. Однажды мне удалось вырыть яму много глубже прежних, и я был в восторге от этой глубины, превзошедшей все мои надежды. Здесь довольно тепло, и я счастлив. Земля хранит теплоту моего тела. Мне вспоминаются кроты, их густой мех, сильные лапы. Слепцы, обреченные рыть и рыть без конца. Жизнь под землей, в вечной ночи. Отец ставит на них капканы, у капканов мощные железные челюсти. Стены моей ямы вдруг, ни с того ни с сего, обваливаются! Я погребен. К счастью, под не слишком толстым слоем земли. Я не задохнулся. Даже не испугался. Земля повсюду, в волосах, на лице. Засыпалась за шиворот, под одежду, я чувствую ее кожей. Вот уж месть так месть. Земляной ливень. Черный снег, пахнущий холодом, корнями, гнилью и немного газом – так пахнут бриллианты, которые порождает тьма: трюфели. Я не хочу, чтобы меня сожгли. Я боюсь огня. Боюсь, что огонь вульгарно изжарит меня. Я не хочу пахнуть барбекю. Я не отбивная. И потом, пепел – что с ним делать? Урны смешны. Зачастую безобразны. Неужто все это большое тело – там, внутри? Нет уж, спасибо. Колумбарии похожи на кладбища для собак. Пусть лучше и в последний раз меня тоже зароют в яму. Я бы выкопал ее сам, да боюсь прослыть сумасшедшим. Похороните меня в Домбале, на той стороне от дома моего детства, от нашего сада. В пейзаже Рамбетана и Санона. Последняя воля. Земля одна и та же по обе стороны дороги. Черная, пахнущая огородом и славной сыростью. Я видел столько свежих могил и вырыл столько ям, что уверен в этом: копая, мы учимся умирать.
Липа
Tilleul
В одном четверостишии из «Цветов зла» Бодлер говорит о чарующем чуде, музыкальном, алхимическом и чувственном, оно свершается на исходе дня:
- В час вечерний здесь каждый дрожащий цветок,
- Как кадильница, льет фимиам, умиленный,
- Волны звуков сливая с волной благовонной;
- Где-то кружится вальс, безутешно-глубок[25].
Рядом с кладбищем, по ту сторону дороги в Соммервилле, напротив нашего дома высится двухсотлетнее дерево, которое мы называем «Большой Липой». Я вырос в тени ее кроны, обширной и величественной, восхищаясь ею круглый год: в зимнюю пору – графически безупречной брейгелевской или романтичной ветвистостью, а в летние месяцы – густой пеной листвы, шелестящей щебетом птиц, которые порхают в ней друг за дружкой, любятся или прячутся в гнездах. В весенние вечера ночником служит фонарь – его свечка озаряет нефритовую листву. Это похоже на сон с картины Рене Магритта или Андре Дельво, и кажется, что в ореоле молочного цвета, резко выхватывающем из мрака уходящий вдаль тротуар, вот-вот появится темная фигура в котелке или невесомая девушка с большими миндалевидными глазами, закутанная в длинные легкие покровы. Майские жуки слетаются на смертельный свет, а мы бежим ловить их, благо сегодня можно лечь и попозже. Ловить жуков легко, когда они падают и, ударившись о землю, лежат несколько секунд, оглушенные. Вот они, у нас в руках: их лапки приятно щекочут наши ладошки, а лаковые хитиновые крылышки так тверды. Завтра мы устроим с ними жестокие игры: они станут аэропланами и совершат круговой полет на продернутых сквозь их тельца нитках. Но пока у нас – время охоты под Большой Липой, цветущей и окруженной тучами пчел, которые тоже не хотят спать и не спешат в улей. Дерево раскинуло над нами огромную сень новенькой листвы, бледных лепестков и мучнистой тускло-желтой пыльцы. Вдыхая их запах, мы уже насыщаемся медом, хотя его еще только предстоит сделать – вот оно, преобразование материи, и пусть газообразное станет твердым, а эти долгие июньские вечера продлятся в морозном и снежном декабре, когда, покатавшись на санках и вернувшись домой, мы намажем на ломтики теплого хлеба это жидкое золото, запивая обжигающим отваром, в котором цветы липы, высохшие узницы, томящиеся в стеклянной банке, чудом мгновенной регидратации вновь раскроются всем телом в горячей воде, отдав ей, как дань, как приношение, все сохраненные ароматы.
Обжарка кофейных зерен
Torrfaction
Приехав в Нанси, я снимаю квартиру в старейшем районе, в доме 27 по Гранд-Рю. Мне девятнадцать лет. На дворе сентябрь 1981-го. Все здесь еще грязно, черно, семьи живут бедные, большие, большей частью – португальские. Кошки исповедуют свободную любовь и бесстыдно плодятся в тени церкви Сент-Эвр. Проститутки помоложе подпирают стены на площади Мальваль, а постарше, вроде мадам Аиды, с которой я люблю поболтать, но не более того, принимают в номерах. Я покинул родительский дом и интернат в Люневиле с дипломом бакалавра в кармане. Записался в университет, но бываю там редко. Я провожу время в барах, бистро, кафе, пивных. Мой день начинается рано – в «Эксцельсиоре», и заканчивается очень поздно, в том же «Эксцельсиоре». А в промежутке я успеваю посидеть в «Двух Полушариях», в «Баре Лицея», в «Институте», в «Ш’тими», в «Аке», в «Карно», в «Фуа», в «Коммерс», в «Герцогах», в «Баре при Рынке», в «Гран-Серье», «У Жози», в кафе «Пепиньер», в «Шлюзе», да всех и не упомню. Я пью. Мечтаю. Черный кофе, темное пиво, бокалы красного вина, грог, горькая настойка, чай, миндальный сироп, джин. На это уходит вся зарплата. Я мню себя поэтом и пишу скверные стихи в блокнотах на спирали. Читаю целыми днями в красивом, отделанном деревом зале муниципальной библиотеки «Историю моей жизни» Джакомо Казановы. Томики издания «Плеяда» тускло-голубого цвета. Я смотрю на лица прилежных девушек напротив, а на улице глазею на женские тела. Иногда следую за женщиной часами и пытаюсь представить себе ее жизнь. Бывает, в конце концов, ложусь с ней в постель, но это не главное. Так я и болтаюсь, точно цветок в проруби, два года. Работа надзирателя в лицее дает мне немного денег и кучу свободного времени. Я несчастлив, но сам этого не знаю. Мне бы авантюрной жизни, но я трусоват. Хочется по револьверу в каждом кармане, а стрелять-то не умею. Можно иметь душу бандита, а вот нутро – увы. Я – артист без искусства. Возможно, кончу пьяницей, или вором, или сутенером, или профессиональным бездельником. Я даже сделал попытку продавать контрафактные духи, откликнувшись на объявление. Встреча назначена на улице, где я живу, но в более пристойной ее части, у ворот Крафф. Я поднимаюсь по лестнице облупленного дома. На четвертом этаже мне открывают. Передо мной – я, но двадцать лет спустя: тщедушный малый с бегающими глазками, в неловко сидящем вискозном костюмчике с пятном на правом лацкане. Трогательный пройдоха объясняет мне, теребя галстук и отводя взгляд, что в моей будущей деятельности нет ничего нелегального хотя она и не вполне законна. Он вручает мне сундучок, в котором хранятся сорок образцов имитаций самых известных на сегодняшний день туалетных вод. Я не должен упоминать марки и названия оригиналов. Пусть клиент догадывается сам, ни в коем случае ничего не называть, ибо если назову – моя деятельность становится подсудной. Он желает мне удачи, 100 франков оговоренного заранее залога исчезают в кармане его брюк. Я снова на улице, обедневший на одного Корнеля[26], под мышкой – коробка с запахами. И вдруг я чувствую себя полным идиотом. Весеннее утро. Поливальная машина оросила тротуар, промыла водосточный желоб. Еще свежо. Голубое небо в орнаменте серых шиферных крыш. Из открытой двери соседней лавки тянет дымком – там обжаривают кофе. Теплый, чувственный, почти осязаемый дух. У меня нет сил уйти отсюда. Меня и околдовал этот запах кофейных зерен на раскаленном железе, и ошеломила, задним числом, сцена, разыгравшаяся только что в обшарпанной конторе. Я не жалею о сотне франков, совсем наоборот. Сколько лет подряд некоторые за те же деньги еженедельно ложатся на диван, чтобы немного лучше узнать себя. Я просто прошел ускоренный курс психоанализа. Мне явилась истина, нагая и ясная. Прохвост облапошил меня, но он же открыл мне глаза: я круглый дурак и забрел в тупик. Я расточаю время, как ничего не стоящую мелочь. Я и сейчас мало что стою, а скоро за меня вообще ломаного гроша не дадут. В свете этого дивного давнего утра, омытого солнцем, я долго стою на тротуаре, зажав под мышкой коробку фальшивых духов и вдыхая растворенный в свежем воздухе запах обжаренного кофе. Большие надежды утрачены, но я вновь богат живительной ясностью ума, словно окаченный холодным душем, изгнанный пинком под виртуальный зад из жизни, хозяином которой мне стать не суждено.
Горлица
Tourterelle
Близнецы Вагетт живут в большом доме, простой фасад которого выходит на улицу Габриэля Пери – это Елисейские Поля Домбаля, но ходить тут можно хоть в майке, хоть в спецовке. Дом принадлежит их деду, отошедшему от дел лабазнику, папаше Реслингу: берет и усы, дребезжащий голос и согбенная спина. Иконописный лик. Ездит на «Ситроэне 2 CV» или на велосипеде с мотором. В общем, идеальный дедушка, я о таком мечтаю, своих-то не застал в живых. За домом раскинулся сад, переходящий в огромный парк, ветви старых деревьев дотягиваются до Сите-Элиза и Клиники имени Жанны д’Арк, где февральским днем я появился на свет. В этом парке, нашем парке, летом и осенью мы смеемся, растем, прячемся, деремся, перемазываемся. Здесь мы бегаем, спим, разжигаем костры вдали от взрослых и их серьезных дел. Лет в тринадцать один из Вагеттов, Лоран, вздумал разводить в пристройке горлиц. Пары размножаются, дают потомство. Войдя туда, улавливаешь запашок помета, элегантный, едва заметный, тонкий дух соломы и перьев, застоявшейся воды, зерна, теплого пуха. Птичья аристократия. Никакого сравнения с нашим курятником – я его, впрочем, обожаю, – этакой «коммуналкой», в которой слишком много жильцов, не озабоченных чистотой и оставляющих повсюду дерьмо и огромные перья, но еще и, в порядке извинения за беспокойство, вкуснейшие яйца. Горлица – птица королевская. Она несется и живет в деликатности. Кладки высиживает постоянно, когда приходит пора, и мы щупаем под горячим брюшком матери хрупкие яички, в которых завязывается жизнь. В солнечных лучах хлипкая пристройка выглядит воркующей часовней. Тонюсенькие перышки кружат в миражах. Черные глазки осуждающе смотрят из-под серого оперения, прошитого вокруг шейки тонкими черными полосками. И правда, думается мне, немного стыдно – вот так совать нос в чужую семью…
Старость
Vieillesse
Их щеки похожи на фрукты, яблоки или груши, сморщенные и покрытые пятнышками от долгого лежания в фаянсовой салатнице, а пахнет от них воском – слабый душок, чудный, далекий и нежный, скорее память о запахе, чем сам запах. Смерть уже недалека, и тело трогательно изнурено, точно ткань очень тонкого белья, чья основа от множества носок, от множества стирок, истончившись почти до прозрачности, стала идеально мягкой, но (мы знаем) непрочной. Кожа, волосы, пальцы стариков похожи на это белье, которое мы хотим сохранить навсегда и окружаем заботой, лишь бы не порвалось. Мы, однако, знаем и то, что совсем скоро не сможем больше целовать их, скованных, осторожных. Поэтому и наши поцелуи, и их ответные при каждой встрече и каждом прощании полны волнения, обостряющего наши чувства: ведь мы с такой силой хотим навсегда запечатлеть все – малейшую улыбку, прищур глаз, слова, ласки, тепло, запах. Я помню из детства старух с лицами в кистах – мы называли их вишнями – и с серыми волосками, растущими прямо из подбородка; весь их облик не располагает к нежности, но если подойти поближе, почуешь запах миндального молока, апельсинового цвета, старой розы. Их безобразные лица и корявые тела – некоторые ходят, согнувшись под прямым углом, – так не вяжутся с этими девичьими, даже младенческими запахами, что порой кажется, будто запахи эти мне грезятся. Но вспоминается мне и другая старуха, ведьма-садовница – та, что мочится стоя, не приподняв ни длинных юбок, ни блузы, ни халата; взгляд подернутых белой пленкой глаз устремлен куда-то вдаль, руки так и сжимают лопату – облегчившись, она тотчас вновь принимается за работу. Встречая ее на улице, с тележкой, в которой она возит свои орудия и урожай, я ускоряю шаг – не то чтобы мне дурно от запаха застарелой мочи, пропитавшего ее одежду, нет. Я просто ее боюсь, ведь я еще в том зыбком возрасте, когда, уже уйдя от примитивного мышления, мы сохраняем его самые вопиющие суеверия. Хочется мне сказать и о стариках той поры, чьего общества я часто искал, восполняя отсутствие дедушек – оба они умерли задолго до моего рождения: Люсьен, отец моего отца, – в 1938-м от лейкемии, Поль, отец матери, – в 1957-м от остановки сердца прямо на улице, приступ, я не раз слышал в детстве это слово, так подходящее бесчинствам смерти, ее зверскому нападению из-за угла. Я люблю стариков. Все в них люблю. Их взгляды, их речи, их жесты, их разболтанные велосипеды, мопеды, их вспышки гнева, их мудрость. Одежду, которую они носят зимой и летом, заштопанные кофты, коричневые или цвета бордо, куртки и брюки из синего полотна, местами белесые от времени, потертые баскские береты – кожа внутри растрескалась, ведь она годами впитывала пот, и их незыблемые привычки в кафе, которых было много в Домбале в ту пору; люблю их, пропитавшихся запахами самосада, кожаного кисета, дешевого красного вина, шерсти, вдовства, моторного масла и костра. Так пахнет мой отец в последние годы жизни – за вычетом запаха табака, потому что он не курит. И мы, никогда раньше много не обнимавшиеся – отец вообще всегда чурался проявлений нежности – наверстываем упущенное. Я обнимаю его и когда прихожу навестить, и когда прощаюсь, и мне хочется растянуть эти моменты. Его тело стало худым и хрупким. Руками я чувствую его костлявые плечи – раньше тут бугрились плотной массой мускулы и жир. Я прижимаю его к себе. Много раз целую. Волнующее ощущение: как будто я обнимаю и обнюхиваю очень старого ребенка.
Путешествие
Voyage
Бодлер – снова он – отлично знал, что в склянках или в тяжелых локонах спящих волос могут умещаться целые миры. И я всегда вожу с собой его стихи, как вадемекум, который в любом путешествии лучше всякого туристического гида, ведь путешествовать – значит затеряться, освободиться от знакомого и возродиться вновь – уже без ориентиров, отпустить свою привычку приручать землю. Тогда дыхание новых стран ощущаешь как никогда свежо. Вот так сколько лет уже я часто теряюсь – и счастлив – на базарах Стамбула, Марракеша, Каира, Асуана, Тайбея, Хуараза, Шанхая, Денпасара, Бандунга, Лимы, Сайгона, Хюэ или Ханоя, Малатии, Хельсинки, Мериды, множества городов, больших и маленьких, знойных, как Диярбекир, прячущий свой табачный рынок и его ароматные золотистые груды в тени старого караван-сарая, или ледяных, как январский Краков, где я ищу на базаре, заваленном мехами, яслями из серебряной бумаги и мускусом, чем бы отогреть окоченевшие пальцы. Одни названия – поэмы. Запахи яликов уносят нас в сладостный дрейф. Два места привлекают меня, когда я путешествую; куда бы я ни приехал, я сразу направляюсь туда. Церковь, если я в христианской стране, и рынок. Церковь, ибо все они пахнут одним и тем же – холодным камнем, воском, миром и ладаном. Это, в каком-то смысле, мой дом, который повсюду со мной, я всегда «у себя» в этих знакомых образах, в спокойствии и тишине. А рынок – там я чувствую душу земли и кожу людей, плоды их трудов в ошеломляющей мешанине запахов, ужасных и восхитительных, сырого и жареного сала, мелиссы, кориандра, грубо настриженного ножницами, помета пленных птиц, парного мяса, жасмина, дубленых шкур, серы, корицы, розовых лепестков и потрохов, свежего миндаля и жареного, а еще – камфары, эфира и меда, сосисок и мяты, сирени, масла, супа, оладий, трески и осьминогов, сушеных водорослей и зерна. Нанизывая названия, вдыхая их слоги, я пишу большую поэму нашего мира и его глубинных желаний. Оголодавший Сандрар хорошо это понял в списках своих вымечтанных «Меню», которые он писал, дрожа от холода, в сердце Нью-Йорка, отторгшего его. У каждой буквы свой запах, у каждого слога – аромат. Любое слово вызывает в памяти место с его духом – запахом. И текст, сплетающийся из них мало-помалу, следуя прихоти алфавита и причудам воспоминаний, становится чудесной рекой – благоухающей рекой с тысячей притоков, рекой нашей пригрезившейся жизни, нашей прожитой жизни, нашей будущей жизни, которая, унося все дальше, открывает нам нас самих.
«Я знаю, что я жил, и, будучи в этом уверен, потому что чувствовал, знаю также, что больше не буду жить, когда чувствовать перестану».
Джакомо Казанова, «История моей жизни»
Серые души
Отрывок из романа
На правах рекламы
Перевод с французского Леонида Ефимова
Берта на кухне. Я не вижу ее, но чувствую, как она вздыхает и качает головой. Вздыхает, как только видит мои тетради. Какое ей дело, что я трачу свое время, марая их? Должно быть, ее пугают буквы, эти непонятные значки. Она никогда не умела читать. Для нее эти выписанные в ряд слова – великая тайна. Зависть и страх.